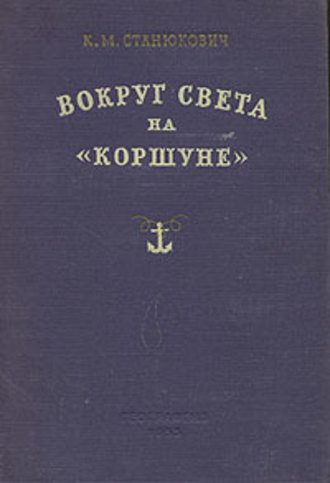
Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»
Глава девятая.
Возвращение на родину
I
Прошло еще семь месяцев.
За это время «Коршун» провел месяц на стоянке в Хакодате, крейсировал в Беринговом проливе и побывал еще раз в С.-Франциско, где Ашанин на одном балу встретился с бывшей мисс Клэр Макдональд, недавно вышедшей замуж за богатейшего банкира Боунта, и, надо правду сказать, не обнаруживал особенного волнения. И молодая миссис, по-видимому, довольно холодно отнеслась к Ашанину, несколько возмужавшему, с недавно пробившимися усиками и пушком на щеках, намекающим на бакенбарды, в только что обновленном шитом мичманском мундире и в эполетах, подаренных адмиралом. Они говорили несколько минут и разошлись, чтобы больше не встретиться, оба основательно позабывшие о прошлогодних клятвах в вечной привязанности.
Побывал «Коршун» и на чудном острове Таити с его милыми чернокожими обитателями и роскошной природой, заходил на два дня в Новую Каледонию, посетил красивый, богатый и изящный Мельбурн, еще не особенно давно бывший, как и весь австралийский берег, местом ссылки, поднимался по Янтсе Киангу до Ханькоу, известной чайной фактории, и теперь шел в Гонконг, где должен был получить дальнейшие инструкции от адмирала.
Эти месяцы казались обитателям «Коршуна» куда длиннее прежних месяцев первых двух лет плавания. Тогда они пролетали незаметно под быстрой сменой новых, необычных впечатлений, а теперь тянулись долго-долго и с томительным, казалось, однообразием.
И офицеров, и еще более матросов тянуло домой, туда, на далекий Север, где и холодно и неприветно, уныло и непривольно, где нет ни ослепительно жгучего южного солнца, ни высокого бирюзового неба, ни волшебной тропической растительности, ни диковинных плодов, но где все – и хмурая природа, и люди, и даже чернота покосившихся изб, с их убожеством – кровное, близкое, неразрывно связывающее с раннего детства с родиной, языком, привычками, воспитанием, и где, кроме того, живут и особенно милые и любимые люди.
Всем, признаться, начинало надоедать и это скитание по океанам с их шквалами и бурями, и это шатание по разным чужеземным портам. Впечатления от много виденного притуплялись: пальмы привиделись, роскошь природы пресытила, и все те же развлечения в портах прискучили. Вместе с тем становилось чувствительнее и однообразие судовой жизни с ее неизменным, обычным ритуалом. Привыкли нервы и к сильным ощущениям бурь и непогод. Стало меньше разнообразия и в душевных волнениях морского служебного самолюбия: оно уж не тешило, как прежде. Пригляделись все одни и те же лица в кают-компании, и неинтересными казались повторяющиеся рассказы и анекдоты. Все становились нетерпеливее и раздражительнее, готовые из-за пустяка поссориться, и каждый из офицеров чаще, чем прежде, искал уединения в душной каюте, чтобы, лежа в койке и посматривая на иллюминатор, омываемый седой волной, отдаваться невольно тоскливым думам и воспоминаниям о том, как хорошо теперь в теплой уютной комнате среди родных и друзей.
Особенно скучал Невзоров. Мрачный и грустный, он целыми днями молчал или писал длиннейшие письма жене или перечитывал ее письма. Словно школьник, он отмечал дни, остающиеся до предположенного им возвращения в Кронштадт. Грустно мурлыкал себе под нос какие-то песенки и старший механик Игнатий Николаевич, особенно скучавший на переходах под парусами, когда ему нечего было делать, и он просиживал в кают-компании, не зная, как избыть время. Тосковал и артиллерист Захар Петрович и от скуки, вероятно, допекал артиллерийского унтер-офицера, хотя уж опасался бить его по лицу и только в бессильном гневе сжимал свои волосатые кулаки и сыпал ругательствами, остальное время он или ел, или спал, или играл в шашки с Первушиным. Невесел был и Андрей Николаевич, хотя, вечно занятый чистотой и порядком, он менее других испытывал скуку. Не особенно веселы были и другие, и даже жизнерадостный и всегда веселый Лопатин и тот подчас бывал серьезен и молчалив и шутя просил доктора Федора Васильевича дать ему пилюль от скуки.
Несмотря на недавнее производство в мичмана и назначение начальником пятой вахты, случалось, тосковал и Ашанин, и нередко среди чтения, которым он коротал дни плавания, мысленным его взорам представлялась маленькая квартира в Офицерской со всеми ее обитателями… И он подолгу отдавался этим воспоминаниям, откладывая в сторону книгу, и грезил о счастье свидания. Один капитан, казалось, был все тот же покойный, серьезный и приветливый, каким его привыкли все видеть наверху. Но однажды, когда Ашанин вошел в капитанскую каюту, чтобы возвратить книгу и взять другую из библиотеки капитана, он застал Василия Федоровича с таким грустным, страдальческим выражением лица, что подумал, не болен ли капитан. И он хотел было уйти, чтобы не беспокоить капитана, но Василий Федорович проговорил:
– Идите, идите, Владимир Николаевич… Берите, что вам нужно.
– Но я боюсь беспокоить вас.
– Нисколько…
– Мне показалось, что вы больны, Василий Федорович…
– Я здоров. Просто захандрилось после неприятного письма о болезни матушки… ну, я немного и раскис! – с невеселой улыбкой сказал капитан. – Вдали мало ли какие мучительные мысли приходят в голову… Вероятно, и вы, Владимир Николаевич, подчас так же тревожитесь за своих близких. Что, все ваши здоровы?
– Очень тревожусь, Василий Федорович… По последнему письму все дома благополучно, но ведь письмо шло три месяца…
– И порой скучаете, конечно?
– Еще как, Василий Федорович! – добродушно признался Володя.
– Еще бы! Вы думаете, и я не скучаю? – усмехнулся капитан. – Ведь это только в глупых книжках моряков изображают какими-то «морскими волками», для которых будто бы ничего не существует в мире, кроме корабля и моря. Это клевета на моряков. И они, как и все люди, любят землю со всеми ее интересами, любят близких и друзей – словом, интересуются не одним только своим делом, но и всем, что должно занимать сколько-нибудь образованного и развитого человека… Не правда ли?
– Совершенно справедливо, Василий Федорович. Вы не раз это говорили.
– Потому-то очень долгое плавание и утомляет… Ну, да уж нам недолго ждать. Верно, скоро нас пошлют в Россию, а пока потерпим, Владимир Николаевич! В Гонконге решится наша участь.
Через три дня «Коршун» утром был в Гонконге.
Спустя час после того как отдали якорь, из консульства была привезена почта. Всем были письма, и, судя по повеселевшим лицам получателей, письма не заключали в себе неприятных известий… Но все, отрываясь от чтения, тревожно поглядывали на двери капитанской каюты: есть ли инструкции от адмирала и какие?
Еще все сидели в кают-компании за чтением весточек с родины, и пачки газет еще не были тронуты, как вошел капитан с веселым, сияющим лицом и проговорил:
– Тороплюсь поздравить вас, господа… Мы возвращаемся в Россию!
Взрыв радостных восклицаний огласил кают-компанию. Все мигом оживились, просветлели, и едва сдерживали волнение. Пожимали друг другу руки, поздравляя с радостной вестью. У Захара Петровича смешно вздрагивали губы, и он имел совсем ошалелый от радости вид. Ашанин почувствовал, как сильно забилось сердце, и ему представлялось, что он на днях увидит своих. А Невзоров, казалось, не верил известию, так жадно он ждал его, и, внезапно побледневший, с сверкавшими на глазах слезами, весь потрясенный, он повторял:
– Неужели?.. Мы возвращаемся?.. Неужели?..
– И в сентябре, если даст бог все будет благополучно, будем в Кронштадте. Да вы что же, голубчик? Не волнуйтесь… Выпейте-ка воды! – участливо говорил Степан Ильич, подходя к Невзорову.
Но Невзоров уже оправился и улыбался счастливой, радостной улыбкой.
– Какая теперь вода? Выпьем, господа, лучше шампанского по случаю такого известия. Василий Федорович! милости просим, присядьте… Эй, вестовые, шампанского! – крикнул Андрей Николаевич.
– Вот это ловко! – воскликнул Лопатин и так заразительно весело засмеялся, что все невольно улыбались, хотя, казалось, в словах Лопатина и не было ничего смешного.
Неразговорчивый в последнее время лейтенант Поленов стал оживленно рассказывать о том, как он возвращался из кругосветного плавания пять лет тому назад и как они торопились, чтобы попасть в Кронштадт до заморозков.
– А мы разве не придем? – испуганно спрашивал Невзоров.
– Придем! придем! – кричали со всех сторон.
Подали шампанское, и Андрей Николаевич провозгласил тост за благополучное возвращение и за здоровье глубокоуважаемого Василия Федоровича. Все чокались с капитаном. Подошел Ашанин и промолвил:
– За ваше здоровье, Василий Федорович… и за здоровье вашей матушки! – прибавил он тихо.
– Спасибо… Она поправилась… Я получил письмо… А вы получили?
– Получил… И мои все здоровы, а сестра выходит замуж.
Наполнили опять бокалы, и капитан предложил тост за старшего офицера и всю кают-компанию. Не забыли послать шампанского и Первушину, стоявшему на вахте.
– Ну, а теперь надо объявить команде о возвращении на родину. Андрей Николаевич, прикажите вызвать всех наверх.
Матросы приняли это известие с восторгом. Всем им давно уже хотелось вернуться на родину: море с его опасностями не особенно по душе сухопутному русскому человеку.
Решено было простоять в Гонконге пять дней, чтобы пополнить запасы и вытянуть такелаж. Ашанин почти каждый день съезжал на берег и возвращался с разными ящиками и ящичками, наполненными «китайщиной», которой он пополнял коллекцию подарков, собранных во всех странах и аккуратно уложенных заботливым Ворсунькой.
– Что, Ворсуня, рад? – весело спрашивал своего вестового чуть не каждое утро Ашанин.
– А то как же, ваше благородие… И вы рады, и мы рады.
А Бастрюков, как-то встретившись с Ашаниным, проговорил:
– Вот и дождались, ваше благородие, своего времени. Добром плавали, добром и вернемся в Россею-матушку. И век будем помнить нашего командира… Ни разу не обескураживал он матроса… Другого такого и не сыскать. Не видал я такого, ваше благородие, а живу, слава богу, немало на свете.
– А ты, Бастрюков, как вернешься, так в отставку выйдешь?..
– Должно выйти, ваше благородие. Довольно прослужил престол-отечеству. Пора и честь знать. Не все же казенным пайком кормиться! – проговорил со своею доброй, ясной улыбкой Бастрюков.
– А что ж ты будешь делать после отставки?
– Как что делать буду? В свою деревню пойду! – радостно говорил Бастрюков. – Даром что долго околачиваюсь на службе, а к своему месту коренному тянет, ровно кулика к своему болоту. У земли-матушки кормиться буду. Самое это душевное дело на земле трудиться. Небось, полоской разживусь, а угол племяши дадут… И стану я, ваше благородие, хлебушко сеять и пчелкой, бог даст, займусь… Хорошо! – прибавил Бастрюков, и все его лицо сияло при мысли об этом.
В эти дни Ашанин говорил со многими старыми матросами, ожидавшими после возвращения в Россию отставки или бессрочного отпуска, и ни один из них, даже самых лихих матросов, отличавшихся и знанием дела, и отвагой, и бесстрашием, не думал снова поступить по «морской части». Очень немногие, подобно Бастрюкову, собирались в деревню – прежняя долгая служба уничтожала земледельца, – но все в своих предположениях о будущем мечтали о сухопутных местах.
Все на корвете торопились, чтобы быть готовыми к уходу к назначенному сроку. Работы по тяге такелажа шли быстро, и оба боцмана и старший офицер Андрей Николаевич с раннего утра до позднего вечера не оставляли палубы. Ревизор Первушин все время пропадал на берегу, закупая провизию и уголь и поторапливая их доставкой. Наконец к концу пятого дня все было готово, и вечером же «Коршун» вышел из Гонконга, направляясь на далекий Север.
Ашанин долго стоял наверху, поглядывая на огоньки красавца-города, и когда они скрылись из глаз, весело прошептал:
– Прощай, далекие края!
II
Торопясь домой, «Коршун» заходил в попутные порты только лишь по крайней необходимости, – чтобы запастись углем и кстати свежей провизией, – и нигде не застаивался. Капитан просил ревизора справляться как можно скорей, и ревизор в свою очередь торопил консулов.
В Сингапуре корвет простоял всего лишь сутки. Грузили уголь и днем и ночью, к общему удовольствию всех обитателей корвета. Невзоров даже говорил комплименты Первушину, расхваливая его распорядительность и быстроту, рассчитывая этими комплиментами подзадорить самолюбие и без того невозможно самолюбивого ревизора. Но эти маленькие хитрости Невзорова, считавшего чуть ли не каждую лишнюю минуту простоя за преступление, были напрасны – Первушин и без них старался изо всех сил: его ждала в Петербурге невеста. Об этом он, впрочем, ни разу никому не обмолвился, вероятно потому, что годы и наружность его невесты могли возбудить сомнения относительно искренности и силы его привязанности. Она была старше жениха лет на десять и дурна, как «сапог», как неделикатно выразился Лопатин об этой неуклюжей даме, приезжавшей на «Коршун» в день ухода его из Кронштадта и которую Первушин выдавал за свою кузину, но зато у этой невесты, вдовы-купчихи, был огромный дом на Невском, как узнали все после, когда Первушин на ней женился.
Переход Индийским океаном был бурный и сопровождался частыми штормами, во время которых «Коршуну» приходилось штормовать, держась в бейдевинд, и следовательно плохо подвигаться вперед и терять много времени. Кроме того, недалеко от мыса Доброй Надежды «Коршун» встретил противные ветры и нет сколько дней шел под парами, тратя уголь. Это обстоятельство заставило капитана зайти в Каптоун, чтобы пополнить запас угля.
Благодаря штормам «Коршун» сделал переход недели на две дольше, чем предполагали, и эта неудача, весьма обычная в морской жизни, теперь очень сокрушала наших моряков, и в особенности женатых. Невзоров и Игнатий Николаевич изощрялись в комплиментах Первушину в Каптоуне, не отставал от них и артиллерист. Но вместе с тем у них закрадывалось и малодушное сомнение насчет того, успеет ли прийти «Коршун» в Кронштадт до заморозков. Ведь это было бы ужасно! Они не решались говорить об этом громко, однако нет-нет да и закидывали более или менее дипломатические вопросы старшему штурману, чтобы выведать его мнение в категорической форме.
Но Степан Ильич недаром много плавал на своем долгом веку и видывал всякие виды. Он понимал, что в море нельзя делать точные расчеты и, как несколько суеверный человек, никогда не говорил категорически о своих расчетах и предположениях, а всегда с оговорками, вроде «если ничего не случится» или «если все будет благополучно», зная хорошо, какими неожиданными случайностями и неожиданностями полна морская жизнь. Вот почему на все вопросы, задаваемые ему в кают-компании нетерпеливыми товарищами, он отвечал, по обыкновению, уклончиво и этой уклончивостью не только не облегчал сомнений, но еще более их увеличивал в смятенных душах, так что Игнатий Николаевич однажды не выдержал и сказал:
– Да вы, Степан Ильич, лучше прямо скажите, что мы осенью не попадем в Кронштадт.
– Типун вам на язык, Игнатий Николаевич! – с сердцем проговорил старший штурман. – И видно, что вы механик и ничего в морском деле не понимаете. Кто вам сказал, что не попадем? Почему не попадем-с? – прибавил Степан Ильич «с» в знак своего неудовольствия.
– Да сами же вы как-то неопределенно говорите, Степан Ильич, насчет времени возвращения.
– А вы думаете, что можно говорить точно?
– Но все-таки…
– Это пусть говорят дураки-с, которые предвидят волю господа бога, а я предвидеть не могу-с. Помните, как за сто миль от Батавии, когда уж вы собирались на берегу разные фрикасе, с позволения сказать, кушать, нас прихватил ураган, и мы целую неделю солонину и консервы кушали-с?.. Помните?
– Ну, положим, помню…
– А не забыли, как мы штормовали в Индийском океане и ни туда, ни сюда – почти на одном месте толклись? А вы все это время, задравши ноги, в койке отлеживались?
– Что ж мне было делать?.. Мое дело машина, а когда она стоит, я лежу! – сострил добродушно механик.
– Я не к тому. Лежите, сколько угодно-с, на то вы и механик. А я спрашиваю, не забыли ли вы, какая гнусность была в Индийском?
– Еще бы забыть!
– То-то и есть! Так как же вы хотите, чтобы я вам ответил, как, с позволения сказать, какой-нибудь оболтус, для вашего утешения: придем, мол, в Кронштадт в такой-то день, в таком-то часу-с?.. Еще если бы у вас сильная машина была да вы могли бы брать запас угля на большие переходы, ну тогда еще можно было бы примерно рассчитать-с, а ведь мы не под парами главным образом ходим, а под парусами-с.
– Но все-таки, Степан Ильич, как вы надеетесь… в сентябре придем в Кронштадт? – все-таки приставал механик.
– Отчего не прийти. Может быть, и придем, если бог даст…
– Ну, вы все свое, Степан Ильич!
– И вы все свое… Каждый, батюшка, свое. А по-чужому я не умею-с. Уж вы не сердитесь.
– Да чего вы хнычете, Игнатий Николаевич. Придем, наверное придем в сентябре! – воскликнул Лопатин. – Степан Ильич ведь всегда Фому неверного строит… Сглазу боится.
– Вот вы и верьте Василию Васильевичу! Он у нас ничего не боится! – промолвил штурман и во избежание дальнейших вопросов ушел из кают-компании.
Из Каптоуна решено было идти никуда не заходя, прямо в Шербург. И это решение сделать длинный переход встречено было с живейшей радостью: нужды нет, что придется под конец перехода есть солонину и консервы и порядочно-таки поскучать, только бы скорее попасть на родину.
«Коршун» вышел с мыса Доброй Надежды, имея на палубе пять быков и много разной птицы, так что все надеялись, что на большую часть перехода будет чем питаться и даже очень хорошо. Но в первую же бурю, прихватившую «Коршун» во ста милях от мыса, быки и большая часть птицы, не выдержавшие адской качки, издохли, и весь длинный переход обитателям «Коршуна» пришлось довольствоваться консервами и солониной.
Наконец, через пятьдесят дней плавания «Коршун» в первых числах сентября пришел в Шербург. И все было забыто: и опротивевшие консервы, и солонина, которыми поневоле угощалась кают-компания, и томительная скука, усилившаяся однообразием долгого перехода, во время которого моряки только и видели, что небо да океан, океан да небо – то ласковые, то гневные, то светлые, то мрачные, да временами белеющиеся паруса и дымки встречных и попутных судов. Забыты были и маленькие недоразумения и ссоры, обострившиеся от отсутствия впечатлений, и постоянная океанская качка, и отсутствие новых книг, газет и писем…
Теперь все знали, что были почти дома, и даже Игнатий Николаевич не сомневался, что «Коршун» скоро придет в Кронштадт. Но только скорей бы, скорей…
Однако пришлось простоять в Шербурге несколько дней, чтобы дать отдохнуть команде после долгого перехода, осмотреться и покраситься. Нельзя же вернуться домой не в том блестящем виде, каким всегда щеголял «Коршун».
И офицеры и матросы вознаградили себя теперь за долгое воздержание. Каждый день у матросов были за обедом превосходные щи со свежей говядиной, а в кают-компании такое обилие и разнообразие, что один восторг.
Из Шербурга предполагалось зайти в Копенгаген за углем и уж оттуда прямо в Кронштадт.
Наконец, нетерпеливые моряки дождались и Копенгагена… Еще сутки стоянки – и десятого сентября «Коршун» пошел уж теперь прямо домой.
III
Чем ближе приближался корвет к Кронштадту, тем сильнее росло нетерпение моряков. Несмотря на то, что Игнатий Николаевич, любовно хлопотавший в своей «машинке», как он нежно называл машину «Коршуна», пустил ее «вовсю», и корвет, имея еще триселя, шел узлов до десяти, всем казалось, что «Коршун» ползет как черепаха и никогда не дойдет. И каждый считал своим долгом покорить Игнатия Николаевича за то, что ход мал.
– Взлететь на воздух, что ли, хотите? – посмеивался Игнатий Николаевич, показываясь минут на пять в кают-компании в своей засаленной, когда-то белой рабочей куртке, и снова исчезал в машину.
Но вот, наконец, и Финский залив. Все выскочили наверх.
Шел мелкий, назойливый дождь, пронизывало холодом и сыростью, мутное небо тяжело повисло над горизонтом. Но, несмотря на то что родина встречала возвращавшихся моряков так неприветливо, они радостными глазами глядели и на эти серо-свинцовые воды Финского залива и на мутное небо, не замечая ни холода, ни сырости.
– Рассея-матушка, братцы! – радостно говорили матросы.
Прошли еще одни сутки, бесконечно длинные сутки, когда нетерпение достигло, казалось, последнего предела. Многие не сходили с палубы, ожидая Толбухина маяка. Вот и он, наконец, показался в десятом часу утра, озаренный лучами бледного солнца. Дождь перестал… Был один из недурных осенних дней.
Еще полчаса, и раздался радостный звучный голос Лопатина:
– Свистать всех наверх на якорь становиться!
И такой же радостный окрик боцмана повторил эту команду.
Но все до единого человека и без того были наверху и жадными глазами смотрели на видневшийся за фортами Кронштадт. Матросы снимали шапки и крестились на макушки церквей.
– Первая пли… вторая пли… третья пли! – дрожащим от волнения голосом командовал Захар Петрович, не спавший ночи от нетерпения поскорее обнять своего сынишку.
Выстрелы салюта крепости гулко разнеслись по кронштадтскому, уже опустевшему рейду. В амбразурах одного из фортов пыхнули дымки ответных выстрелов входившему военному судну.
– Из бухты вон, отдай якорь! – раздалась команда старшего офицера.
Звякнула цепь, грохнул якорь, – и «Коршун» стоял неподвижно на Малом рейде. Счастливые и радостные моряки поздравляли друг друга.
Ашанин побежал вниз собираться на берег, чтобы с двенадцатичасовым пароходом ехать в Петербург до завтрашнего дня. Ворсунька торопливо укладывал чемодан и собирал ящики и ящички с подарками, как вдруг влетел рассыльный и доложил:
– Ваше благородие, пожалуйте наверх…
– Кто зовет? Зачем?
Но рассыльный уже исчез, и Ашанин, недовольный, что ему помешали, выбегает на шканцы, и вдруг радостное волнение неописуемого счастья охватывает все его существо: перед ним на шканцах мать, брат, сестра и дядя-адмирал.
– Володя! – раздается в его ушах какой-то радостный крик.
И он бросается к матери. Та прижимает его к себе, целует и плачет, плачет и целует и, по-видимому, не желает его отпустить. Наконец, она его отпускает, но жадно глядит на него, пока он целуется с сестрой, братом и дядей-адмиралом.
– А ведь ты совсем возмужал, Володя… Уж усы… и бачки… Ну, чего вы раскисли, Мария Петровна?.. Вот он и вернулся… посмотрите, каким молодцом! – говорит адмирал, стараясь скрыть свое волнение, но его старческий голос вздрагивает, и на ресницах блестят слезы.
– А вот мой муж, Володя! – говорит Маруся, подводя к Володе красивого молодого человека в штатском.
Володя горячо его целует и уводит всех к себе в каюту.
После завтрака на корвете Володя со своими отправился в Петербург. Ему казалось, что счастливее его нет человека на свете.







