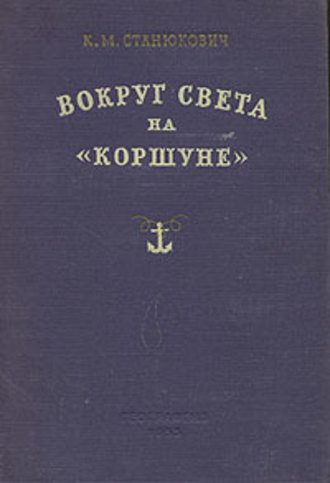
Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»
– Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь…
Почти у самых его ушей пробивает семь ударов.
Слава богу, осталось всего полчаса.
Но зато как бесконечно долго тянутся эти полчаса для моряков на ночных вахтах, да еще таких холодных и неприветных. И чем ближе конец вахты, тем нетерпеливей ожидание. Последние минуты кажутся часами.
Володя то и дело подходил к фонарю, висевшему около кадки с водой, впереди фок-мачты, взглядывал на часы. Стрелка, показалось ему, почти не двигалась.
– Восемь бить! – раздался веселый голос с мостика.
– Наконец-то! – невольно проговорил вслух Володя.
Радостно отдавались эти удары в его сердце и далеко не так радостно для матросов: они стояли шестичасовые вахты, и смена им была в шесть часов утра. Да и подвахтенным оставалось недолго спать. В пять часов вся команда вставала и должна была после утренней молитвы и чая начать обычную утреннюю чистку и уборку корвета.
С последним ударом колокола к Володе подошел сменяющий его гардемарин.
Ашанин торопливо сдал вахту и почти побежал вниз в свою каюту. Быстро раздевшись, он вскочил в койку, юркнул под одеяло и, согревшийся, охваченный чувством удовлетворенности тепла и отдыха, вполне довольный и счастливый, начал засыпать.
«Какой славный этот Бастрюков и какие ужасные звери бывали люди… Я буду любить матросов…» – подумал он сознательно в последний раз и заснул.
* * *
Через два дня корвет входил на Копенгагенский рейд, и вскоре после того, как отдан был якорь, Володя в большой компании съехал на берег, одетый в штатское платье.
Он первый раз в жизни вступил на чужую землю, и все его поражало и пленяло своей новизной. Вместе с другими он осматривал город, чистенький и довольно красивый, вечер провел в загородном саду вместе с несколькими гардемаринами и, вернувшись на корвет, стал писать длиннейшее письмо домой.
На другой день из консульства привезли целую пачку газет и писем, в числе которых одно, очень толстое, было и для Володи.
Он пошел в каюту, чтобы читать письмо без свидетелей, и, обрадованный, что сожитель его в кают-компании, стал глотать эти милые листки, исписанные матерью, сестрой и братом, с восторженной радостью и по временам вытирая невольно навертывавшиеся слезы.
В одном из листков была и лаконичная записка дяди-адмирала: «Ждем известий. Здоров ли? Не укачивает ли тебя?»
– Ах, славный дядюшка! – воскликнул Володя и снова начал перечитывать родные весточки не «начерно», а «набело».
Глава четвертая.
Первая трепка
I
По выходе, после двух дней стоянки, из Копенгагена ветер был все дни противный, а потому «Коршун» прошел под парами и узкий Зунд, и богатый мелями Каттегат и Скагерак, этот неприветливый и нелюбимый моряками пролив между южным берегом Норвегии и северо-западной частью Ютландии, известный своими неправильными течениями, бурными погодами и частыми крушениями судов, особенно парусных, сносимых то к скалистым норвежским берегам, то к низким, окруженным отмелями берегам Ютландии.
К вечеру третьего дня «Коршун» вошел в Немецкое[52] море, тоже не особенно гостеприимное, с его дьявольским, неправильным волнением и частыми свежими ветрами, доходящими до степени шторма.
Немецкое море сразу же дало себя знать изрядной и, главное, неправильной качкой. Поставили паруса и на ночь взяли три рифа у марселей и по одному рифу у нижних парусов.
Ветер все свежел, и барометр падал.
Капитан, не спавший две ночи и отдыхавший днем урывками, готовился, кажется, не спать и третью ночь. Серьезный, с истомленным лицом, он зорко всматривался вокруг и приказал старшему офицеру осмотреть, хорошо ли закреплены орудия и все ли крепко закреплено.
– К ночи, верно, нас потреплет! – прибавил он.
И старший штурман Степан Ильич был, кажется, того же мнения и, спустившись в кают-компанию, приказал вестовым, чтобы ночью был чай. Во время штормов Степан Ильич любил сбежать вниз и выпить, как он выражался, «стакашку» с некоторым количеством рома.
– Что, Степан Ильич, – спрашивали пожилого штурмана в кают-компании, – разве того… в ночную?
– Видно, придется.
– Трепанет, что ли?
– Немецкое море уж такое, можно сказать, свинское… часто треплет, а главное – качка в нем преподлейшая… Приготовьтесь, господа. Здесь самых выносливых к качке укачивает.
– Пока ничего себе… валяет, да не очень.
– Да теперь и качки-то почти никакой нет. Какая это качка! – говорил штурман, хотя корвет изрядно-таки покачивало, дергая во все стороны. – Вот к ночи, что бог даст. Тогда узнаете качку Немецкого моря.
Володя, только что сменившийся с вахты, пил чай в гардемаринской каюте. У многих молодых людей, первый раз испытывавших такую неспокойную качку, уже бледнели лица, и многие уже улеглись в койки. И Ашанин, не чувствовавший морской болезни, стоя наверху, на воздухе, теперь ощущал какую-то неприятную тяжесть в голове и подсасывание под ложечкой. Однако он храбрился и выпил стакан чаю, хотя он ему вдруг и показался противен, и скоро ушел к себе в каюту и лег в койке. Лежа, он уже не испытывал никакой неприятности и скоро заснул.
II
Проснулся он от сильной боли, ударившись лбом о переборку, и первое мгновение изумленно озирался, не понимая, в чем дело. Но тотчас же его снова дернуло на койке, и он должен был схватиться рукой за стойку, чтобы не упасть. Корвет дергало во все стороны, то вперед, то назад, то стремительно кидало на один бок, то на другой. Сквозь наглухо задраенный иллюминатор в каюту проникал мутноватый полусвет. Иллюминатор то выходил из воды, и крупные капли сыпались с него, то бешено погружался в пенящуюся воду, и тогда в каюте становилось темно. Эта бездонная пропасть бушующего, заседевшего моря, бьющегося о бока корвета, отделялась только стеклом иллюминатора да несколькими досками корабельной обшивки. Оно было близко, страшно близко, это море, и здесь, сквозь стекло иллюминатора, казалось каким-то жутким и страшным водяным гробом.
И чувство беспомощности и сиротливости невольно охватывало юношу в этой маленькой полутемной каюте, с раздирающим душу скрипом переборок и бимсов[53]. Здесь положение казалось несравненно серьезнее, чем было в действительности, и адская качка наводила на мрачные мысли юношу, испытывавшего первый раз в жизни серьезную трепку. При этих стремительных размахах боковой качки, когда корвет ложился совсем набок и голова Володи была на горе, а ноги висели где-то под горой, ему казалось, что вот-вот корвет не встанет и пойдет ко дну со всеми его обитателями.
И ему делалось невыразимо жутко и хотелось поскорее выскочить из каюты на свежий воздух, к людям.
Он пробовал подняться, но чуть было не стукнулся опять лбом. Надо было уловить момент, чтобы спрыгнуть. Батюшка стонал и шептал молитвы, мертвенно бледный, страдая приступами морской болезни.
– Что, опасности нет? – спрашивал он упавшим голосом.
– Ни малейшей! – уверенным голосом отвечал Ашанин, стараясь скрыть свое смущение, недостойное, как ему казалось, моряка, под видом напускного равнодушия.
Но едва только Ашанин стал на ноги, придерживаясь, чтобы не упасть, одной рукой за койку, как внезапно почувствовал во всем своем существе нечто невыразимо томительное и бесконечно больное и мучительное. Голова, казалось, налита была свинцом, в виски стучало, в каюте не хватало воздуха и было душно, жарко и пахло, казалось, чем-то отвратительным. Ужасная тошнота, сосущая и угнетающая, словно бы вытягивала всю душу и наводила смертельную тоску.
– Укачало, – подумал со страхом Ашанин, впервые понявший всю мучительность морской болезни и чувствуя неодолимое желание глотнуть свежего воздуха.
А корвет так и бросало со стороны на сторону, так и дергало.
С большим трудом, проделывая разные эквилибристические упражнения, чтобы не упасть, Ашанин оделся и, бледный, все с тем же мучительным ощущением тошноты и тоски, вышел из каюты.
В палубе, казалось, все прыгало и вертелось. Несколько десятков матросов лежало вповалку. Бледные, с помутившимися глазами, они казались совершенно беспомощными. Многие тихо стонали и крестились; многих тут же «травило», по выражению моряков. И вид всех этих страдавших морской болезнью, казалось, еще более усиливал страдания молодого человека.
И морская служба сразу потеряла в глазах Ашанина всю свою прелесть. Ах, зачем он ушел в плавание?.. Как хорошо теперь на твердой земле! Как мучительно ее хотелось!
Глухой гул ревущего ветра доносился сверху сквозь приоткрытые люки. Там, наверху, казалось, происходило что-то ужасное и страшное.
Стараясь улавливать моменты, когда палуба не уходила из-под ног, пробирался Володя, хватаясь за разные предметы, к трапу.
У кают-компании он увидал Ворсуньку, сидевшего на корточках, притулившись к дверям буфетной каюты.
Выражение страдания и страха стояло на бледном лице молодого вестового. Что-то жалобно-покорное и испуганное было в его голубых, широко открытых глазах.
– Укачало, брат? – участливо спросил Ашанин, останавливаясь у трапа.
Вестовой хотел было встать.
– Сиди, сиди.
– С души вовсе рвет, барин… Точно душу тянет! – жалобно отвечал Ворсунька.
– Ты приляг… легче будет.
– Никак невозможно ложиться… я – дежурный… О, господи Иисусе, – испуганно вдруг прошептал Ворсунька и стал креститься, когда стремительным размахом бросило корвет набок.
– Не бойся, голубчик. Ничего опасного нет! – произнес Володя, сам полный жгучего страха, и, поднявшись по трапу, отдернул люк и очутился на палубе.
Его всего охватило резким, холодным ветром, чуть было не сшибившим его с ног, и осыпало мелкой водяной пылью. В ушах стоял характерный гул бушующего моря и рев, и стон, и свист ветра в рангоуте и в трепетавших, как былинки, снастях.
Цепляясь за протянутый леер[54], он прошел на шканцы и, держась цепкой рукой за брюк[55] наветренного орудия, весь потрясенный, полный какого-то благоговейного ужаса и в то же время инстинктивного восторга, смотрел на грозную и величественную картину шторма – первого шторма, который он видал на заре своей жизни.
Здесь, наверху, на ветре, ощущения морской болезни были не так мучительны, как в душной каюте, и качка хотя и казалась страшнее, но переносить ее было легче.
III
Действительно, было что-то грандиозное и словно бы загадочное в этой дикой мощи рассвирепевшей стихии, с которой боролась горсточка людей, управляемая одним человеком – капитаном, на маленьком корвете, казавшемся среди необъятного беснующегося моря какой-то ничтожной скорлупкой, поглотить которую, казалось, так легко, так возможно.
Бушевавшее на всем видимом пространстве море представлялось глазам пенистой, взрытой, холмистой поверхностью бешено несущихся волн и разбивающихся одна о другую своими седыми верхушками. Издали не видать было цвета воды: все кипело пеной, точно в гигантском котле. И волны издали не давали понятия об их страшной высоте. Только вблизи, у самого корвета, можно было видеть эти громадные свинцово-зеленые валы с высокими гребнями, окружающие со всех сторон корвет и бешено, с гулом разбивающиеся о его бока, обдавая брызгами своих верхушек.
И среди этих водяных гор маленький «Коршун» со спущенными стеньгами и брам-стеньгами выдерживает шторм с оголенными мачтами под штормовыми триселями[56], бизанью[57] и фор-стеньги-стакселем, то поднимаясь на волну, то опускаясь в глубокую ложбину, образуемую двумя громадными валами. Корвет дергает во все стороны. Он качается и вперед и назад, и с бока на бок и, разрезывая острым носом гребень, вскакивает на него, и в этот момент часть волны попадает на бак. Иногда при сильном размахе корвет черпает бортом, и тогда верхушки волн яростно вскидываются на палубу и выливаются на другой стороне борта через шпигаты[58].
Жутко было в первые минуты Володе от этой картины бушующего моря и от этой страшной близости к нему… Страшными казались и эти громады волн, несущиеся на корвет и словно бы готовые его сейчас поглотить… Вот сзади, словно большая гора, поднялся высокий вал над кормой, словно опустившийся в пропасть. Володя в трепетном страхе смотрит на эту водяную гору застывшим от ужаса взглядом. Ему, юному и неопытному моряку, только теоретически знакомому с пловучестью и легкостью судна, кажется, что еще мгновение… и эта гора обрушится на корму и покроет своим водяным саваном весь корвет со всеми его обитателями.
О, господи! Неужели?!.
Но молодость и жажда жизни невольно протестуют против такой мысли.
И ему вдруг делается стыдно своего малодушного страха, когда вслед за этой мелькнувшей мыслью, охватившей смертельной тоской его молодую душу, нос «Коршуна», бывший на гребне переднего вала, уже стремительно опустился вниз, а корма вздернулась кверху, и водяная гора сзади, так напугавшая юношу, падает обессиленная, с бешенством разбиваясь о кормовой подзор, и «Коршун» продолжает нырять в этих водяных глыбах, то вскакивая на них, то опускаясь, обдаваемый брызгами волн, и отряхиваясь, словно гигантская птица, от воды.
На горизонте вокруг серо и мрачно. Изредка мелькнет парус такого же штормующего судна и скроется во мгле. Нависшее совсем низко небо покрыто темными клочковатыми облаками, несущимися с бешеной быстротой.
Ветер ревет, срывая гребни волн и покрывая море водяной пылью. Бешено воет он и словно бы наседает, нападая на маленький корвет, на его оголенные мачты, на его наглухо закрепленные орудия и потрясает снасти, проносясь в них каким-то жалобным стоном, точно жалея, что не может их уничтожить.
С такой же яростью нападали на маленький «Коршун» и волны, и только бешено разбивались о его бока, перекатывались через бак и иногда, если рулевые плошали, вливались верхушками через подветренный борт. Все их торжество ограничивалось лишь тем, что они обдавали своими алмазными брызгами вахтенных матросов, стоявших у своих снастей на палубе.
Прошло минут пять-десять, и юный моряк уже без жгучего чувства страха смотрел на шторм и на беснующиеся вокруг корвета высокие волны. И не столько привыкли все еще натянутые, словно струны, нервы, сколько его подбадривало и успокаивало хладнокровие и спокойствие капитана.
Бледный и истомленный от нескольких бессонных ночей, капитан точно прирос к мостику, расставив ноги и уцепившись за поручни, в своем коротком пальто, с нахлобученной фуражкой. Зорко и напряженно вглядывался он вперед и лично отдавал приказания, как править рулевым, которые в числе восьми человек стояли у штурвала под серединой мостика. Лицо его было серьезно и спокойно. Ни черточки волнения не было в его строгих чертах. Напротив, что-то покойное и уверенное светилось в возбужденном взгляде его серых, слегка закрасневших глаз и во всей этой скромной фигуре.
Это спокойствие как-то импонировало и невольно передавалось всем бывшим на палубе. Глядя на это умное и проникновенное лицо капитана, который весь был на страже безопасности «Коршуна» и его экипажа, даже самые робкие сердца моряков бились менее тревожно, и в них вселялась уверенность, что капитан справится со штормом.
Володя уже не сомневался в этом и с каким-то восторженным чувством взглядывал на своего любимца.
Тут же на мостике стояли: вахтенный лейтенант Невзоров, тот самый молодой красивый брюнет, который с таким горем расставался в Кронштадте с изящной блондинкой женой, и старший штурман, худенький старик Степан Ильич.
Молодой лейтенант, видимо, был несколько взволнован, хотя и старался скрыть это. Но Володя заметил это волнение и в побледневшем лице лейтенанта, и в его тревожном взгляде, который то и дело пытливо всматривался то в капитана, то в старшего штурмана, словно бы желая на их лицах прочесть, нет ли серьезной опасности и выдержит ли корвет эту убийственную трепку.
Он тоже переживал свой первый шторм и в эти минуты втайне горько жалел, что не отказался от лестного назначения и пошел в дальнее плавание.
И, глядя на эти бушующие волны, среди которых метался корвет, молодому лейтенанту с какой-то поразительной назойливостью лезли мысли об отставке, и образ дорогой Наташи являлся перед ним, мучительно щемя его душу.
«Ах, зачем он не послушался тогда ее… Зачем не отказался!..»
Но стыд за свое малодушие заставляет молодого лейтенанта пересилить свой страх. Ему кажется, что и капитан и старый штурман видят, что он трусит, и читают его мысли, недостойные флотского офицера. И он принимает позу бесстрашного моряка, который ничего не боится, и, обращаясь к старому штурману, стоящему рядом с капитаном, с напускной веселостью говорит:
– А славно треплет нас, Степан Ильич… Право, славно.
Почтенный Степан Ильич, проплававший более половины своей пятидесятилетней жизни и видавший немало бурь и штормов и уверенный, что кому суждено потонуть в море, тот потонет, стоял в своем теплом стареньком пальто, окутанный шарфом, с надетой на затылок старенькой фуражкой, которую он называл «штормовой», с таким же спокойствием, с каким бы сидел в кресле где-нибудь в комнате и покуривал бы сигару. Он видел, что «штормяга», как он выражался, «форменный», но понимал, что «Коршун» доброе хорошее судно, а капитан – хороший моряк, а там все в руках господа бога.
– Ну, батенька, славного мало, – отвечал Степан Ильич. – Лучше бы было, если бы мы проскочили Немецкое море без шторма… Ишь ведь как валяет, – прибавил старый штурман, не чувствовавший сам никакого неудобства от того, что «валяет», и уже ощущавший потребность выпить стакан-другой горячего чаю. – Здесь, батенька, преподлая качка… Наверное, многих укачала! А вас не мутит?..
– Нет, нисколько, – похвастал Невзоров, хотя и чувствовал приступы тошноты.
– Внизу разлимонит… Уж такая здесь толчея… Это не то что океанская качка… Та благородная качка, правильная и даже приятная, а эта самая что ни на есть подлая.
– Право! Больше право! Так держать! – крикнул капитан рулевым.
Но волна-таки ворвалась, чуть было не смыла висевший на боканцах[59] катер и обдала матросов.
Матросы отряхнулись, словно утки от воды, и снова стоят у своих снастей, молчаливые и серьезные. На всех поверх теплых фланелевых рубах надеты пальто-бушлаты и просмоленные наружные дождевики, но эта одежда не спасает их от мокроты. Брызги волн непрерывно обдают их. Многих, особенно молодых матросов, укачало и наверху, и они стоят бледные как смерть.
Не слышно, как обыкновенно, ни шутки, ни смеха. Только изредка кто-нибудь заметит:
– Ишь ты, каторжный какой ветер…
– Штурма настоящая…
Молодой матросик из первогодков, ошалелый от страха, обращается к пожилому матросу и спрашивает:
– А что, Митрич, потопнуть нельзя при такой страсти?
«Митрич», здоровенный, коренастый матрос и, судя по сизому носу, отчаянный пьяница, отвечает грубоватым голосом:
– Деревня ты как есть глупая!.. Потопнуть?! И не такие штурмы бывают, а корабли не тонут. «Конверт» наш, небось, крепок… И опять же капитан у нас башковатый… твердо свое дело понимает… Погляди, какой он стоит… Нешто стоял бы он так, если бы опаска была…
Молодой матросик, стоявший у грот-мачты, смотрит на мостик, где стоит капитан, и несколько успокаивается.
– Бог-то его любит, братцы, за евойную доброту к матросу и не попустит! – вставил кто-то.
– То-то оно и есть! – подтвердил Митрич и после минуты молчания прибавил, обращаясь ко всем: – давечь, в ночь, как рифы брали, боцман хотел было искровянить одного матроса… Уже раз звезданул… А около ардимарин случись… Не моги, говорит, Федотов, забижать матроса, потому, говорит, такой приказ капитанский вышел, чтобы рукам воли не давать.
– Что же боцман?
– Известно, оставил… Но только опосля все-таки начистил матросику зубы… Знает, дьявол, что матрос не пойдет жалиться… А все ж таки на этих анафем боцманов да унтер-церов теперь справа есть… Опаску, значит, будут иметь…
– Мутит, братцы, ох, как мутит, – жаловался матросик.
– А ты «страви» – полегчает, – ласково сказал Митрич.
– То-то не «травит»…
– А ты запусти, братец ты мой, палец в глотку…
Матросик последовал совету товарища.
– Ну, что, легче?
– Будто и легче.
Ашанин пробыл наверху около часа. Шторм, казалось, крепчал, и качка делалась нестерпимее. Он снова почувствовал сильные приступы морской болезни и на этот раз мучительные.
И снова все показалось ему немилым, и снова морская служба потеряла всякую прелесть в его глазах. Он спустился вниз, шатаясь, дошел до своей каюты и влез на койку. Но и лежачее положение не спасло его. После самого пребывания на свежем воздухе его, как выражался старый штурман, «совсем разлимонило» в душной и спертой атмосфере маленькой каюты, в которой по-прежнему бедный батюшка то стонал, то шептал молитвы, вдруг прерываемые неприятными звуками, свидетельствовавшими о приступе морской болезни.
Володя так же страдал теперь, как и его сожитель по каюте, и, не находя места, не зная, куда деваться, как избавиться от этих страданий, твердо решил, как только «Коршун» придет в ближайший порт, умолять капитана дозволить ему вернуться в Россию. А если он не отпустит (хотя этот чудный человек должен отпустить), то он убежит с корвета. Будь что будет!
В этот мучительный день на Немецком море Володя ненавидел морскую службу, а море, которое он видел в иллюминатор, внушало ему отвращение.







