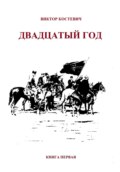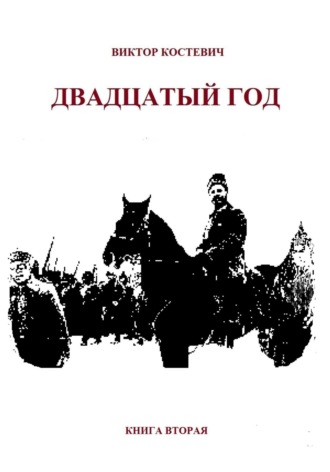
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга вторая
Еще раз напомним. Варшавская битва это не только бои на варшавском предполье. Это боевые действия четырех советских армий, три из которых оперировали севернее, от Варшавы до границ Восточной Пруссии, на фронте в добрых триста километров, в реальности же более протяженном, ибо неровном и извилистом.
Это также действия Северного фронта неприятеля – оборонительные на одних участках, наступательные на других. Общая картина была разнообразной: здесь мы наступали, там оборонялись, тут велся встречный бой, а где-то было тихо как на кладбище. Нашей целью было выйти к Висле, форсировать ее и двинуть дальше. Целью врага, пятой его армии генерал-подпоручика Сикорского – отбросить нас, рассечь и разгромить. Как минимум, не дать прорваться к Висле и сковать наши армии так, чтобы в решающий час они бы не смогли осуществить передислокации.
На этом фоне бой за варшавский тет-де-пон выглядит существенным, но частным эпизодом. Тем не менее ничего не попишешь: коль скоро битва называется варшавской, внимание читателя неизбежно и в первую очередь будет приковано к варшавскому плацдарму. Польский читатель, ознакомившись с деталями, разочаруется: собственно на Варшаву, да и не совсем на Варшаву, на протяжении трех дней непрерывно наступала одна наполовину выбитая дивизия, по числу штыков, повторяем, один стрелковый полк царской армии. И все деяния и эпизоды из учебников, брошюр и кинофильмов: контратаки трех польских дивизий на Радзымин и на Оссов, танки, пушки, бронепоезда и даже смерть Игнация Скорупки – всё это происходило на ее боевом участке, в противоборстве с ними, разутыми, усталыми, голодными. «Три тысячи чертей!» – сказал бы знаменитый гусар.
Триста спартанцев. Три тысячи омцев.
Жизнь нередко приводила автора на вокзалы Транссиба в Красноярске и Ачинске. Будь его воля, он поместил бы там мемориальные доски: отсюда ехала освобождать Белоруссию и штурмовать Варшаву 27-я Омская стрелковая дважды Краснознаменная дивизия им. Итальянского пролетариата. Кто знает, быть может так оно и будет.
***
С утра четырнадцатого августа обыватели польской столицы – со страхом, с трепетом, с надеждой – вслушивались в грохот орудий за Вислой. Не ведая, что это – польские орудия. Русских пушек было много меньше, и их огнезапасы были на исходе. Канонада длилась целую ночь. Не утихла она и на следующий день.
Пятнадцатого августа, в воскресенье, в не самых престижных, не самых славянских, не самых сытых варшавских кварталах царило нездоровое оживление. Возбужденные толпы шумно обсуждали последние известия и самые-самые надежные слухи – не скрывая симпатий и чаяний.
Ехавшая в трамвае через такой неарийский квартал арийская наблюдательница, педагог, общественный деятель, сестра недавнего премьер-министра Грабского, колоссальным усилием воли подавляла негодование. Подавляла с трудом, но в целом подавляла успешно. «Только спокойствие, Зося, – говорила она себе, – каждый получит свое. Мы не забудем. Ни одной их улыбки. Твари, твари, конченые гнусные твари».
Но еще большее потрясение пани Зофья испытала, когда вышла на Краковское Предместье. По панелям, мимо призывающих к бою афишек, мимо заколоченных крест-накрест витрин, не обращая ни малейшего внимания на маршировавшие к мосту Кербедзя батальоны – запыленные, утомленные, спешно стянутые на защиту города, – по этим панелям прогуливались праздные, нарядные, беззаботные люди. Дамы, дети, взрослые мужчины и, что совсем невероятно, офицеры. Иные – под руку с паненками. Либо им было на всё наплевать, либо чемоданы давно были собраны.
«Ничего, – не очень уверенно думала, обгоняя негодяев, пани Зофья. – Мы не забудем и про этих».
***
В дни Польревкома, в день Басиного вечера, в день боев за Радзымин и Оссов, состоялось открытие Олимпиады в Антверпене. На параде пронесли придуманное в годы войны олимпийское знамя с пятью разноцветными кольцами.
Курьер Варшавский, 16 августа 1920 г.
Официальное открытие Олимпийских игр в Антверпене состоялось в субботу после полудня, в прекрасную погоду, в присутствии многочисленной публики. Бельгийский король лично объявил о начале седьмой Олимпиады нашей эры. Государства были представлены послами или же специальными представителями. Анри Пате присутствовал на церемонии от имени французского правительства. Генерал Бернар де Сериньи – от имени французской армии, де Кубертен – от имени французской плебисцитной комиссии. Атлеты 26 держав, которые примут участие в играх, прошествовали перед королем в атмосфере всеобщего энтузиазма. По окончании церемонии король попросил Анри Пате поздравить французских атлетов, показавших на параде великолепнейшую выправку. Королева, со своей стороны, выразила генералу Сериньи восхищение французской армией.
Среди атлетов пяти континентов не были представлены отдельные страны Европы, для олимпийского движения не самые последние. Не было бошей, тевтонов и гуннов – их в освобожденный от германской оккупации Антверпен не позвали. Не было и их союзников: австрийских немцев и мадьяр, болгар и азиатов-турок.
Не было русских, ни красных ни белых. Обе команды были заняты вольной борьбой на кубок Крыма, Приазовья и Кубани. Помимо этого, красные атлеты участвовали в серии международных чемпионатов и первенств. Состязались в Приамурье и Приморье с сумоистами и каратэистами. Пикировались на Буге и Висле с асами конкура, пулевой стрельбы и фехтования. Устраивали в Черных и Красных песках конные забеги и пробеги с джихадистами. Ловко, при одобрении местных болельщиков, укладывали на лопатки сепаратистов Закавказья – на долгие семьдесят лет, к сожалению для Закавказья не навечно.
Не было там и поляков, хлебавших в два горла щедро сваренную маршалом кашу. Польский флаг, тем не менее, во время дефиле продефилировал. Деликатным вопросом, чьим союзником был в прошлую войну глава новорожденной державы, организаторы задаваться не стали. Вопрос, неразрешимый теоретически, был успешно разрешен ими на практике.
Русский флаг проплывет перед трибунами тридцатью двумя годами позже, в Гельсингфорсе. Разумеется, красный. Наш.
***
Спокойствие в занятой нами Варшаве установилось на удивление быстро. Военный комендант т. Путна обратился к жителям с красноречивым воззванием, звучавшим как по тем, так и по иным временам необычайно.
«Дорогие варшавяне! – говорилось в незабываемом документе. – Поздравляю вас с освобождением вашего прекрасного города от всяческих видов угнетения, социального, экономического и национального.
От лица Рабоче-Крестьянской Красной армии, от имени Советского Правительства и Пролетарского Интернационала заверяю: власть буржуазно-националистической клики Пилсудского и его приспешников не вернется! Красная Армия стоит на защите вашей жизни, ваших железных прав, вашего честным трудом, в поте лица нажитого имущества. Грабежи и насилия, от кого бы те не исходили, от контрреволюционных и преступных элементов или от недостойных звания красноармейца бойцов, будут пресекаться немедленно и самым суровым образом.
Мы готовы простить всех тех, кто по незнанию, по недомыслию, в шовинистическом или религиозном ослеплении сражался против Красной Армии, ходил походом на наши губернии и даже совершал там преступления, обусловленные характером империалистской войны, развязанной правительством Пилсудского. От наших врагов, вольных и невольных, мы требуем лишь одного – спокойствия и мира. Нашим же польским друзьям, а их, мы знаем, большинство, мы не только протягиваем руку помощи, но призываем их: как можно скорей создавайте польскую рабочую милицию и рабоче-крестьянскую польскую армию. Красная армия поделится с вами всем необходимым. Мы обращаемся к трудовой интеллигенции: не верьте пропагандистским басням Антанты, смело идите к нам, чтобы вместе с пролетариатом и крестьянством создавать справедливую Польшу.
Нет эксплуатации человека человеком! Нет злобному национализму! Нет подлой неправде и лжи! Да здравствует польский народ, польский рабочий класс, свободная, независимая, социалистическая Польша! Пролетарии всех стран и континентов – соединяйтесь!»
Польревком и штаб двадцать седьмой разместились на Саксонской площади. Предложение занять Королевский замок было с ходу отвергнуто – как членами ревкома, так и начдивом-27. «Хороша будет символика», – рассмеялись оба Феликса, Дзержинский и Кон (Kohn). Последний присовокупил: «Коган на Замке – лучший подарок ксендзам и эндекам». Путна сострил в ключе, скорее, историческом: «Только Витовта полякам в Королевском замке не хватало».
Особое беспокойство у коменданта и ревкома вызывала судьба буржуазных кварталов. Вопрос решили в первый же день, жестко, безапелляционно и, как водится, бесчеловечно. Толпы громил, радостно двинувшихся в центр города и иные многообещающие места, встретили стрелковые цепи, конные разъезды и автомобили с пулеметам. Изумленных хулиганов заворачивали обратно, предварительно отобрав у них самодельные повязки с литерами «Gwardia Czerwona». Патрулирование продолжилось на следующий и долго еще не прекращалось. Представители свергнутых классов предпочитали перемещаться по улицам рядом с патрульными. Это не только гарантировало безопасность, но и давало возможность поиздеваться потом над неказистым видом русских оборванцев. «Я и представить себе не могла, до какой они степени лишены элементарного вкуса. – Ах, пани Эвелина, откуда этим дикарям набраться вкуса? A propos, вы не в курсе, когда и где будет раздача продовольствия?»
Жестокое разочарование вызывало у врага соседство наших красных флагов с бело-красными польскими. Враг бы предпочел увидеть последние сброшенными с башен, втоптанными в землю, чтобы потом жестоко отомстить. Отдельные хулиганы, а возможно провокаторы, пытались сбивать и закрашивать польских орлов, но все поползновения пресекала польская милиция с бело-красными повязками. В целом по городу польские флаги преобладали, красных было довольно мало. «За что боролись?» – обижался кое-кто из варшавских товарищей.
Головною болью для ревкома сделались доносы. «Считаю своим долгом сообщить, что гр-н Куявский в годы правления клики Пилсудского в своих статьях писал… С коммунистическим приветом, Владислав Куёвич». «Нахожу необходимым информировать, что гр-н Куёвич, искренне служа кровавому режиму, в своей редакторской работе неоднократно клеветал… Слава доблестной РКП(б)! Станислав Куявский». «Не могу пройти мимо фактов недостойного поведения гр-н Куёвича и Куявского в период победного наступления нашей дорогой Красной Армии… Марксист, социалист и коммунар Ярослав Куёвский».
«Куда это всё?» – спрашивали чекисты т. Дзержинского. Наученный горьким опытом, Феликс Второй отвечал: «В топку. Сейчас можно дров наломать. Польским чекистам непременно захочется наступить, и не раз, на все наши русские грабли». «Быть может…» «Не может. Пока – всё – в топку. Должна пройти первая, безумная волна. Должны сформироваться по-настоящему компетентные органы. Должны прекратиться откровенные провокации. И еще. Срочно, сегодня же. Дать во все газеты оповещение об ответственности за ложные доносы. Начиная… С послепослезавтра. Чтобы не пришлось наказывать тех, кто будет не в курсе. Уж больно их много развелось, литераторов».
Начальник державы перебрался из Демблина в Познань. Там он вел переговоры с германским генштабом. Немецкие генералы, понятно, не питали симпатий к полякам, но падение Варшавы их насторожило. В самом деле, не успели они разделаться с берлинскими спартакистами, утопить в крови баварские Советы, прикончить Либкнехта и Люксембург, а russische Rote Armee стучится уже в двери рейха. И если Красная легко смела с пути огромное польское войско, содержавшееся, поощрявшееся и инструктировавшееся Антантой, сумеет ли жалкий рейхсвер выдержать русский напор? С другой стороны, в свете перспективы грядущей битвы с коммунизмом можно было с Антантой и поторговаться. Ведь закрывала она глаза на немецкие шалости в Латвии. Словом, о чем поговорить с начальником державы, у немецких генералов имелось.
Неделю спустя в освобожденную от ига капитала столицу прибыли тт. Ленин и Троцкий, в сопровождении члена РВС ЮЗФ т. Сталина и члена РВС ЗФ т. Смилги. Толпы варшавян, с Праги, Воли, Муранова и других с ними схожих районов, пели на Замковой площади «Червоны штандар». Им чуть слышно подпевал растроганный почти до слез Ильич: «А колер его ест червоны, бо на ним роботнича крев». Товарищ Троцкий кивал головой, стоявший рядом с ним товарищ Сталин тоже. Члену РВС Югзапа хотелось петь со всеми, но польских слов он, к сожалению, не знал.
Среди демонстрирующих варшавян выделялись могучие колонны иудеев. Выступления ораторов-семитов сводились к основополагающему тезису: «Еврейский народ, избавленный Красной Армией от угнетения и издевательства, навсегда сохранит в своем сердце горячую благодарность – Красной Армии, Советской власти и великому русскому народу – спасителю!» Из глаз участников манифестации, красноармейцев, командиров и политработников скатывались слезы. Сталин, тот шепнул соседу по трибуне: «Вот, Лев Давыдович, как надо правильно говорить о выдающейся роли великого русского народа». «Полностью с вами согласен, Иосиф Виссарионович», – не стал вступать в дискуссию сосед. «А грузина потянуло на великорусский шовинизм, – обеспокоенно задумался Ленин. – Надо бы товарища пропесочить. Великий русский народ, выдающаяся роль… Понабрался новых слов».
Еще одной болью ревкома оказался вопрос о земле. Причиной был всё тот же горький опыт. Польские селяне ожидали немедленного, как в России, раздела всех угодий и инвентаря, что предполагало, снова как в России, ликвидацию множества прекрасных, сложившихся земледельческих организмов и, как следствие, упадок народного хозяйства. Наилучшим решением было бы создание в лучших, культурных имениях образцовых хозяйств, но мужичок решительно не понимал своей собственной выгоды, стремясь к одному – всё разделить, а так хоть трава не расти. Эксперимент с образцовыми хозяйствами, их называли советскими, был проведен годом ранее на Украине и имел плачевные последствия: массы решили, что коммунисты не выполняют обещаний большевиков. После бунтов пришлось пойти разбушевавшимся массам навстречу – и всё разделить. Так что же теперь делать в Польше? «Надо объяснять! Растолковывать! Убеждать!» – горячились на совещаниях одни. «Пока мы растолкуем и убедим, Пилсудский с немцами ударят из Познани, – настаивали другие. – Мужичок и так-то не в восторге от наших проходящих армий, которые volens nolens едят его картошку, воруют яблоки и устанавливают подводную повинность. Если мы немедленно, завтра же не дадим ему взамен главного – земли, он будет, очень мягко выражаясь, не за нас».
Ленин вместе с членом РВС ЮЗФ покинул Варшаву на следующий день, Врангель не оставлял им времени на торжества. В качестве члена СНК и Политбюро ЦК РКП(б) в Варшаве остался Троцкий. Вместе с Тухачевским и деятелями Польревкома он дал ряд интервью нахлынувшим в Варшаву французским и британским репортерам. («Пти Паризьен», «Монд», «Таймс», «Дейли Миррор»; наиболее ценные, неискаженные материалы содержались в «Юманите» и «Дейли Геральд».)
Следом за репортерами в столице Польской Советской Республики без огласки появились представители Лондона, Парижа, Вашингтона. Они желали получить ряд безотлагательных и конфиденциальных ответов на вопросы, мучившие правительства Согласия. Содержание переговоров остается неизвестным, но судя по всему, представители уехали частично удовлетворенными. «Наш Лейб Давидович, – ворчал ревниво член РВС ЮЗФ, – если ему захочется, удовлетворит даже римского папу».
Еще через день в Варшаву прибыл для беседы со Львом и младшим из Феликсов, по их приглашению и с гарантией возвращения, недавний премьер и вождь Народной, то есть Крестьянской, партии т. Винцентий Витос. О его прибытии нигде не сообщалось, а беседы сохранялись в строжайшем секрете. Центральной темой стала проблема аграрной реформы. Побочным вопросом была судьба Пилсудского и прочих зачинщиков захватнической войны. Ходили слухи, что в Варшаву пробрался и соратник покойного Метека Гринберга Войтех Корфантий, глава Польского плебисцитного комиссариата в Силезии. Как христианин он не мог примириться с антихристом, но как силезец нуждался в ясности: кого поддержат красные в случае нового конфликта; правда ли, что русские целиком и полностью за немцев. Говорили, что в Бытом, на Гляйвицерштрассе, 10, где располагался комиссариат, Корфантий возвратился успокоенный.
Незабываемым для варшавян стало выступление в зале Гигиенического общества на Каровой, 31 русского поэта Маяковского, прилетевшего на аэроплане из Бреста. На футуриста собралась разнообразнейшая публика, а многие покинувшие город в страхе перед туранским нашествием, потом всю жизнь кусали локти – из-за минутной слабости и трусости они не оказались свидетелями величайшего в истории Варшавы события. Особенно страдал отступивший с армией за Вислу верный воинской присяге Владислав Броневский, в дни Польревкома подпоручик 1-го полка легионов.
В перерыве, пробившись через толпу поклонников, к русскому поэту подошла красивая статная дама. То есть разумеется гражданка. Словом, товарищ. «Моя фамилия Котвицкая, Маргарита Котвицкая. Моя дочь…» – сказала она, собираясь объяснить, чего она собственно хочет, ведь если поэт как-то связан с Наркомпросом, то быть может он… Потрясенный футурист не дал Малгожате Котвицкой договорить: «Барбара Карловна? Что с ней?» «Я хотела спросить об этом вас», – смутилась женщина. «Всё, что я знаю о Басе, – ответил поэт, – это то, что она уехала в Киев. Из Москвы. Весной. Больше, к сожалению, ничего». Женщина переспросила: «В Киев?» Поэт подтвердил: «В Киев».
***
Не имеет смысла, да и просто невозможно рассказать здесь обо всем, что происходило в Варшаве в дни Польревкома, дни освобождения и счастья. Кратко суть происходившего автор, поклонник варшавских мостов и трамваев, мог бы передать стихами. Всё того же русского поэта. Помните?
Дул,
как всегда,
октябрь ветра́ми.
Рельсы
по мо́сту вызмеив,
Гонку
свою
продолжали трамы
Уже –
при социализме.
Необходимо только сделать сезонную поправку. Счастье в Польшу пришло не в октябре, а в августе. В победном коммунистическом августе двадцатого.
Польский Август – под этим именем он и остался в истории.
***
Да, товарищ, так должно было быть. Но так, товарищ, не было. Потому что было иначе.
***
Контрудар, нанесенный с реки Вепш по левому флангу Запфронта, по воспоминаниям маршала, был похож на удар в пустоту. Мозырской группы красных войск, прикрывавшей левый фланг Тухачевского, словно не существовало. Удивляться, увы, не приходится – если сопоставить численность войск злосчастной группы с теми пространствами, что она была призвана контролировать. Шесть тысяч штыков и сабель, с одной стороны, и двести километров с запада на восток – с другой.
Удар был тщательно спланирован и подготовлен. Второго августа Пилсудский прибыл с фронта в Варшаву, где нескольких дней изучал обстановку и предавался тягостным размышлением, испытывая муки, подобные тем, что испытывает «une fille qui accouche»34. (Яркий образ маршал позаимствовал у корсиканского кумира.) Роды были трудными, намерения Тухачевского – неясными. Не навалится ли он всеми силами на Варшаву, не рухнет ли оборона? Шестого августа роды состоялись, и был издан приказ о сосредоточении группировки для удара Тухачевскому во фланг.
Концентрация продолжалась более недели. Польские соединения – дивизии, бригады и целая армия – отрывались от наших наседающих войск и стекались на реку Вепш, впадавшую в Вислу в районе Демблина, бывшего Ивангорода. Гримаса судьбы – приказ о сосредоточении на Вепше был обнаружен нашими бойцами у убитого вражеского офицера. Полученную информацию обсуждали по прямому проводу командзап и главком сил Республики. При этом командзап логично замечал, что это просто невозможно, ведь названные в приказе легионные дивизии в данный момент отражают, и успешно, наши атаки на юге. Те же, отразив, снимались с позиций и уходили на Вепш, по железной дороге или походным порядком. Преследовать их не пытались, у нашей 12-й армии недоставало сил даже на то, чтобы занять освобожденное противником пространство – im Raum verlegen35 было просто некого.
Двенадцатого августа, вечером, накануне первого боя за Радзымин, маршал выехал из столицы в Пулавы, чуть южнее Демблина, чтобы произвести на месте последние приготовления: проинспектировать и приободрить стянутые к Вепшу войска, оценить полученные пополнения, посмотреть вблизи на неприятеля и отдать последние распоряжения. Нанести контрудар ему пришлось на день раньше, чем было запланировано, не семнадцатого, а шестнадцатого августа. Из Варшавы – до зубов вооруженной, набитой войсками, артиллерией, пулеметами, иностранными военными специалистами, – из Варшавы поступали тревожные известия. Утром собранные за Вепшем четыре дивизии перешли в наступление. Приказ вождя гласил: дивизиям двигаться вперед, не заботясь о флангах, не оглядываясь на соседей, только вперед, только вперед, только вперед. Немножко пострелять при переходе в наступление удалось одной дивизии из четырех, да и там всё закончилось поразительно быстро – красные дозоры или что-то вроде них стремительно покинули северный берег Вепша.
Дальше последовал Киплинг в классическом русском переводе. День – ночь, день – ночь – мы идем куда-то там… Пыль – пыль – пыль – пыль – от шагающих сапог… Польские дивизии, на широком фронте, без сражений, без боев, с редкими стычками в первый же день прошли по тридцать километров. Перерезая по пути чахлые советские коммуникации и тщетно выискивая русские войска. «Где же эта адская Мозырская группа, куда она запропастилась, где та засада, из которой товарищ Хвесин готовит апокалиптический удар?» – тревожился польский вождь, следуя на левом фланге войск в автомобиле. Позднее стало ясно: польских пространств между Вислой и Бугом было более чем достаточно, чтобы там могли разминуться как дивизии ударной группировки маршала, так и чахлые полки группы товарища Хвесина.
Тем не менее рассеченная – незаметно для себя и для противника – и как следствие, потерявшая управление группа т. Хвесина в течение первых часов польского контрмарша прекратила свое существование в качестве боевой единицы. Пилсудский со своими частями оказался на тылах атакующей Варшаву шестнадцатой армии, всего в двадцати километрах от передовых позиций польских войск варшавского плацдарма. У маршала опять возник вопрос: а где же эта самая шестнадцатая армия? Кто, собственно, штурмует Варшаву? Чем они в Варшаве так обеспокоены?
На следующий день, продолжая марш приблизительно с той же скоростью, маршал вышел на тылы 3-й армии. Захватывая обозы, тыловые службы, громя штабы и управления. Что могло бежать, бежало. Что не могло – рассеивалось, истреблялось, попадало в польский плен. С запада на восток, от Варшавы по направлению к Бресту, образовался новый польский фронт, стремительным катком сминавший наши фланги.
Вечером семнадцатого августа вождь прибыл в дивизию горных стрелков, застав в ее штабе весело пирующих начальников. Офицеры были счастливы: противника почти не наблюдалось, а немногих, пытавшихся сопротивляться, помогал избивать сельский люд. «Стоит нашим горцам развернуться в стрелковую цепь, как отовсюду сбегаются мужики и бабы. С цепами, с топорами, с вилами. Ух и молотят они красноту, похлеще, чем зерно, черепушки вдребезги, кто бы мог подумать». Маршал в ответ улыбался. «Хамы спешно доказывают лояльность, – без особой эйфории думал он. – В целом неплохо. Надо бы усилить. Тиснуть подходящее воззвание. Польский люд, вооружись, поднимись, разъярись… Набросаю».
В тот же самый день, семнадцатого августа, удар по нашей шестнадцатой был нанесен с варшавского плацдарма.
Утром семнадцатого в Минске получили известия о наступлении противника со стороны Люблина и о разгроме Мозырской группы. К вечеру осознали, что происходит неладное. В 18 часов Тухачевский отдал армиям приказ на отход. Предполагалось, что организованно отступив, они закрепится несколько восточнее. Ничего не вышло. Попыток закрепиться на каком-то рубеже третья и шестнадцатая не предпринимали, все указанные Минском рубежи оказались заняты врагом. И если 3-й армии удалось, махнув на всё рукой, быстро преодолеть расстояния и выскочить из почти затянувшегося мешка, то отступление шестнадцатой оказалось крайне неорганизованным. Естественный для нее путь на Брест был давно перерезан, и поэтому ей, самой южной из армий фронта, пришлось идти на северо-восток. Дезорганизация перерастала в хаос, войска перемешивались, дороги забивались многоверстными пробками. Штабы теряли связь с частями, части рассыпались, соединения распадались. Лишь немногие, такие как двадцать седьмая, штыком и гранатой прокладывали путь к спасению – на Неман.
Опоздали с отступлением две северные армии: пятнадцатая, самая сильная, и четвертая, самая северная, далее прочих зашедшая на запад. Ее шесть стрелковых дивизий и конный корпус застряли на Нижней Висле, в Данцигском коридоре, между немецкой Пруссией и немецкой же Померанией. Причиной стало полная дезориентация: утратив контакт с командзапом и соседями слева, командование четвертой не представляло ситуации на фронте. В довершение несчастий был разгромлен армейский штаб и захвачена одна из двух радиостанций, что позволило противнику глушить вторую станцию, не позволяя командарму четвертой получать приказы из Минска.
В свою очередь, пятнадцатая армия упрямо стояла на старых позициях, пытаясь обеспечить четвертой отступление из «коридора». На деле она лишь теряла время, но с другой стороны, начни она отход, это бы только усилило хаос, поскольку пути ее отступления были забиты войсками шестнадцатой. Так и выглядят катастрофы: что ни сделай, всё будет хуже.
Выдающийся успех маневра Пилсудского позволил перейти в контрнаступление и пятой армии Сикорского. Она прижала к границам Пруссии дивизии четвертой и отдельные части пятнадцатой. Двинулись в бой и другие польские армии, первая и вторая. В первый же день наступления, восемнадцатого числа, части Лятиника заняли Вышков. Вышковский пробст облегченно вздохнул. Отныне он знал, кому расскажет о недавних гостях – о Дзержинском, Мархлевском и Коне. Пробсту посчастливилось: первыми слушателями стали Стефан Жеромский и командующий Северным фронтом Галлер.
В тот же день или, возможно, днем позже катастрофа стала тотальной. Западный фронт Республики на неделю перестал существовать. Ее, нашей Республики, западная часть, мученная-перемученная и впопыхах объявленная независимой Белоруссия, снова оказалась под ударом.
****
Много и верно писали об авантюристической стратегии Третьего рейха. Так вот, по сравнению со стратегией Тухачевского, стратегия рейха – верх продуманности и осмотрительности. Автор говорит подобное, не будучи ни в малой степени военным теоретиком и практиком. Теоретики и практики выразятся жестче.
Но ведь авантюристом был и польский маршал, резонно возразит специалист. Да, был. И не просто авантюристом, но авантюристом не раз наказанным, заплатившим за свой авантюризм тысячами жизней. Последний раз маршала наказали дважды – в июне на Украине и в июле в Белоруссии, причем в июле наказал его Тухачевский. Польский маршал был битым авантюристом, а за битого, как известно… Вот именно.
Презирать и ненавидеть Пилсудского можно и нужно. Он был циничным фанатиком, империалистом, себялюбцем, лжецом и бесстыдным, жестоким авантюристом. Невозможно не отдать вместе с тем должного его железной воле, решительности, трудоспособности, отваге и уму. Его многое роднило с Тухачевским, но ставки в августе двадцатого были различны.
Для польского маршала на кону стояло дело всей жизни. Гаденькое, но созданное им, не только им, но в значительной степени им, государство. Для Тухачевского – туманные перспективы мировой революции и успех в одной из фронтовых операций. Операции гигантской, крайне важной, но не могущей при неудаче, даже наистрашнейшей, погубить Советскую Россию. Да, на кону стояли жизни красноармейцев, командиров и политработников. Но Тухачевский был военный человек, а на войне без потерь не обходится.
И еще ему было куда отступать.
А если бы Михаил Николаевич победил, что тогда? Ведь победителя не судят. Ни за растянутые коммуникации, ни за отставшие тылы, ни за голые фланги, ни за наступление на превосходящие силы противника, ни за неверные расчеты, ни за ошибочные предвидения. Его восхваляют – за фантастическую интуицию, за чувство, за гений.
По аналогии с французским чудом на Марне польские публицисты окрестили катастрофу Красной армии чудом на Висле. Главный автор чуда, то есть Пилсудский, был с таким определением не согласен. И совершенно справедливо. Случившееся в те дни чудом не было. Чудом было бы взятие нами Варшавы.
Немыслимого чуда не произошло.
***
О наших неуспехах на варшавском направлении в Киеве пока еще не знали. Правда, сведущие люди, умевшие читать в газетах между строк, заподозрили неладное: вместо свежих известий с фронтов шли повторы на тему польской оккупации, исчезли вдруг названия новых городов и начисто пропала Варшава, – но Барбара и Петя в дни агонии Польревкома газет не читали в связи с музыкально-поэтическим вечером. Петя был озабочен другим – предосудительным поведением Красовера. Предосудительным? Наглым, мерзким, отвратительным. Пилсудовско-петлюровским. Антантовским!
Зная обычный маршрут Красовера и располагая временем, Петя как-то раз дождался молодого ученого на улице, неподалеку от библиотеки, возле бывшего питейного заведения, ныне чайной, и грозно заступил ему дорогу – как заступали пути печенегам Муромец, Попович и Никитич. Прохожие невольно обращали внимание на разительно несхожих собеседников: загорелого бойца, в выбеленной солнцем гимнастерке, видавших виды конских сапогах – и его округлого белолицего визави, заведомо штатского и за версту не конника.
– Добрый день, Константин Матвеевич, – еще пока сдерживаясь, поприветствовал Петя врага.
Красовер удивился.
– Добрый день.
Из чайной, сквозь открытое окошко, долетали звуки карапета, жизнерадостные, бойкие, задиристые. Сбивая Петра с задушевной тональности и провоцируя на необдуманные действия.
– Мне бы очень хотелось, то есть совсем не хотелось, но возникла вдруг, прошу прощения, необходимость… – Петя выговаривал слова и злился на себя, что слов так много, совершенно лишних. Красовер же разглядывал бойца и недоумевал. – Словом, возникла необходимость с вами объясниться. Иначе говоря, поговорить. Вы понимаете, я думаю, о чем я?