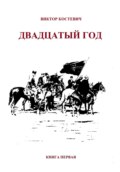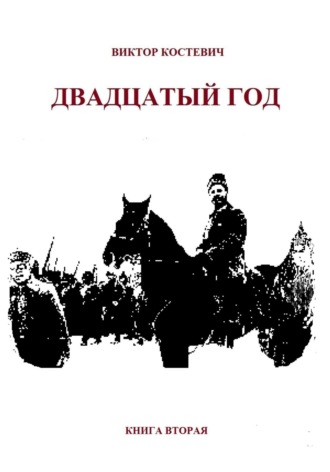
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга вторая
(Наступление никак не удавалось развернуть – вследствие долгих боев у пограничного города Броды и на линии Западного Буга, неоднократно форсируемого нашими дивизиями и неприятелем. Буденный просил штаб фронта о смене и отдыхе, напоминая о двух месяцах беспрерывных боев и ссылаясь – последний аргумент – на то, что лошади, те что еще не пали, уже не в силах отгонять пожирающих их мух. Тщетно.)
Третья стадия, догадается умный читатель, выглядела следующим образом. Форсировав Буг в его верхнем течении и вытесняя пешие и конные соединения бешено контратакующего врага, неся невосполнимые потери и все более отрываясь от баз снабжения, Конная упрямо наступала на Львов. На исходе второй декады августа она подошла к галицийской столице вплотную. После чего, 19 августа, началась четвертая фаза.
На данном этапе, оставив кровью добытые позиции у Львова, Конная перешла через Буг в обратном направлении, сместилась на север, после чего, уже зная о катастрофе Запфронта, направилась на запад. Снова с боем форсировала Буг и по сложной для передвижения местности, под непрерывным дождем, в непролазной грязи, оставив в глубоком тылу бронепоезда и обозы второго разряда, постоянно атакуя и отражая контратаки, теряя от бескормицы и изнурения коней, продвигалась по Замостскому уезду, непонятно зачем и неясно на что рассчитывая. Честно выполняя приказ.
Следом за Конной, перейдя наши прежние позиции у Львова, устремилась кавалерия противника. За Бугом, в пресловутом Замостском уезде, над Буденным нависли с юга и севера несколько польских дивизий, не говоря об упоминавшейся русской шушере. Последняя военной ценности не представляла, но высвобождала для боевой работы по-настоящему ценные войска. Продвигаясь на запад, Конная втягивалась в мешок. Штурм ею Замостья разворачивался в полуокружении.
Разумеется, не нам одним было тяжко. Тяжко было обескровленной двенадцатой армии, тяжко было выбитой наполовину четырнадцатой. Тяжко было подлому врагу: он месил ту же грязь, мок под теми же дождями, увязал в тех же самых болотах, тонул в тех же самых реках; он гиб от наших пуль и шашек, более того – месяцами действовал на чуждой, враждебной, ненавидящей его земле. Но в последнюю неделю, по мере продвижения Конной на запад, ситуация менялась на глазах. Порядки противника уплотнялись, коммуникации сокращались, снабжение улучшалось, земля становилась, можно сказать, практически своей. («Можно сказать» и «практически» – это на случай новых воплей с какой-нибудь внезапной стороны.) А Западный фронт, в помощь которому нас перебросили, отходил и отходил на восток.
***
Курьер Варшавский, 21 августа 1920
(…) Мы знаем лишь малую часть этих зверских убийств, знаем отдельные фрагменты, что донесли до нас стоны растерзанных жертв, убиваемых в «czrezwyczajkach». Только в учебниках криминальной психопатологии можно найти объяснения той дегенеративной извращенности, с которой еврейчики и еврейки (преимущественно) медленно, с наслаждением умерщвляют свои жертвы.
У нас есть фотографии этих комитетов убийц из czerezwyczajek. Расовая принадлежность палачей сомнению не подлежит.
А на поле боя?
Сколько раз у нас, людей арийской культуры, культуры Запада, волосы вставали дыбом, когда мы читали описания надругательств дикарей над сестрами милосердия, санитарками. (…)
***
Вторые сутки кряду со стального неба лил холодный дождь. Шедшая с юго-востока, вдогон за Конной первая польская дивизия конницы из последних конских и человеческих сил пробиралась по разлившемуся морю грязи. Лошади останавливались, а то и вовсе ложились в жидкий чернозем, отказываясь тащить орудия и повозки, вязнувшие в студеной жиже по ступицы. С козырьков улан и шеволежер струями стекала, разбиваясь о переднюю луку, вода. Командовавший дивизией Юлиуш Руммель, старший брат тренера польских олимпийцев, приказал в конце концов располагаться на ночлег. «Иначе сдохнем, не дойдем».
Полк Тадеуша Борковского, получивший накануне приказ преследовать отброшенного в сторону противника и потому отставший от бригады, тоже наконец остановился. Уланы, понабившись в халупы и сараи, сбрасывали отяжелевшие плащи, сушили отсыревшие сапоги и насквозь промокшие фуражки, слабо надеясь, что к утру всё это и в самом деле хоть немного высохнет.
Поручик вместе со старшим уланом Яцеком Крулем, немолодым земляком из-под Кракова, поставив лошадей под натянутым над коновязью брезентом, сумели устроиться на ночь в углу просторной хаты старого и мрачного русина. Подчиненных у недавно прибывшего в полк поручика покамест не было, распоряжений он не получил, и потому с чистой совестью и наслаждением растянулся на раздобытом Крулем сеннике. «Живем, пане поручик?» – осведомился на всякий случай Круль. «Живем, пане старший улан».
Пробудившись на рассвете и пробравшись меж сопящих и храпящих тел на двор, поручик обнаружил свою рыжую Магдаленку тщательно очищенной от грязи. Спрашивать, чья работа, не стал. Бросил в воздух: «Спасибо», – и направился искать эскадронного Зарембу. На площади трубач играл побудку.
Выступили через час. Нужно было догонять бригаду.
Поселяне полк не провожали. Русины забились в халупы, поляки тоже старались лишний раз не показываться.
Из села поручик выезжал со своим прежним взводом, которым после его ранения командовал третий по счету офицер. Из старого состава в строю осталось меньше половины. В числе оставшихся был улан Кветень, тот, что в апреле, перед Казатином, на глазах Борковского разнес прикладом череп «комсомольцу», и товарищ Кветня Помяновский, тот, что тогда же угостил другого «комнезамовца» пикой меж лопаток.
Круль, воевавший с пятнадцатого, появился в эскадроне позднее, с ним Борковский познакомился на днях. Оба моментально ощутили, так сказать, духовное сродство: и тому и другому в кавалерии всего милее были лошади, в то время как от прочего уже давно тошнило. От прочего и прочих – от Кветня, от Помяновского, от начальника державы, даром что вслух на эти темы ни старший улан, ни поручик не высказывались. Оба делали свое дело. Не хуже других.
– Местные-то, суки, волками, бляха, смотрят, – пробурчал непроспавшийся Кветень. – Не поняли еще, что теперь тут Польша. Навсегда.
– Еще поймут, – утешил Кветня Помяновский, – А не поймут, так объясним. Понаставили себе языческих молелен, поганцы.
– Что за церква-то? – ткнул пальцем в сторону Кветень. – С виду вроде бы ничего, не так чтобы сильно языческая.
– Какой-то казанской иконы. Представляешь? У нас, бляха, в католической стране. Охамели.
– Ну это, братья, ненадолго, – пообещал кто-то третий, кажется капрал Антоний Шиц, почти окончивший гимназию во Львове доброволец величайшей в истории человечества обороны, львовский так сказать орленок. – Большевики со своими попами не цацкаются, и мы не станем с ихними цацкаться, схизматическую их мать.
– Слушайте, парни, – пробудился вдруг кто-то еще, – кто такие схизматы? С детства слышу: схизма, схизма, а в толк всё не возьму.
Кветень, знаток Востока на практике, пренебрежительно хмыкнул. Помяновский, знавший грамоту, великодушно пояснил:
– Схизматики – это вероотступники, предавшие святую католическую церковь и от нее отпавшие.
Много более ученый Шиц счел необходимым уточнить:
– По сути верно, но терминологически не вполне обоснованно. Отступники – это перевод иного греческого слова, апостаты. Которыми русины, разумеется, являются, поскольку всякий схизматик объективно есть отступник. Но само слово «схизматикус» означает не отступника, а раскольника, вносящего раскол в святую церковь. Раскол, которому восточные схизматики обязаны своим именованием, начался в тысяча пятьдесят четвертом году, когда византийские иерархи…
– Хватит, всё поняли, – оборвал Помяновский лекцию. – Все русины и прочие русские – суки. Потому что против нас. Верно, академик?
– Безусловно, – не стал отрицать очевидного Шиц.
– А потому, – припомнил богатое прошлое Кветень, – рука не дрогнет… Когда рука не дрогнет?
– Когда увижу поганую русскую харю, – четко, однозначно ответил Помяновский.
Умная беседа согревала и укрепляла сердца, несмотря на снова зарядивший дождь.
Круль в разговоре не участвовал. Казалось, он дремал. Глаза его были закрыты. Вот так бы и мне, подумалось поручику, закрыть глаза и уши, забыть про всё, не видеть ничего, не слышать…
С другой же стороны, оборвал себя он, что сделал лично ты, Борковский, чтобы Кветень и Помяновский были другими? И чего ты хочешь от них, если даже Антось Шиц, эскадронный Спиноза, подражает в речи Кветню с Помяновским и не намерен цацкаться со схизмой? А с третьей стороны, что сейчас полезнее для общества? Твои моральные терзанья – или их умение управиться саблей, прикладом и пикой, умение, в котором они не уступят тебе, винер-нойштадтскому академику. Чего в конце концов ты хочешь: чтобы они восклицали dulce et decorum, цитировали мысли о справедливой войне – или чтобы не пропустили Буденного, чтобы защитили твой и Марыни Котвицкой уютный мещанский мирок – с лазенковским ипподромом, вечерними газетами, поездами до Берлина, Парижа, Антверпена? А потому заткнись и любуйся пейзажем отчизны. Люблинской житницы Польши, с ее отнюдь не песчаными, но черноземными, бурыми, палевыми и иными плодородными почвами. Сегодня, под холодным дождем, житница выглядит не так чтобы очень, но так ведь будет не всегда. И еще бери пример с подпоручика Краевского, нынешнего командира взвода, что едет рядом и не обращает на болтовню подчиненных внимания.
– Столько лет, столько зверства.
– А чего ты хотел? Война.
– Ага, что не так, так сразу – война.
– В начале войны, в четырнадцатом, в июле, по-нашему значится в августе, входим мы в Пруссию…
– Мы это кто?
– Гусарский наш полк.
– Русский, что ли?
– Понятное дело, не швабский. Разве у швабов конница? Да они от нас…
– Но-но!
– Так вот. Раз немцы начали обстрел. Наш полковой командир вообразил, что немецкий наблюдатель засел на колокольне. Рядышком с ею, колокольней то есть, местные пруссаки аккурат стояли. Он к ним подъедь и спроси, есть ли кто на колокольне. Те в голос – никого, герр официр. Он и пошли человечка наверх. Слышим – выстрел. Командир рассвирепел. Пруссаки солгали! Они шпионы! Немедленно всех расстрелять! Дурное дело нехитрое, мы ребяток и того. Трое их было, четверо, не помню. Тут возвращается гусарчик с колокольни. Командир его пытает: кто там был? Никого, говорит гусарчик. То есть как никого? Кто же стрелял? Да это я, говорит, нечаянно, споткнулся.
Яцек Круль, не открывая глаз, вздохнул. Хлюпали по месиву копыта. Помяновский пробурчал:
– Тоже мне история. Может, они и правда шпионы были. Немцы, они, ихнюю мать, патриоты, не то что москали.
– Всё равно разобраться было надо, – не согласился рассказчик. – Нельзя же так. Разозлился, и сдуру…
– Ты сам-то стрелял? – подал голос Кветень.
– Понятное дело. Приказ.
– Вот и молчи, – вмешался в разговор кто-то пятый. – Страдалец нашелся. То ли дело у нас в июне месяце было, я тогда еще в другом полку служил. Стояли мы в одном сельце неподалеку от Житомира. В эскадроне ночью двух коней уперли. Одного – у моего подпоручика. Тот, натурально, в ярости, устраивает дознание. Согнали всю русню на площадь, баб, мужиков, мелкоту. Так и так, отвечать, кто что знает. Молчат, никто ничего. Хорошо, говорит подпоручик, сейчас пристрелю первого. Молчат, дураки, не верят. Тут он мужичонке из шпалера в лобешник. Ахнули, но обратно молчат. Он второму башку развалил. Рты поразевали, а молчат. Он третьему. Тут полковник прибежал. Что такое? Прекратить. А то бы подпоручик весь наган в них выпустил. А у него еще маузер был.
Борковский, слышавший об этой пакостной истории, скрипнул невольно зубами. Круль помотал, словно что-то отгоняя, головой. Спиноза-Шиц пустился в рассуждения, по-своему логичные и убедительные.
– Если смотреть с военной точки зрения, коллеги, то оба были правы. И русский полковой командир, и подпоручик. И германцы были правы, и австрийцы, когда деревья русней украшали и сербами. На вражеской территории только так. Страх подавляет недовольство, всякую неискренность. Невиновных быть не может. Все они враги.
– А ты, Антось, прошлый месяц на которой территории орудовал? Тоже на вражеской?
– То были евреи, – не смутился львовский гимназист. – Они нас ненавидят и не проявляют открытой ненависти исключительно по причине въевшегося в них страха. Дай им волю… Страх должен идти впереди нас, коллеги, страх. Надо расстреливать, будем расстреливать, надо жечь, будем жечь.
– Надо грабить, будем грабить? Надо пердолить, будем пердолить?
– Цыц! – неожиданно напомнил о себе комвзвода. – Кто сказал «пердолить»?
– Вам послышалось, пан подпоручик! Такого слова нет, мы знаем!
– То-то. – Помолчав, Краевский пожаловался Борковскому: – Вы не представляете, Борковский, сколько раз я это говорил. Что в лоб, что по лбу. Полное падение культуры. Шесть лет войны…
Яцек Круль вздохнул. Борковский похлопал Магдалену по плечу: «Держись, девчонка, скоро отдохнем».
– Вот потому их и надо уничтожать, – раздавался чуть глуше, но много решительнее голос львовского орленка Шица. – Чем больше, тем лучше. Россия – это болото. Это огромная дыра, в которой темнеет всё светлое. Это…
***
ПРОПУСК К ПОЛЯКАМ
Предъявителя сего, бежавшего из войск Лейбы Троцкого – накормить хорошо, снабдить папиросами и отослать в штаб дивизии, откуда он будет по истечении двух недель уволен домой, или, если пожелает, будет отправлен на полевые работы.
Пропускная канцелярия
русских партизанов
при Польской Армии.
Спрячь этот пропуск: он спасет тебя от смерти.
***
Ни командарму Конной Буденному, ни командюгзапу Егорову, ни командзапу Тухачевскому, ни главкому Республики Каменеву наверняка в те дни не приходило в голову, что вопрос о запоздалой переброске Конной на помощь Запфронту когда-нибудь окажется в центре их собственных страстных дискуссий. Имеющих целью выяснить главное – кто виноват? Можно, конечно, выдвинуть гипотезу, что уже в дни катастрофического отступления Михаил Тухачевский задумывался, кого бы обвинить в варшавской неудаче. Но мы, верные принципу «не приписывать негатива», данную версию к рассмотрению не принимаем.
Тем более не могли предположить – как будущие враги народа Егоров, Тухачевский, Каменев37, так и оставшийся народным другом Семен Михайлович, – что сорок лет спустя, уже по разоблачении культа, катастрофа Запфронта будет объяснена ничем иным, как саботажем РВС ЮЗФ. Прежде всего – саботажем одного его члена, самого-самого-самого нехорошего. Понятно кого. Непонятно? Не верим.
Наш командарм, Семен Михайлович, доживет до светлых посткультовых дней и даже попытается что-то объяснять. Ссылаясь на документы, на переписку, на переговоры. Восторжествует, тем не менее, точка зрения Тухачевского – несмотря на то что главный оппонент Тухачевского, Егоров, тоже стал врагом народа, тоже был посмертно реабилитирован и тоже написал свой труд по данному вопросу, много более основательный, чем сочинение Тухачевского. Почему так вышло? Затрудняемся ответить. То ли у Тухачевского осталось больше, чем у Егорова, доброжелателей, то ли дело заключалось в нехорошем члене РВС и в нехорошем культе члена. Сидел бы член с культом не в Харькове, а в Минске, тогда бы, возможно, виноватым оказался Запфронт.
Мы не станем вдаваться в детали споров об истоках катастрофы. Выскажем общее суждение. Существенным являлось любое направление, ибо угроза была отовсюду. Нужны были силы. Сил у Республики не было. Трех- и, тем более, пятимиллионная РККА была всего лишь трогательным мифом. История с переподчинением и перенаправлением Конной, равно как и других соединений – это история огромного, в тысячи квадратных верст, тришкиного кафтана, который пытались залатать, заштопать, зашить, а он разрывался – то там, то тут, то здесь, – не говоря о наседавшем из Северной Таврии Врангеле. Кроме того – это история эйфории. Увы и увы, неоправданной.
Но это также история нашей великой победы.
«Победы?» – дружно ухмыльнутся придурок в вышиванке, его собратец с бело-красной тряпочкой и шелковый московский умник, вообразивший себя элитой и напрямую о том возвещающий – как устно, так и печатно. Да, громадянчики, победы. Тяжкой, горькой, неполной, кровавой. Однако победы. Потому что больше они не вернутся. Ни в Киев, ни в Минск, ни в Житомир, ни в Винницу. А вам бы хотелось?
***
– Перед нами, господа, чудовищный эксперимент, поставленный на трупе России новоявленными франкенштейнами!
К чему бы это, вздрогнет задерганный авторским переплясом читатель. А к тому, товарищ, что в дни триумфального шествия армии Пилсудского к Бресту и на Гродно, в дни сражения под Замостьем, в эти алые от русской крови дни в польской столице опровергался тезис о неискоренимой польской русофобии. И поскольку главные властители польско-русских дум, Мережковский и его супруга, в Варшаву еще не вернулись и поскольку их друг и соратник Философов был занят делами при Савинкове, – то их всех вместе взятых заменила новая сенсация в лице московской беженки Юлиановой.
Лидии Юлиановой.
«Кого, кого?» – удивится читатель. В ответ удивимся мы. Ибо речь идет о Лидии – той самой Лидии, с которой, собственно, и начались приключения Барбары в двадцатом. «Той самой? Пантеры? – скептически нахмурится читатель. – И как же она оказалась в Варшаве? Автор нас разыгрывает? Вроде того, как разыграл с Маяковским на аэроплане?» Вовсе нет. В отличие от Маяковского, его московская знакомая, то есть Лидия, сладострастная пантера, в Варшаве объявилась еще в июне месяце. Ей, несмотря на историю с Басей, удалось подцепить подходящего офицерика, и тот, признательный за всё, сумел переправить сапфистку автотранспортом в Ровно. Оттуда, уже на поезде, пантера благополучно и с комфортом проследовала в польскую столицу.
Пообращавшись два месяца в общественных организациях, русская жертва czrezwyczajki – а о czrezwyczajce Юлианова знала не понаслышке, – приобрела заметный вес и привлекла всеобщее внимание. Ее повествования, от которых у представителей арийского Запада волосы вставали ежиком, были без дополнений и с некоторыми даже изъятиями использованы при написании немалой части разоблачительных статей, густо усеявших в те дни «Курьер Варшавский», «Курьер Польский», «Варшавскую газету» и «Республику». Ее посетили репортеры практически всех солидных изданий, кроме разве что «Дер Тог» и «Дер Момент».
Довелось послушать Лидию и Марысе Котвицкой. Манина товарка по больнице, дама из сравнительно высокого круга, с которой Маня, как ни странно, подружилась, передала ей приглашение на выступление русской знаменитости. Последнее должно было состояться в узком, совершенно интимном кругу, не более тридцати-сорока приглашенных, в салоне ее тетки на улице Братской (Brackiej), то ли графини, то ли княгини, словом аристократки, вроде бы по мужу. Поскольку Марыле самой предстояло – если не случится страшного – в скором времени сделаться чем-то вроде графини, мероприятие ей показалось интересным. Сама товарка прийти на чтения по причине вечернего дежурства не могла.
К началу доклада восточной звезды Марыся основательно припозднилась. Помогала медсестре и медбрату, ассистировавшим хирургу Каспшицкому при четырех подряд операциях, в их числе ампутации гангренозной конечности; потом вместе с Касей Горчицей, санитаркой, приводила в порядок операционную; после же долго приводила в порядок себя, пытаясь избавить руки от благоухания карболки, йодоформа и прочих необходимых в медицине веществ. Идти, пожалуй, никуда уже не стоило, но любопытство пересилило – всё же московская знаменитость, жертва czrezwyczajki.
В обширную полутемную залу, где на антикварных, в стиле кого-то из Людовиков, стульях восседало изысканное, избранное общество, Маня вошла, когда докладчица пребывала уже в экстазе. Публика, которую Марыся мысленно обозначила коневодческим термином «thoroughbred», эта тщательно отобранная публика внимала. Приметив свободный стул рядом с высоким, носатым, неславянского вида военным, Маня глазами попросила дозволения сесть. Неславянский военный учтиво кивнул, и Маня, устроившись, окунулась в юлиановские экспромты. По последним Юлианова, если читатель помнит, была величайшая мастерица.
– Перед нами, господа, чудовищный эксперимент, поставленный на трупе России новоявленными франкенштейнами!
Именно так звучало первое, что услышала Марыля от статной, красивой и, должно быть, неглупой женщины. Знавшей, во всяком случае, что Франкенштейн это не монстр, а его нечаянный создатель, гениальный ученый-экспериментатор. Немецкий. Не намек ли то был на Маркса и Энгельса? Маня прислушалась. Что еще скажет миру русская женщина?
– Появилась новая, невиданная доселе порода людей, – сказала миру Юлианова. – Улицы Петербурга, да и далекой от Балтийского моря Москвы заполонили омерзительного вида чухонки…
Раны божьи, чем же ей не угодили финляндки, изумилась дочь филолога. Белокурые, опрятные. И как дочь филолога предположила: видимо, тем, что они не арийки, не индогерманки, не индоевропейки.
– Вместо старых солдат, таких подтянутых, исполнительных, предупредительных – господа, поверьте, я знаю русского солдатика, мой дядя полковник, у него был чудный, молодой и очень сильный денщик, – возникли новые, выведенные большевиками и коммунистами. Наглые, грубые, глядящие на вас так, словно сию минуту хотят вас унизить, растоптать и… Словом, вы понимаете.
Доброе Манино сердце сжалось от сострадания. Вспомнился приставший к ней в ростовском парке наглый и грубый корнет-доброволец, наилучшим образом отвечавший приведенному описанию. Но красные, разумеется, хуже, много и гораздо страшнее. Маня в Ростове от навязчивого ценителя отделалась почти, можно сказать, без ушибов, тогда как этой несчастной русской женщине, воистину могучей и бессильной, несомненно, довелось неоднократно быть растоптанной. Господи, как же там бедная Баська… Неужели и ее топчет хамский франкенштейновский сброд? Но Баха где-то служит, наверняка у нее есть защита… В лице народных комиссаров Луначарского, Сталиняна, Чичеридзе.
– Чудесные матросы, – продолжала Юлианова, – я знаю русских матросов, я жила в Петербурге и Севастополе, чудесные, юные, сильные матросы под влиянием бесчеловечной пропаганды перестали быть чудесными. Я не хочу об этом говорить, не могу, простите…
Слезы, увлажнившие красиво освещенное лицо, дали наинагляднейшее представление о том, до какой же степени перестали быть чудесными сильные русские матросы. Мане вспомнился восторженный рассказ одного коммерсанта – услышанный краем уха в ростовском кафе, – как поганую матросню в освобожденном от большевиков Новороссийске расстреливали сотнями и, не добивая, закапывали в землю – так что земля долго потом шевелилась. Словно дышала.
– Я не видела Ульянова-Ленина воочию, – честно призналась Юлианова, – но хорошо представляю его себе по фотографическим снимкам. Будьте любезны, покажите портрет. – На стене позади Юлиановой возникло изображение хитровато прищуренных глаз под хулиганистой, спортсменского фасона кепочкой. – Спасибо. Вглядитесь в это, с позволения сказать, лицо. Монгольские глаза и скулы, татарская улыбка Торквемады. Новый демиург творит новых людей по образу своему и подобию. В новом мире нам, людям культуры, не останется места – кроме как для тех слабых духом, кто пойдет в наложницы китайским и еврейским комиссарам и их татарско-латышским подручным.
Марыся содрогнулась. Намек на Баську был до крайности отчетлив. Разумеется, Юлианова Баськи не знала, но ведь она могла знать других большевицких наложниц. И она сама, всегда ли была она достаточно сильной духом? И что бы сталось с ней, с Марысей, очутись она на большевицкой территории, а точнее – в большевицкой лаборатории?
– Шестая часть планеты, – тут голос Юлиановой сделался стальным, торжественная интонация подчеркивала – это резюме, – превращена большевиками в невиданный в истории огромный скотный двор, на котором беснуются свиньи, хряки, боровы и кабаны. Бесы и не снившиеся Федору Достоевскому. Они спешат сюда, в прекрасную Польшу, оплот, форпост, краеугольный камень и бастион цивилизации. Они желают превратить наиболее европейскую из европейских стран в новый загон, в новый хлев, в пустое, вытоптанное их двойными бесовскими копытами пастбище. И потому – не обольщайтесь сегодняшними победами. Не позволяйте себе великодушия. Вашим девизом должно быть – убей! Убей большевика, комиссара, нехристя, христопродавца! О Польша! Отгородись железной стеной от охамевшей, оскотинившейся и омонголившейся, от навеки погибшей России. Во имя общего европейского дома, во имя нашего европейского будущего, во имя нашей бессмертной европейской, арийской, христианской души. Tak nam dopomóż Bóg!38
Зажгли электрический свет и раздались аплодисменты. Неславянский военный рядом с Маней тоже похлопал, но лицо его осталось равнодушным. По-русски он явно не понимал и потому чухонки его не устрашили. Занятно, кстати, уловил ли могучий нос исходившие от соседки ароматы медучреждения. Быть может, у него был насморк?
Появились кельнеры с подносами. Вкатили столики. Маня задерживаться не стала, не хотела беспокоить маму. Неславянский военный, очевиднейший француз, поклонился очаровательной varsoviènne и сразу же направился к окну, что-то обсуждать с другим военным мужем. Тоже респектабельным, в сером с лацканами уланском мундире, майором. Где-то она его, показалось Марысе, видела. Но безумно давно, быть может еще весной.
Несмотря на успех, произведенное Юлиановой впечатление не было вполне однозначным. Кое-кто из слушателей пребывал в смятении. Потомок литовских татар ротмистр Б. незаметно проскользнул в коридор, чтобы вглядеться в свое лицо – не обнаружится ли там перечисленных лекторшей черт. Профессор истории, не ариец, но и не чухонец, был смущен, хотя и не впервые, обличением большевицкой иудеократии. Что же касается тезиса о хлеве, то хотя последний был публике близок, говорить об этом вслух представлялось недостаточно приличными и не вполне своевременным. Россия не стала еще туманной абстракцией, и значительная часть аудитории по-русски говорила без акцента.
После незабываемого для слушателей вечера Юлианова попыталась обеспечить себе незабываемую ночь. Эротической атаке подверглись майор В., адъютант и соратник маршала, и долговязый француз де Г., чей далеко выдающийся нос обещал и иные выдающиеся достоинства. «Вы не француз!» – объявила галлу обиженная женщина. Галл в польской форме дискутировать не стал. В тот момент он размышлял о тактических предпосылках применения бронетехники, острым галльским умом анализируя неказистый пока польский опыт.
«Вот видишь, котище, – говорила Марыня, лежа в постели, мохнатому серому чудищу, – всё подтверждается, чистый Парандовский. Большевизм – это гибель Европы, и мы спасаем ее, то есть себя, то есть ее, то есть тебя, то есть…» Утомленную, ее неудержимо утягивало в сон, и под нежное мурлыкание Свидрика Маня уступила Морфею, можно сказать – отдалась.
Несчастной Юлиановой отдаться было некому. Морфей сапфистку давным-давно не брал, а уланский майор и французский де Г. оказались индифферентными дезертирами. «Вот бы кого расстрелять в Цитадели. А то всё жидов, жидов…»
У Марыни ночь выдалась гораздо интереснее. Ей привиделся прекрасный рыжий конь, могучий, стройный, со стоявшей, словно щетка, гривой. Он пролетал над стадионом, над глухими стенками, канавами, оксерами, он призывно ржал – для нее и для Тадека Борковского. Пробудившись, Марыля попыталась понять, с чего бы этот сон, к чему. И вспомнила: случайная заметка в газете, прочитанная далеко не вчера. Некий майор Домбровский, «знаменитый, храбрый партизан», ездил на рослом и рыжем англо-донце по скаковой дорожке ипподрома; конь закусил удила, понесся к ограждению – и сиганул через него, а заодно и через стоявшую за ограждением лошадь; невероятный прыжок оказался счастливым, если не считать небольшой царапины у англо-донца – от колючей проволоки, проложенной по верху ограждения. «Вот бы такого попрыгунчика Тадеку», – подумала тогда Марыся, но тотчас же забыла, под Варшавой начинались бои.
Теперь оно вот вспомнилось, во сне. Засыпая опять, Маня испытала ни с чем не сравнимое нравственное наслаждение: даже во сне она помнила о Тадеке и желала ему, только ему, самого лучшего и самого прекрасного. Именно того, чего желал бы себе и он сам.
***
Если верить польским сочинителям, главным экспертам по истории и человечеству, последнее в истории человечества кавалерийское сражение, получившее название битвы под Кома́ровом, произошло во вторник 31 августа приблизительно в пятнадцати верстах на юго-восток от Замостья. С нашей, русской стороны в нем приняла участие, утром, одиннадцатая кавдивизия, а вечером – шестая. Нам противодействовала группа генерала Галлера: первая конная дивизия Руммеля и тринадцатая пехотная. Наша четвертая, пробивавшая путь на восток, к реке Гучве, непосредственного участия в финальной битве кавалерии не принимала, сражаясь преимущественно со второй пехдивизией легионов полковника Жимерского, имевшего задачу не допустить нас к переправам. Четырнадцатая прикрывала Конармию с севера. При этом шестая вплоть до вечера была скована у Замостья боем с десятой пехдивизией генерала Желиговского и бегавшим по соседству с нею бывшерусским сбродом – «украинцами» Безручки и казаками-изменниками. Толика бывшерусской шантрапы суетилась и рядом с Жимерским, вроде бы тоже некие «украинцы».
Читателя не должно вводить в заблуждение количество наших и польских дивизий. Боевой состав, что у нас, что у противника, после боев, переходов, безвозвратных и санитарных потерь скукожился до minimum minimorum. Кроме того в знаменитой битве у высоты 255 участвовали не целые наши дивизии, а отдельные бригады или полки; то же самое следует сказать о враге. Но в целом зрелище вышло на славу – на зависть синеасту Даве Гриффиту с его «The birth of a nation» и, возможно, на зависть самому Сергею Эйзенштейну.
Для Конной кома́ровский бой был эпизодом прорыва на Грубешов, на восток, из-под Замостья. Из ловушки, где мы оказались и где нас ожидала лишь славная гибель – или же совсем не славный плен.
Отход был начат по приказу командарма. Уже вечером двадцать девятого сделалось ясно, что с подходом с юга группы Галлера армия окажется в оперативном окружении. Из основного штарма, пребывавшего в Луцке, было получено радио, содержавшее чудовищные подробности катастрофы Запфронта: на севере вся 4-я армия, весь 3-й конкорпус, две дивизии 15-й перешли двадцать шестого числа границу Пруссии и были интернированы германцами, прочие армии Запфронта с потерями откатываются на восток. Наша операция окончательно утратила смысл, но поскольку отмены приказа не поступило, командарм был вынужден продолжить наступление. Последовавшие тридцатого августа кровавые атаки шестой на Замостье вновь не имели успеха; тем временем свежая неприятельская пехота стала просачиваться в пространство между нашими дивизиями, вражеская конница овладела Комаровом, был произведен артналет по полештарму.