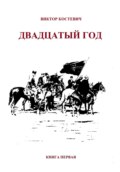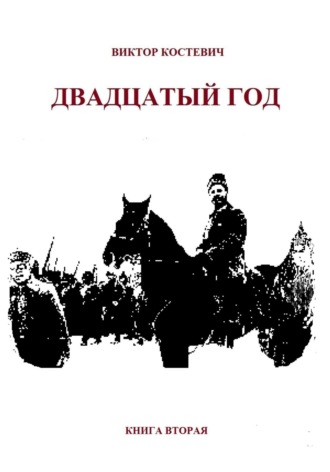
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга вторая
Костя быстро приобрел популярность. Малоразговорчивый с виду сухарь, он становился на уроках занимательным, корректным, хотя и строгим собеседником. Ему прощали ставшее притчей во языцех занудство: «коллеги, нам не следует смешивать понятий», «надо стремиться к терминологической точности», «вы уверены, что это наилучший вариант?», «будем по возможности переводить с латинского не на латинский, а на русский». Да и не прощали, а напротив – ценили, научаясь у него формулировать и думать, внимательно и медленно читать, экономно и точно переводить. Даже те, кто не успевал по латыни и посещал репетиторий исключительно по воле грозных пап, даже те понимали: им повезло и надо постараться этим везением хоть как-нибудь воспользоваться.
И лишь один из приходивших на уроки к Ерошенко гимназистов испытывал к фендрику устойчивую неприязнь. Можно сказать, личную, но – социально-политического свойства.
Возможно, будь Володимир Блакитный сиротой, конфликта бы не случилось. Но семья Володимира Блакитного была полной, и отец его Богдан Блакитный, владелец процветающей скотобойни и активнейший в тот год национальный активист, усердно вливал в уши сынке желтовато-бурую субстанцию на тему независимой, исконной и еще какой-то там краины. В силу собственной активности Богдан Блакитный видел отпрыска представителем будущей элиты, даром что мудреного слова «элита» скотобоец покамест не выучил. А чтобы стать элитой – тут наблюдение Богдана было верным, – следовало получить образование.
Молодого Блакитного бывший штабс-капитан приводил в негодование. Своим добродушием и строгостью, своими призывами к точности и русским своим языком. И тем еще, что ему, Блакитному, он до обидного равнодушно позволил говорить на занятиях «по-украински», – тогда как Блакитный, прежде чем решиться заявить свой постулат, неделю предвкушал, как он, Блакитный, выступит в классе первоукраинским мучеником, – а потом, если что, сообщит кому и где надо.
Особенное бешенство юноши вызывали мимоходные отсылки фендрика к французскому, итальянскому и испанскому. Имевшие успех у успевающих, вызывавшие интерес у большей части отстающих – и одному ему, Блакитному, не было понятно ни бельмеса. Ибо Блакитный, хоть и стал в силу помянутых пертурбаций гимназистом, о французском понимал только то, что за кордоном все приличные люди говорят исключительно по-французски.
Кризис назревал три недели, и вылился в столкновение миров и мировоззрений в понедельник 4 ноября. В этот день победа восставших матросов в Киле дала начало германской революции. О чем, конечно, никто в Житомире не ведал, иначе бы отпрыск Богдана Блакитного не начал вдруг выпытывать у Кости: «А як буде на тiй вашiй латинi Україна?»
Вопрос был задан после Костиных разъяснений на тему Галлии, Батавии, Гельвеции, Паннонии, Германии, Богемии. Собственно, ничто не мешало Косте произнести, а если бы язык не повернулся, то молча написать на доске латинское имя окраин Королевства Польского – как оно звучало в шестнадцатом или семнадцатом столетии, а заодно привести ряд названий на романских языках, например испанское «Украния». Но Костя разозлился. Маленький подлец, задавая вопрос, даже руки поднять не соизволил.
– Вас интересует название Украины во времена императора Цезаря Августа?
– Ага, – попался в немудрящую ловушку недоумок.
Класс в предвкушении замер. Маленький невежда успел осточертеть тут всем.
– Должен вам сказать, пылкий юноша, – скорбно объявил Ерошенко простофиле, – что тогда Украины не было. – И замолчал, наблюдая, как лица гимназистов, даже мало к чему способных, расплываются в довольных улыбках.
– Як то не було? – возмутился желто-голубой приблуда. – Вона завжди була!
Костя печально вздохнул.
– Видите ли, господин гимназист, даже Россия, от которой полгода назад отпочковалось то, что вы именуете Украиной, була не завжди. Ее не было даже во времена Юстиниана, в шестом столетии от рождества Христова. Первые известия, которые можно трактовать…
– Хто вiд кого вiдпочковався? – не сразу, но все же дошло до детины.
Голос Константина сделался железным.
– Сядьте, молодой человек. Мне было сказано, что вы пришли сюда учиться. Следовательно, учитесь.
***
– Константин Михайлович, уважаемый, что же вы нас всех под монастырь подводите? Ваш Блакитный нажаловался папаше, этот боров заявился к нам, мы…
Николай Васильевич Орленко, Костин учитель латыни, кандидат Московского университета, пригласивший его на репетиторий, страдал. Костя покраснел. В самом деле… Выискался герой – против глупого невоспитанного подростка. Против гетмана бы так, против Петлюры. Против мерзавца Грушевского. На худой конец – против графомана Винниченко.
– Простите, не совладал. Трудно выносить всё это. Последняя капля
– Трудно… А мне легко? – Николай Васильевич сел. – Всем трудно. Интеллигенции, администрации, армии, гетману. Но приходится. Сами виноваты. Сначала доигрались, теперь ломаем комедию. Под названием Украина-с.
Костя тоже присел.
– А стоит ли?
– Стоит. Вы же знаете, на чем всё держится. Практически ни на чем.
– На алеманах, кимврах и тевтонах, – попытался отшутиться Костя.
– Вот именно. Защищаемся от самих себя же бошами. Которых лично мы сюда не звали. Но каковые сами вдруг прогнали тех, кто их сюда на нашу голову призвал.
– Известно, отчего прогнали. От страха. Думали, с гетманом будет спокойнее.
– Точно. Но гансам и фрицам, я чувствую, скоро конец. И слава богу. Да вот беда, мы останемся с нашим страхом наедине. Мужички по хуторам только ждут. И не одного лишь разрешения земельного вопроса.
– Неужто вы думаете, что им нужна выдуманная винниченками Украйна?
– Да никому она не нужна, кроме бездарных писак. Алэ Украина для наших хуторян це… прэдлох. Дающий возможность попотрошить тех, кто носит пиджаки. И очки. Завидую вашему зрению. – Косте сделалось неловко. – Вот в Великороссии у мужичка один прэдлох – социальная революция. А у нас – целых два, навить тры, бо ще е еврэи. И ежели вас не прирежут по первому пункту, то с милой душой спровадят к чертям по второму и третьему.
Костя снова ощутил полузабытую боль, ту самую, под лопаткой. Незаметно и осторожно вздохнул. Прошло.
– Поймите, Костя, сейчас мы этой липовой гетманской Украиной защищаемся от той, которая рвется прийти ей на смену – с грабежами, погромами, полным отрывом от России, а значит от европейской цивилизации.
– Еще не оторвались?
– Вы же военный человек, видите – немцу послезавтра конец. Гетману осталось додержаться, дождаться своих. То есть наших.
– Не такие-то мы ему свои.
– А вы не в курсе, откуда берутся у донского правительства огнезапасы, которые оно передает Добрармии? Да, игра, игра, игра, не очень чистая. Но и ставка, знаете ли… Россия, миллионы жизней. А вы в бутылку лезете. Всего-то надо…
Орленко задумался. О том, чего, собственно, надо. Костя предположил:
– Плюнуть да поцеловать злодею ручку?
– Вот именно! – оживился Николай Васильевич. – Ручки целовать дерьму не стоит, вонючая больно, но хотя бы в морду принародно не плюйте. А вы… Это же надо сказать: Украины не було. Да она до сотворения мира була, господь бог Саваоф был природным, свидомым и щирым украинцем. Неужто вы новейших брошюрок не читали? Оторвались вы, пока хворали, от нашего русского бреда, оторвались.
***
В несколько дней немецкая революция перекинулась из гольштинского Киля в бранденбургскую столицу Берлин. Спустя неделю после потрясшего устои инцидента на Костином репетитории германская делегация подмахнула в галльской Компьени перемирие с державами Согласия. Еще раньше полетела в тартарары, с четырехлетним ко всеобщему сожалению опозданием, цесарско-королевская, габсбургско-дуалистическая, немецко-мадьярская Австро-Венгрия. Стало ясно, окончательно и каждому: гетманско-оккупантской «украинской державе» конец. И что теперь, was nun? В поезде, повезшем житомирскую дружину в Киев, царили, как сказал бы большевистский лидер, шатанья и разброд. Гетман, он что, на самом деле за Россию? Да разве можно ему верить, негодяю! И что же мы защищаем тогда? Россию. А кого именно? Гетмана, будь он неладен.
Не будем пересказывать киевской эпопеи. Ее живописали, не без фантазий, но подробно, величайшие мастера отечественного слова – и излагать мольеровскую трагедию на паре страниц не имеет ни малейшего смысла. Разобрать детально, сопоставить документы, мемуарные свидетельства, газетные известия, их научные, их художественные интерпретации – иное дело. Но наша книга о двадцатом годе, не о восемнадцатом. Она и без того затянулась.
В Киеве житомирская дружина хлебнула всего того лиха, что выпало на долю Мышлаевского, Студзинского, Карася и Турбиных. Бестолковое руководство, бессмысленные перемещения, холод, мороз, непонятные и неясно с кем перестрелки, исчезновение полуслучайных вождей, не вполне упорядоченная эвакуация позиций – враги России скажут: беспорядочное бегство. В финале – спешно сорванные погоны, брошенное на ходу оружие. Позор и стыд. Можно сказать, ганьба. Белое дело надулось и сдулось. Qu’est que c’est mandavochka?
Штабс-капитан Ерошенко не стал экспонатом анатомического театра. Не оказался под стражей в Педагогическом музее. Не был вывезен сердечными тевтонами в Германию. Его коллега, поручик Гордеев, много менее сентиментальный, пристально следил за обстановкой и вовремя сообразил: commedia finita. Сообразил и потащил товарища, окаменевшего, остолбеневшего, к киевской своей родне. И успел дотащить, и сумел притаиться, благодаря чему похождения штабс-капитана Ерошенко смогли продолжиться и в последующие два года.
Костя свалился тогда с инфернальной температурой. По счастью, не тифом и не гриппом, просто с температурой – в сочетании с чем-то нервическим, чем-то психическим, когда просто не хочется жить, когда всё безразлично, когда… Костю вытащили. Заставили выжить и встать. Вторая его смерть не состоялась.
Несколько недель ни он, ни поручик Гордеев не казали на улицу носа. Городские новости узнавали главным образом от Лизы, сестры Гордеева, румяной востроглазой недоучившейся – пертурбации! – гимназистки. Штабс-капитан и поручик отсеивали откровенную чушь и выявляли то, что отчасти походило на правду. Так Елизавета рассказала, что Петлюра въехала в город на белом коне – сером, поправил брат, – в сопровождении чубатых запорожцев за Дунаем. Что придурки в антикварных жупанах кричали главному сепаратисту «слава». Что по целым дням другие придурки – Лизе нравилось слово «придурок» – бродили со стремянками по улицам и снимали вывески, чтобы заменить их новыми, на мове. Что коммунисты и большевики взяли Харьков, объявили в нем другую Украину, которая то ли тоже Россия, то ли всё же по отдельности. Что коммунисты и большевики сформировали свою украинскую армию, которая то ли тоже русская, то ли опять по отдельности. Что украинская красная армия движется в сторону Киева, а петлюрины солдаты толпами – брат поправлял: подразделениями, – перебегают на сторону красных, потому что те за свободу, за волю и за сицилизьм и воюют с ахвицерами получше, чем вшивая Петлюра. Сама же Петлюра надеется нынче на приход из Одессы французов. «Как мы», – со стыдом думал Костя.
Последнее известие на тему Петлюры прозвучало сущим Жюлем Верном: сегодня ночью Петлюра обещала выжечь красные орды смертоносными научными лучами. Костя и Гордеев не поняли. «Какими лучами? Рентгеновскими?» Лиза объяснила: «Фиолетовыми».
Следующим утром, пятого февраля, Петлюры и его воякóв в городе больше не было.
После их исчезновения Лиза стала говорить об отамане «он». Плевать в комедианта лишний раз Лизавете сделалось неловко. Достаточно было того, что она продолжала называть грозного воителя придурком.
***
Сидеть на шее у приютивших его людей Ерошенко долго не мог. Возвратиться в Житомир возможным не представлялось. Лиза ухитрилась устроиться на службу, и вскоре, справив надежнейшие документы – содержавшие сугубую правду и ничего при этом лишнего, – оказался на совслужбе и штабс-капитан Ерошенко. Служба была, что называется, по специальности – в сфере народного образования.
Первые два дня Константин Михайлович не без злорадства наблюдал царившую в его и соседнем отделе бестолковщину, еще два дня бесился, спустя же неделю впрягся в работу, исправляя ненамеренные и преднамеренные упущения коллег. Заведовавший отделом большевик, бывший ссыльнопоселенец, русский уроженец Царства Польского, участник боев девятьсот пятого на Пресне, поглядывал на юношу с любопытством. От подобных Косте, с их военной выправкой, он рвения не ждал и находил положительным то, что привлечение интеллигенции на службу даст возможность сохраниться крайне важной и нужной социальной прослойке – кого-то перевоспитает, а прочих хотя бы отвлечет от участия в контрреволюционных махинациях. Иные из коллег, распознавая в Косте «своего», удивлялись. «Зачем вам это, Константин Михайлович? Скоро ведь наши вернутся. Придется ответ держать. Объяснять, что нас вынудили, под угрозой голодной смерти. А вы практически добровольно…» «Не знаю, кто кому наш, а детей учить нужно при всяком режиме. Вы иного мнения?» «Смотря чему учить и как. Стыдно, юноша. Стыдно».
Косте было стыдно за иное. Он трудился на ниве просвещения в относительно безопасном Киеве, тогда как вести из Житомира доходили самые тревожные. Волынская столица из красных рук переходила в желто-голубые, из желто-голубых – обратно в красные. Недолгие петлюровские триумфы закономерно сопровождались погромами. Костя добивался командирования в Житомир, но неожиданно появившийся в губнаробразе Орленко – тот самый, латинист – решительно отсоветовал подобное предпринимать. Во-первых, сообщил Орленко, Костиной семье ничто не угрожает, врачи необходимы всем, в том числе и чертовым петлюровцам. Между тем как, во-вторых, Константином Ерошенко в Житомире интересовались. И те и эти. Приходили, выясняли. В гимназии, дома, у разных знакомых. «Так что если у вас хорошие документы, оставайтесь здесь в Киеве. А лучше, дам вам совет, отправляйтесь подальше. В Харьков или сразу в Москву. В столицах безопаснее – и затеряться полегче и порядка побольше».
– А вы теперь как? – спросил коллегу Костя, на что Орленко рассказал о собрании педколлектива после очередного возвращения красных. О выступлении на нем некоего уполномоченного, человека простого, но по-своему душевного.
– И говорит он мне, цитирую дословно. «Учитель? И чему учили? Это где ж на таком языке говорят? Как нигде? Мертвый язык? Так чего же его учить? Вот, товарищи дорогие, на что цари денежки народные тратили. Вы, батенька, пардоньте меня, паразит. В нашей советской школе вашей латыни не место. Отныне школа будет живой, без мертвечины». После чего обратился к Александру Фадеевичу: «И вас касается, товарищ, с вашим церковнославянским. Отславянились, хлопцы. Отлатинились».
Костя не знал, смеяться ему или плакать. Но Орленко смеялся. Он, похоже, не только отлатинился, но и отплакался.
– Александр Фадеевич вспыхнул: «Русский язык и словесность вы тоже отмените?» А этот, спокойно так, словно привык уже: «Не надейтесь. У нашей партии курс на всеобщую грамотность. Вот историю всякую и прочую дребедень – это на свалку. Не о прошлом надо думать, товарищи, – о будущем». Мы с Александром Фадеевичем думали, нас тоже спровадят на свалку, но товарищ заявил, весьма решительно: «Кадрами мы не разбрасываемся. И голодать никого не заставим. Дело в республике для образованных и умных найдется». И вот я здесь. В командировке. Выбиваю то и это для новой политехнической школы. Кое-кто меня осуждает за беспринципность. Но надеюсь, не вы.
– Не я.
***
В августе девятнадцатого, когда Харьков был занят уже Деникиным, количество служащих в киевских учреждениях, в том числе и в Костином отделе, стало стремительно уменьшаться. Совработники, пренебрегая пайком, испарялись один за другим.
«Черт с ними, – равнодушно сказал завотделом Константину. – Своя рубашка ближе к телу. Пусть поживут при освободителях, порадуются». Странным образом упрямый большевик не сомневался: Костя ждать деникинцев не будет. И столь же странным образом – в первую очередь для себя самого – Костя в Киеве не остался. Готовил вместе с завотделом эвакуацию и с остатками служащих отбыл в Москву.
По дороге, а дорога оказалась долгой, часто спрашивал себя: почему? Не оттого ли, что неловко было бы глядеть в глаза освободителям? Нет. Боялся ответа за красную службу? Нет. По инерции? Нет. Быть может, разглядел в деникинцах… мандавошек? Нет! Тогда почему? Ответа не находилось. Хотя… Неужели попросту стыд? Достаточно было представить себе, как заведующий, не застав его на месте, произносит: «Ну что ж, своя рубашка ближе к телу».
В поезде, так получилось, он о многом говорил с завотделом. Стараясь не ляпнуть лишнего, но и не скрывая, что долго был на фронте. Интересовал его главным образом вопрос о классическом образовании и об истории в школе. Завотделом, поминутно кашляя (обострилась приобретенная в Сибири болезнь), ругал слишком быстрых товарищей – за глупость, за бестолковщину, – но насчет классических языков обнадежить Константина не мог. «Я гимназистом латынь обожал, но… Всё же это крайне специальный предмет, я бы сказал, извините за дурацкое словцо, элитарный. Ставить доступ к университетскому образованию в зависимость от чтения Цезаря… Не обижайтесь, но в двадцатом веке это нонсенс. Не только мы, вся Европа уходит от классической модели. Что же касается истории, то думаю, вышла очередная р-р-революционная глупость. Это пройдет, история в школу вернется». Иногда они спорили, иногда большевик горячился, а потом долго и каждый раз всё дольше кашлял. Скорее бы доехать, думал Костя, ему же надо лечиться, срочно.
В том же поезде он познакомился с киносъемщиком Зеньковичем. Разговорившись на перроне во время остановки, оба сразу поняли – они одного поля ягоды. Зенькович рассказывал о безграничных, не открытых еще и еще не раскрытых возможностях нового искусства, о перспективах монтажа, о невероятных массовых сценах, о Чаплине, о мало кому известном в России Гриффите: «Омерзительный расист, но его баталии – нечто невероятное!» На следующий день Костя понял, что он не просто хочет, но обязан идти в кинематограф. Возможно потому, рассудил он позднее, что если уж рвать с Цицероном, то ради нового и неизведанного. Завотделом намерение одобрил и помог устроиться в открывшуюся 1 сентября, как раз перед их приездом в Москву, Госкиношколу на бывшей Тверской, ныне Советской, площади.
Костя и весь отдел – то немногое, что от отдела осталось – настаивали, чтобы заведующий госпитализировался. Заведующий обещал лечь в клинику – после первого октября, как только завершит насущные дела. Двадцать пятого сентября, в четверг, он отправился в Московский партийный комитет, где намеревался встретиться с однокашником по Седлецкой гимназии Николаем Кропотовым. «Он ваш коллега, – сообщил завотделом Косте, – преподавал историю, русский, латынь. Надо бы вас познакомить. Кстати, с докладом выступит Покровский, слышали? – Костя вежливо кивнул, для него Покровский был чем-то вроде Грушевского, шарлатан, но в другом направлении. – Спрошу его про историю в школе».
Поговорил ли завотделом с Покровским или не поговорил, осталось неизвестным. Сразу же после докладов, прочитанных членом ЦК компартии Бухариным, историком Покровским и кем-то еще, двое неизвестных ловко вбросили некий предмет в набитое слушателями помещение. Послышался громкий треск, что-то зашипело, задымилось. В дверях образовалась пробка из сорвавшихся с места людей. «Спокойно, товарищи, мы сейчас разберемся. Это просто случайный выстрел!» – таковы были последние слова подбежавшего к таинственному объекту секретаря Москомитета Загорского.
Задняя часть дома в Леонтьевском переулке с жутким грохотом, дымом и облаком пыли обрушилась в сад. В сад же улетела сорванная необыкновенной силы взрывом крыша. В зальном полу на втором этаже образовалась четырехаршинная дыра. По фасаду были выбиты стекла, покорежены оконные рамы.
Завалы разбирали на протяжении ночи. Насчитали пятьдесят пять раненых, двенадцать убитых. Среди раненых были Бухарин, легко, и Костин завотделом, тяжело. Завотделом скончался месяцем позже, а потому в опубликованном и широко известном списке жертв не значился. В этом списке оказался член Моссовета Николай Кропотов.
Двадцать восьмого сентября потрясенные Костя, Зенькович и прочие студенты киношколы были на прощанье с погибшими – среди красноармейцев, красных курсантов, рабочих московских заводов, совслужащих и пламенных революционеров. «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу…»
Тверская и пространство от Дома Советов, бывшей гостиницы «Националь», до кремлевской стены пестрели от красных, с черными лентами, флагов, багряных хоругвей, транспарантов цвета крови. Имена убийц, анархистов Ковалевича и Соболева, не были еще известны, и в начертанных на червонных полотнищах надписях проклиналась контрреволюция в целом – да так что Косте становилось не по себе. «Да здравствует беспощадный террор!» «Смерть белогвардейским убийцам!» «За каждую красную голову – тысяча белых голов!» «Вы укрылись – вы будете найдены!»
Чтение грозных призывов рассеивало внимание. Еще не дойдя до начала Тверской, штабс-капитан потерял своих сокурсников и перемещался среди скорбящих в одиночестве. «Нагрелися цепи от знойных лучей и в тело впилися змеями. И каплет на землю горячая кровь…» Он добрел почти до самого Кремлевского проезда. И там, на углу, у стены Исторического музея…
И там на углу, у музея, оттесненный к краснокирпичной стене… «Но ты молчаливо оковы несешь, За дело любви ты страдаешь…» Оттесненный к краснокирпичной стене музея, он оказался втиснутым в группку незнакомой ему молодежи, творческо-богемного вида, художников, поэтов или чего-то вроде… Стараясь отодвинуться от светло-русого юноши с прагматически-мечтательным взглядом, извиняясь перед соседями справа и слева, вертя головой в тщетных поисках однокашников… «За то, что не мог равнодушно смотреть, Как брат в нищете погибает». Вертя головой в тщетных поисках однокашников, он увидел…
«А деспот пирует в роскошном дворце…» Вертя головой, Ерошенко увидел… Рядом со светло-русым юношей… в сереньком пальтишке… с испуганными карими глазами… счастливыми карими глазами… радостными карими глазами… изумленными карими глазами. «Тревогу вином заливая. Но грозные буквы давно на стене чертит уж рука роковая».
Мене, мене, текел, фарес. У краснокирпичной музейной стены. Изумленные, карие радостные. Неужели пришло? К нему? Счастливой расплатой за всё? В первопрестольной, опустевшей, продуваемой ветрами, голодающей, отдающей лучшее фронтам. Это ты, моя родная, ты?
– Костя! Константин Михайлович… Боже… Как же… Я… Знакомьтесь, Константин, мой муж, Юрий Кудрявцев.
Костя четко, по-военному кивнул.
– Рад познакомиться. Безмерно. Ерошенко. Из Житомира.
Всеобщий траур позволял не улыбаться.
Падет произвол и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.
Здесь, хмурым утром девятнадцатого года, завершается последняя ретроспекция. Круг воспоминаний замкнулся. О том, что случится через несколько месяцев, читателю давно известно. Лидия, Аделина, товарищ Збигнев, Костя, агитпоезд имени Карла Либкнехта. Осталось узнать, чем закончится история в целом.
Разворачивайтесь в марше. Впереди две последних главы.