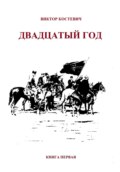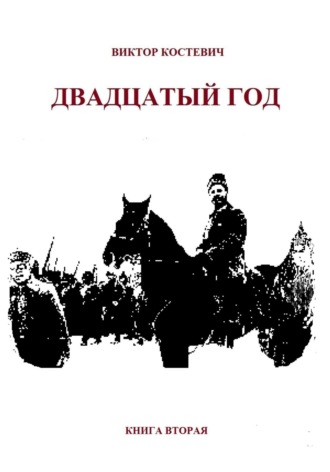
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга вторая
Ясно было одно: пора отправляться в Киев. Ясно было Косте, но почему было ясно – неясно. Он конечно же догадывался почему, но страшился в том себе признаться. Магда тоже догадывалась, но страшилась этого и Магда. В особенности после посещения ими библиотеки, куда свезли Костино национализированное собрание.
Библиотекарша Валя, знавшая Костю, а также знавшая – по совместному пребыванию в Волгубчека – Барбару, сидела над грудами, стопками книг и чуть ли не плакала. «Что мне со всем этим делать? Какой-то идиот подмахнул какую-то бумажку, а они натащили, отовсюду. Костя, заберите всё, что вам нужно, покуда не описали. Хотя опишут это разве через год. Болваны».
Косте не хотелось возиться с книгами, со старым, ненужным хламом, однако Валентина настояла.
Магда запомнила, навсегда, как ее Костя, равнодушно перебрав с десяток томиков, вдруг будто бы окаменел. Как он осторожно, будто бы страшась, раскрыл одну брошюрку. Как медленно, затаивши дыхание, переворачивал страницы, будто бы чего-то искал. И как замер, найдя искомое – заметки тонким карандашиком на полях. Аккуратные и сделанные женской рукой. Ее рукой, той самой польки. (Ничего специфически женского в Басином почерке не было. Но Магда не ошиблась. Как тут было ошибиться?)
Библиотекарша заметила Костино волнение. «Нашли что-то важное?» Костя, быстро захлопнув брошюрку, показал Валентине обложку. «Краткий курс современного украинского языка? – улыбнулась библиотекарша. – Я подумала, по меньшей мере Commentarii Цезаря. Заберете?» «Да, если можно». «Разумеется, кому она нужна. А что-нибудь получше? Тут столько прекрасных книг. Ваших, Костя». «В другой раз, если можно. Я еще зайду, Валентина, хорошо?»
Домой спешит, здраво рассудила Магда. Дома уединится и будет смотреть на дорогие буковки. А к Валентине если и зайдет, то без нее, без Магды. Чтобы говорить про свою нерусскую. Его право, ничего не поделаешь. Но Магда знала твердо: он и Магду любит. Не может не любить. Он не умеет притворяться.
Библиотекарша хотела сказать что-то еще, но заявился посетитель, маленький, старенький, неевропейского облика антиквар, с белыми ручками, сивой бородкой, и начал жаловаться, библиотекарше и Косте, на то, что претерпел от новой революционной власти. Посетитель Костю знал и Кости не опасался. Разве можно опасаться интеллигентнейшего сына Михаила Ерошенко?
Магда поняла не всё, но Магда поняла главное. Посетитель пострадал еще летом: его личный граммофон был взят на учет отделом соцобеспечения. «В нашем городе, – горько плакался посетитель, – недостаток в добрых людях. Вместо них приходят злые и берут на учет мой граммофон. Я за революцию, но я за революцию добрых людей. Вы ведь согласны со мной, Константин Михайлович?»
Магда была уверена, что Костя, добрый, нежный Костя согласится. Но Костя, ее Костя не согласился. Отстранившись от антиквара, он произнес совершенно непривычным Магде голосом: «А вы бы, товарищ, хотели без жертв? Совершенно? Чтобы за вас умирали, спасали от погромщиков, от поляков, а вы бы… даже этакой малости?» Библиотекарша, как Магде показалось, оторопела. Посетитель, тот точно оторопел. «Но я люблю музыку», – проблеял он без прежней убежденности. «Так у вас граммофон забрали или только взяли на учет?» «На учет. Но в любой момент могут за…» «Будете слушать военные оркестры. Или вам военные не нравятся? Лично я военные обожаю».
Чему Магда Балоде не стала свидетелем, так это ссоре Кости с Даниилом накануне их, Магды и Кости, отъезда.
Ни тот ни другой не могли впоследствии припомнить, из-за чего пресловутая ссора возникла. Вроде бы кузен ляпнул что-то про Костиных краснокожих братьев, не пощадивших его библиотеки. Костя что-то возразил, деликатно. Даня сморозил что-то опять. Костя сдержался. Он выдержал даже намек на Басин отъезд с поляками. («Сам посуди, что для нее важнее, ты или дом».) Но в какую-то минуту Даниил произнес роковые слова.
– Твоя жизнь, – произнес роковые слова Даниил, – это история покорности. Царю, учителям. Ты покорно зубрил языки, покорно уехал в Варшаву, покорно пошел на империалистскую войну, покорно защищал скоропавшего гетмана. Теперь покорно служишь красной массе.
Костя пытался еще улыбаться.
– Надо полагать, твоя жизнь – это жизнь критической личности?
Даниил запираться не стал.
– Да! Вот именно! – возвысил он голос. – Можешь иронизировать! А кто не хочет быть личностью, тот пускай… – Даниил подыскал направление поужаснее. – Тот пускай идет… в Конармию!
Костя, всё еще сдерживая себя, удивился.
– Почему непременно в Конармию?
– Потому что я их видел, – распалился Даниил. – Это скопище, эту безликую массу. Этих…
И вот тут Константин не выдержал. Трахнув кулаком по столу – да так, что вздрогнули в соседней комнате родители, он проговорил, негромко, сквозь зубы, в духе «cum tacent, clamant» и «народ безмолвствует»:
– А теперь послушай меня, дурак. И запомни, навеки. Эта красная масса, эти безликие люди ежечасно попирают смерть, и я это видел, не раз. Ты же, братец, не критическая личность, а обыкновенный бездельник и двоечник, который начитался, а вернее наслушался всякой ерунды. И попугайски ее повторяет.
– Знаешь ли… – Даня подпрыгнул на стуле.
В смертельной обиде Даня выбежал вон из гостиной. Костя застыл у окна.
– Всё же кое в чем Даня прав, – заметил, входя Михаил Константинович. – Ты действительно жутко терпелив. Десять лет выслушивал Данины глупости и лишь сегодня сказал, что ты о нем в действительности думаешь.
Костя, успокоившись, предположил:
– Видимо, я должен попросить у Даниила прощения.
– Не стоит, сын, право, не стоит.
Перед отъездом Константин зашел в библиотеку. Попросил извинить его за нетактичное обхождение с посетителем. Оказавшийся там доктор Соркин, не дослушав, рассмеялся: «Вы про нашего придурка, у которого взяли на учет граммофон? Он измучил своими стонами половину Житомира. Я предложил собесу принять постановление: граммофона не трогать ни при каких обстоятельствах. Иначе эхо донесется до Нью-Йорка и Иерусалима».
На следующий день набитый до отказа поезд повез Константина и Магду Балоде через станцию Казатин в город Киев.
***
Курьер Варшавский, 15 ноября
ПОРАЖЕНИЕ ВРАНГЕЛЯ И ПОЛЬША
Из сообщений агентства Havas и корреспондентов лондонских изданий вытекает, что положение армии ген. Врангеля в Крыму стало в высшей степени критическим. Сообщают даже, что командование армии и правительство Южной России укрылись на союзных военных судах, стоящих в Севастополе. (…)
Военный обозреватель нашего издания еще три недели назад указывал на крайне опасное положение врангелевской армии. Сегодня, кажется, следует прямо говорить о катастрофе. После Колчака и Деникина большевики ликвидируют теперь своего третьего организованного в военном отношении противника. (…)
Польши поражение армии ген. Врангеля непосредственно не касается. (…)
В более широком ракурсе поражение ген. Врангеля, усиливая советский режим, делает весьма вероятным, что он продержится еще довольно долго. А это однозначно расширению революционной агитации в мире. По этой причине Польша может отыскать много точек соприкосновения с интересами западной цивилизации и обеспечить себе содействие Запада не только в деле возведения военного барьера, но прежде всего – в деле укрепления собственной внутренней мощи. У польской дипломатии появляется новая обязанность – убедить Запад, что прежде всего необходимо быстро и справедливо разрешить все территориальные вопросы, установить границы польского государства и дать полякам возможность приступить к хозяйственной и культурной работе. (…)
***
– Она нас ждет? – спросила Маня Тадека.
– Вряд ли она о нас думает.
– Разве она тебя не любит?
– Не знаю, Манечка. Даже если бы любила, то проявляла бы свою любовь иначе. Ей найдется чем заняться без меня.
– Ей не бывает там скучно?
– Спроси у нее сама.
– Она меня поймет?
– Ну, если ты предполагаешь, что она может ждать, любить, скучать и думать, отчего бы не предположить, что она способна понимать?
– Она красивая?
– Не знаю. Дело вкуса. Мне она нравится. Очень.
– Значит, красивая. У тебя, прости за нескромность, вкус очень даже неплох.
Седой извозчик остановил лошадок на пустынной улице, возле длинного высокого забора. Обернулся.
– Туточки, пан поручик?
– Туточки. Приехали. Руку, Маня. Осторожно, не поскользнись, тут лужа.
Извозчик, взяв деньги, полюбопытствовал:
– Русские-то Врангеля своего взаправду насовсем прикончили?
– Кажется, взаправду, – ответил Тадеуш, помогая Мане сойти на сомнительного качества тротуар.
– Вон оно как у них вышло, – непонятно о чем вздохнул извозчик. – Не то что… Прощевайте, пан поручик! Прощевайте, барышня.
Поручик, глядя вслед отъезжавшей коляске, собирался сказать что-то Мане. Не сказал. У Мани тоже промелькнула мысль, но промолчала и Маня. Какая разница, в конце концов, как относятся варшавские извозчики к России и внутренним русским распрям. Если этот варшавский дедушка не уходил в пятнадцатом от немцев, то Россия для него полнейшая абстракция.
– Как пан профессор? – спросил Тадеуш, направляясь к зеленым воротам. – Ему уже легче?
Открывшаяся третьего дня, в пятницу, рана на ноге обеспокоила всех. В тот же день, можно сказать за компанию, разболелся и Анджей. Его, совсем некстати, тоже зацепило пулей в том памятном бою под Гродно – когда он боролся с полоумным сержантом из «немцев», открывшим во время неприятельской контратаки пулеметный огонь по всем подряд, по своим, по чужим, лишь бы не дать никому ворваться в обсиженный им окоп. Анджей сумел добежать до паникера первым и двинуть служаку в челюсть – но служака вцепился в «максим» мертвой хваткой, так что бывшему штабс-капитану пришлось с подлецом повозиться. Из взвода погиб паренек-гимназист, среди же перераненных чокнутым сержантом оказался пан профессор – пуля, прошив санитарную сумку, заодно прошила бедро; кость, слава богу не пострадала. Негодующий сержант подал на Анджея рапорт: тот-де своими действиями пытался оказать поддержку красной сволочи. Понимая, что Анджей на двести процентов прав, но не видя средств ему помочь – у сержанта имелась в штадиве рука, – командир батальона воспользовался его царапиной и спровадил в отпуск по ранению. Война уверенно катилась к финалу, не за горами была демобилизация и в бывшем штабс-капитане отечество нуждалось не более, чем в профессоре классической филологии.
– Легче, – ответила Маня. – Доктор Стшембош сказал: надо лишь заставить себя пересидеть неделю дома.
– А пан Высоцкий?
– У Анджея обычный грипп. Пьет таблетки, микстуры, чай и еще какую-то гадость.
Тадеуш приоткрыл в зеленых воротах дверцу, предназначенную для прохода людей.
– Проходи, Марыся.
По другую сторону их дожидался Яцек Круль. Как и прошлый раз в манеже, при параде: поблескивали тщательно надраенные сапоги, над воротом недавно купленной по случаю бекеши белел воротничок, голову украшала новенькая, чуть сдвинутая набок фуражка.
– Ты часом не на Замковую собрался, не на торжества?
– Чего я там не видел, пан Тадеуш? У нас тут свое торжество. Правда ведь, панна Мария?
– Правда, – кивнула Маня.
Тадеуш счел нужным предупредить:
– Как бы не вышло разочарования.
– Не выйдет, – заверила Марыся. Повторять при Яцеке про вкус поручика не стала.
***
В то самое время, когда Мария Котвицкая и Тадеуш Борковский отправились на конюшню, имея целью знакомство с рыжей Шарлоттой – событие для Мани безусловно историческое, – в это самое время в центре города разворачивалось событие по-своему не менее историческое.
В одиннадцать тридцать из ворот Бельведера выехал лейб-эскадрон верховного главнокомандующего. За эскадроном в экипаже выехал и сам главковерх в сопровождении генерального адъютанта подполковника Венявы-Длугошовского, следом – три других экипажа, с офицерами маршальской свиты. По Уяздовским аллеям и Краковскому предместью, словом по Королевскому тракту, с юга на север, между построенных шпалерами частей гарнизона, под взглядами тысяч спасенных от царизма и большевизма сограждан, кортеж проследовал к Замковой площади.
На площади верховного дожидались именитые генералы – командующие фронтами, армиями, начальники штабов и множество прочего мундирного люда. Там же стояли агенты военных миссий великих держав – Франции, Британии, Италии, Японии, колониальных держав – королевства Бельгии, новорождённых держав – Финляндии, Латвии.
(Почему не была представлена соседняя новорождённая Литва, понятно всем – официальные представители ковенского, как писалось в польской прессе, правительства бодались на Виленщине с неофициальными представителями варшавского. Понятно, почему отсутствовали соседние великие немцы и соседние новорождённые чехословаки – слово «граница» играло кардинальную роль и тут. Но вот чем объяснить неприсутствие военного представителя великих заокеанских штатов, этого автор сказать не рискнет. Возможно, наличный представитель был болен. Как Анджей Высоцкий, страдавший в исторический день от гриппа.
Кстати, вопрос – где был представитель союзной УНР? Но это не вопрос. Мы знаем где. Читатель, полагаем, тоже. Первая буковка – «же», вторая – «о»…)
За польским генералитетом и закордонными военными миссионерами теснились сотни делегатов от фронтов, военных округов, по большей части кавалеры ордена «Virtuti Militari»65. По правую сторону от полевого алтаря выстроились депутаты сейма, члены правительства и, в полном составе, дипломатический корпус.
(Среди министров ждал прибытия вождя злополучный Габриель Нарутович. Через год с небольшим пан Габриель, человек на редкость порядочный, будет избран первым польским президентом. Спустя пять дней его застрелит на художественной выставке художник ярко выраженной национальной и правой ориентации.)
В небе над площадью – погода выдалась летной – радостно урчал мотор аэроплана. Храбрый пилот, развлекая военную и штатскую публику, выделывал под солнцем фигуры высшего пилотажа.
Приезд главковерха ожидался ровно в двенадцать. В последние минуты вдоль линии почетных подразделений двинулся военный министр Соснковский. Прогремели команды: «Смирно», «На караул», – оркестры заиграли гимн. Затем – под те же команды и гимн – подъехал в праздничном пурпурном облаченье варшавский архиепископ и митрополит кардинал Александр Каковский. И наконец подъехал вождь. Вновь прокатилось «на караул», и опять грянул гимн. На сером солдатском мундире главы государства все увидели, впервые, знаки маршальского достоинства – погоны с орлом и скрещенными булавами.
По приезде маршала полевой епископ Войска Польского Галл отслужил полевую мессу. После мессы кардинал-митрополит Каковский освятил серебряную, с золоченой гравировкой маршальскую булаву. Старейший польский генерал Тшаска-Дурский объяснил в своей речи высочайший смысл происходящего. После генеральской экспликации рядовой пехотного полка, самый младший кавалер «Virtuti Militari», поднес и вручил булаву седому герою нации.
После вручения вновь заиграли оркестры. По Королевскому тракту, от Замковой площади до Бельведера по рядам пронеслось: «На караул!» Над башней Замка поднялось бело-пурпурное знамя. Прогремели залпы салюта – двадцать раз и еще один. Маршал принял военный парад.
По торжественном прохождении войск маршал, генералы, министры, депутаты и иностранцы удалились в Замок на торжественное заседание.
Как было отмечено, среди освещавших торжество газетчиков не было Анджея Высоцкого. Будь он на месте и освети он событие в собственном репортаже, автор бы воспользовался его свидетельством для разрешения принципиального вопроса. Дело в том, что в печатных известиях имели место разночтения. Один газеты, в частности «Курьер Варшавский», сообщили публике, что рядовым, вручившим булаву, был юный Ян Венжик из сорок первого пехотного, тогда как другие безапелляционно утверждали, что рядового звали Ян Живек и юноша был из пятого.
***
– Вот она какая, – прошептала Маня, принимая от поручика маленькую торбочку с угощением.
– Да, – прошептал, сжимая Манину руку, поручик.
– Мне кажется, я буду очень ее любить.
– И мне так кажется, Маня.
– Какая грива у нее интересная. Правда?
– У донских такая встречается. Редко, но бывает.
– И у англо-донских?
– Получается, и у них.
– Сколько ей лет, Тадеуш?
– Точно никто не знает. Война, хозяева менялись, документов друг другу не оставляли. Восемь-девять.
– Высокая.
– Высокая, правильно обмускуленная, хорошо обученная, талантливая. Знает элементы офицерской выездки, отлично прыгает. Добронравная, но с чувством собственного достоинства. Ее необходимо уважать.
– Она тебе сказала?
– Дала понять. Подойди к ней, угости.
Шарлотта, выведенная Яцеком Крулем на маленький плац при конюшне, с любопытством глядела на Маню. Подпоручика с капралом Шарлотта знала хорошо, тогда как Маню видела впервые.
Теперь она заметно отличалась от той измученной походами лошади, которую два месяца назад, в фольварке под Грубешовом, впервые увидел Тадеуш Борковский. Не выпирали наружу ребра, округлилась круп и шея, налились силой стройные ноги, исчезла костлявость в лице. И всё же она оставалась той Шарлоттой, которую поручик два месяца назад впервые встретил под Грубешовом: неизменное изящество движений, умный, добрый и вместе с тем оценивающий взгляд. Она оценила поручика с Яцеком и приняла их в свою компанию. «Вы добрые, умные, вы нас любите, понимаете, не требуете невозможного, не терзаете, не бросите в беде. Я буду с вами дружить. Как дружила с товарищем Лядовым и с товарищем Петей Майстренко».
Маня сунула руку в торбочку, вытянула пальцами маленький кусочек сахара. Сделала шаг, в нерешительности застыла. Большие добрые глаза Шарлотты внимательно смотрели на Маню.
– Панна Мария, – улыбнулся Яцек Круль, – Она вас ждет. Хочет с вами познакомиться.
Маня подошла. Взяла у Яцека повод. Аккуратно провела ладонью по умной рыжей морде, по лицу. Шарлотта не отстранилась. Мягкими губами взяла кусочек сахара. Мане показалось – улыбнулась. «Хочешь еще?» Шарлотта кивнула.
«До чего же ты красивая, Шарлотка».
«В самом деле?»
«И очень хорошая».
«Мне говорили. Ты его на самом деле любишь, Тадека? Сильно? И меня будешь любить?»
«Разумеется».
«Будешь ко мне приходить?»
«Конечно».
«Угощать морковкой, сахаром, сухариком? Протирать меня сеном, водить по мне всякими щетками? Чистить копыта? Седлать?»
«Буду, Шарлоточка, буду».
«Не будешь глупо дергать за железки во рту, не по делу бить меня хлыстом? Будешь стараться меня понять? Не будешь забывать, что я живое существо и личность?»
«Да, моя хорошая, да».
«Тогда и я буду тебя любить. Как люблю Тадеуша и Яцека. Ты ведь хочешь, чтобы я тебя любила?»
«Хочу, Шарлоточка, больше всего на свете».
Марыся обернулась к Яцеку и Тадеку.
– Мне кажется… Кажется только… я ведь не знаю… Но мне кажется, что она…
Марыся так и не нашла подходящего слова, чтобы сказать, что именно ей показалось. Точнее, слово она нашла и даже слова не искала, но не рискнула это слово произнести. Всё же слишком рано. Только несколько минут. Что они значат, жалкие минуты? Мало ли что ей там показалось. Надо быть скромнее и не воображать себе невесть чего.
Словно бы придя на помощь Мане, Шарлотта вытянула шею и положила теплую мордочку Марысе на плечо. Маня покраснела – от глупого детского счастья. Яцек Круль присвистнул. Поручик, как и прошлый раз в манеже, изумился.
– Быстро вы с нею, однако…
– Что быстро, Тадек? Они так часто делают?
Маня знала, что лошади так делают нечасто, читала. И уж точно делают не сразу. И уж точно не с посторонними, да и вообще не со всеми. Но вот в ее конкретном случае вышло так. А почему – она не знает. Возможно, благодаря Тадеушу. Умная Шарлотка перенесла свою симпатию на нее, на невесту поручика. Ощутила их взаимосвязь, поняла ее и благословила.
– Вы нравитесь лошадкам, – заметил Яцек Круль.
Предположение было лестным.
– Спасибо, Яцек.
Шарлотта потерлась своею щекою о Манину.
***
С нашим эскадронным мы простились в Симферополе. Ранен он был на переходе от Джанкоя, ранен нетяжко, пулей на излете, однако новый, сменивший Толкачева комиссар эскадрона – вместе с комиссаром полка – сразу же поставили вопрос о демобилизации. Двое новых эскадронных партийцев испытали облегчение: им было страшновато ходить на беляков под бывшим белым офицером. Нам, старым лядовцам, знавшим комэска по польской войне, сделалось совестно.
«Ничего, ребята, – сказал нам комэск в лазарете, куда мы забежали попрощаться. – Вы на них не серчайте. Их тоже надо понять. Неспокойно им со мной, они же люди, не машины. Даже конь, и тот не под каждым всадником себя чувствует, а тут – человек. Мне моя анкета самому не шибко нравится, так чего же от них хотеть».
«Толкачев бы…» – сказали мы.
«Толкачев, – ответил с печальной улыбкой комэск. – Толкачев бы верил до конца. И Лядов. И Кораблев. И Шифман. И Майстренко. Даже Незабудько. Много нас было, ребятки, да мало осталось. Ну да ничего, не вешай, братцы, нос. И не забывайте – время у нас непростое. Вон как оно в шестой учинилось. Погано».
На следующий день мы были в Севастополе. В знаменитых, большинством из нас не виданных сроду местах. Проезжали под отвесными скалами Инкермана, объезжали длинные, извилистые бухты, ехали через пустынный, притихший в ожидании великий и славнейший русский город. Выехали на окраину, передовым дозором. Переменным аллюром, шаг-рысь, двинулись с проводником из ревкомовских большевиков по шоссе. На запад, к оконечности Гераклейского полуострова – так объяснял проводник. Шоссе оставалось безлюдным – но по правую руку, по бухтам мы замечали множество людей, непонятных, в военной форме, не наших. Погоны были сорваны, но мы прекрасно знали – это белые. Становилось неуютно – вдруг кто-нибудь из них да выстрелит. Обошлось.
«Не увез Врангель всех, – объяснил ревкомовец. – То ли места не хватило, то ли сами не захотели».
Надо же, думалось нам, точно так же в марте месяце в Новороссийске дожидался своей участи наш будущий комэск со своим развеселым товарищем. Кто знает, быть может и эти послужат еще Республике?
За последней, двурогой Казачьей бухтой мы увидели высокую белую башню. «Маяк», – объяснил проводник.
Перед нами качалось бескрайнее, беспредельное море. То голубевшее под солнечным лучом, то снова серое, а где-то вовсе черное. К нам, неизвестным всадникам отважно подошел старик в истрепанном бушлате.
«Чьи вы, хлопцы, будете?» – спросил он нас без особых сомнений, по большей части ради формы.
«Не видно разве, дедушка?» – так же, сугубо ради формы ответили старцу мы.
«Не так чтоб сильно, – продолжил он игру. – Тут у нас сегодня все на одну одежку».
Мы ткнули пальцами в наши звезды на шапках.
«Красные солдаты».
Старца ответ удовлетворил.
«Стало быть, наши. Дошли. Ну и слава богу. Природа, и та нынче радуется, вон оно как потеплело».
В самом деле, теперь, после морозных недель, погода была как по заказу – градуса два ниже нуля. И тепло, и дороги не раскисали. Как на курорте, настоящий Крым. Нам, буденовцам, в его штурме принять участия почти не довелось, только в преследовании, приеме пленных, подсчете трофеев. При прорыве отличились мироновцы. Мы не ревновали. Нам хватало и прошлого лиха.
«А что за место, диду?» – полюбопытствовали мы, хотя вполне могли спросить проводника.
«Мыс Херсонес называется».
«А беляков давно не видели? Которые еще с погонами».
Старец усмехнулся.
«Да и сейчас еще вижу. Хоть недолго их видеть осталось».
Мы удивились.
«Где?»
«А вон там, – показал он на линию горизонта. – Смотрите, смотрите. Глаза-то молодые».
У взводного имелся бинокль, и мы, передавая его друг другу, усердно вглядывались в горизонт, в синеватую хмарь, различая в ней серые контуры, увозившие от нас вчерашних русских.
«Крест на святую Софию поплыли затаскивать. Глядишь, британцы разрешат. Скатертью дорожка».
…Корабли уходили в далекую даль. Увозили бывших соотечественников. И вместе с ними – несправедливость, насилие, угнетение, презрение к ближнему, империализм, проституцию, взятки. Гнусность и подлость поверженного нами мира.
Для них всё было кончено. Для нас – всё начиналось. От мыслей о новом, справедливом, нами завоеванном мире, от этих мыслей кружилась голова. Еще она кружилась от усталости, от голода – но что такое голод и усталость перед лицом величайшего будущего? Нового мира, в котором всё будет иначе.
Биржи, акции, дивиденды, доллары, фунты, стерлинги, банки – отныне вы станете для русского человека малопонятными, бесполезными архаизмами. Ими можно будет блеснуть в остроумной беседе. Как козыряли когда-то словечками, устаревшими уже к эпохе Пушкина: землетрус, поползнуться, сведомый, уячить. А потом насмешливо – по отношению к неразумным предшественникам – объяснить малознающим, что означало слово «дивиденд» или слово «акция». Вызывая смех: трудно будет представить себе, что люди когда-то, совсем недавно, были глупыми, жадными, изворотливыми. Что кто-то и в самом деле «трудился» маклером, банкиром, дельцом. Дрожал над кошельком, обманывал, обсчитывал, интриговал. Холуйствовал перед одними и нагло помыкал другими.
Трудно, поистине трудно будет такое себе представить. Нам же, свободным и гордым, прошедшим Сквиру, Ровно, Замостье, Чонгар, – невозможно!
Мы легли под деревья, под камни, в траву,
Мы ждали, что сон придет,
Первый раз не в крови и не наяву,
Первый раз на четвертый год.
***
Завершилась последняя часть. За автором – эпилог. Рискуя быть обвиненным в тривиальности, он закончит рассказ о двадцатом годе телеграммой, содержание которой знал прежде всякий сведущий в русской истории школьник.
Оперативная вне очереди
Предсовнарком. т. Ленину
Сегодня нашей конницей занята Керчь точка Южный фронт ликвидирован точка
ст. Джанкой 16/XI.
№ 0097/п.ш
Команд. Южфронта – Фрунзе
Члены Р.В. Совета – Гусев, Кун