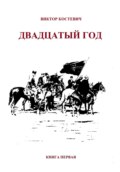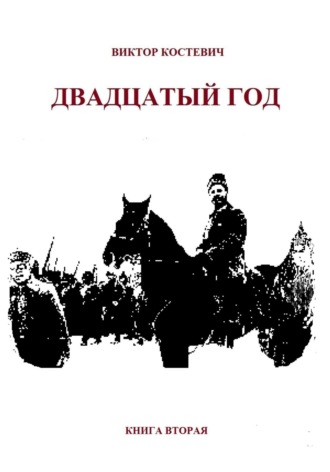
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга вторая
Двадцатый,
Неповторимый год!62
3. Брюмер. Мыс Херсонес
Кто из них и чем и как утолил любовь свою, овладевши Еленою, говорить я не буду.
(Горгий. Похвала Елене) 63
Полно петь песню военну, Снигирь.
(Державин)
Отношения с Лидией разладились на следующее утро, еще тогда, в сентябре. Причиной разлада – не разрыва – явилась поэзия. Не Пушкина, не Блока, не Байрона, не Мицкевича. Легко догадаться чья. Лидии Юлиановой.
Русская поэтесса показала Высоцкому – не прочла, но скромно показала – новые, накануне набросанные ею стихи и потребовала суждения. Честного и нелицеприятного. Высоцкий, благодарный за увлекательную ночь и посчитавший, что одной похвалой от Лидии не отделаться, счел необходимым присовокупить к грубой лести критическое замечание. С единственной целью – подчеркнуть беспристрастность и объективность суждения,
«Мне кажется, – Высоцкий голосом постарался передать неполную уверенность в произносимом, – что в шестом стихе некоторый избыток согласных. На этом «слм» декламатор может запнуться. Или ты хотела…»
«Ты имеешь в виду вот это?»
Очаровательный пальчик уткнулся в строчку «Меж милых чресл манящий мох».
«Да, милая. Я думаю, что…»
«Всё же ты не художник! – утешила Лидия Анджея. – Ты смотришь на поэзию глазами репортера. Ты не заметил даже, что четыре слова из пяти начинаются на букву эм».
«Да-да, конечно. Потрясающая аллитерация. В древнегерманском духе. В скальдической поэзии, скажем…»
«И совершенно забыл о таком необходимейшем компоненте стихосложения, каковым является цезура! Этот стих следует читать вот так: М-меж м-милых чресл-л… пауза… м-манящий м-мох!»
«О да, конечно. Несомненно. Но пойми меня правильно, Лидочка, я же не слышал тебя, я смотрел в написанный текст. Но теперь я вижу, вернее слышу. О да. Лидия, а хотела бы ты…»
Лидия хотела, ибо Лидия хотела всегда. Но разговор зашел о поэзии. Были вещи, которыми Лидия пренебрегать не умела.
«Милый, ты обязан был почувствовать. Ощутить. Как ты ощущаешь меня. Каждым нервом, каждой клеточкой мозга. Увы, мой Анджей, ты не поэт».
Лидия желала беседовать о поэзии, и Высоцкий не мог отказать. С увлеченными натурами следует быть предупредительным. Не поговоришь с ними о главном – не получишь наиглавнейшего.
«Увы, моя хорошая, не поэт. Но я стараюсь понять, бог свидетель. И заметь, кроме меня возможны другие читатели. Не имевшие возможности ощутить тебя всю. – Он еще не представлял себе масштабов Лидиного дарования. – Недостаточно подготовленные, они могут не знать про цезуру или же не туда ее вставить. Быть может стоит ее подчеркнуть? Цезуру».
«Чем?» – спросила Лидия, не выказывая еще изумления, однако уже изумленная. К чему он это, к чему? Разве недостаточно просто воскликнуть: «Божественно»?
«Скажем… Разбить строчки. Написать лесенкой».
В ответ на предложение Высоцкого прозвучало короткое «Что?» Высоцкий, исполненный чувств и желаний, не оценил угрозы и повторил:
«Лесенкой. Как у Маяковского. Первая строка: Меж милых чресл… И новая: манящий мох! Разве…»
Юлианова окаменела. Ее очи, ее уста, ее ланиты, ее уши – всё в ее облике, окаменев, выразило невыразимое.
«Как – ты – мог?»
Теперь короткое «что?» поневоле вырвалось у Высоцкого.
Лидия принялась озабоченно отыскивать в ворохе одежды на кресле чулки и розового шелка панталончики. Длинные ресницы поэтессы дрожали. Ласковая ладонь Высоцкого была безжалостно поэтессой отстранена. Не слишком резко, но безжалостно. «Где мой Büstenhalter? Застегни, пожалуйста. Аккуратнее, графоман. Тебе еще учиться, учиться, учиться».
Всё же стоит наведаться в редакцию, подумал Высоцкий, осторожно наблюдая в окно, как по Нововейской удаляется в сторону площади На Распутье, под моросящим дождем, стройная фигура молодой красивой женщины. Узнать, как там панна Голковская. Посидеть с ней в кондитерской, без алкоголя. Всего лишь посидеть. Поговорить. С пани же Юлиановой лучше ограничиться поисками пана Пальчевского. И разговорами о Басе.
***
Без малого месяц спустя, еще под одеялом, панна Голковская спросила:
– Котик, а кто эта русская?
Высоцкий был застигнут врасплох и, натягивая брюки, придумывал ответ. Как объяснить? Агнешка не поверит. И почему она спросила лишь сейчас, а не вчера, позавчера, не вечером? На ревность не похоже. Быть может, прелестница насытилась и теперь, желая заменить его другим, намеревается устроить скандальчик? Возможно, она права. Радость не может быть вечной. Радости следует чередовать.
В плане радостей осень выдалась выдающейся. Порою Высоцкому делалось стыдно. Он превращался в прожигателя жизни, бездарного растратчика быстротекущего времени, раба, пардон за откровенность, причиндалов. Радостью были сентябрьские визиты Мониси, ее великодушный профессионализм в сочетании с азартом и желанием отдаться всеми возможными способами – так, чтобы кавалер остался счастлив, а гонорар был честно отработан. Лидия… Лидия не в счет, в чем-то милый, но досадный эпизод, неизбежное в заданных условиях недоразумение. Хотя бесспорно, строевая рысь… Нет, нет, нет, позабыть, и чем скорее, тем лучше.
Новой радостью, много более полнокровной и полноценной, без налета коммерции и с оттенком искреннего влечения, стала отважная Агнешка. Расставание со златокудрой Моней тоже было в чем-то радостным. Все оказались, если не счастливы, то по меньшей мере довольны. И теперь вот это… Какого черта Агнешку занесло в ресторан на Мокотовской, где Анджей и Лидия в седьмой уже раз сидели, выжидая Пальчевского? Занесло не одну, но и не вдвоем, а в компании редактора, народного пиита Алоизия Садовского, рисовальщика Михала Свинки и румяного шеволежерского подпоручика по фамилии… черт его знает, но с виду вполне пригодного – что для Агнешки, что для Лидии, что для златокудрой Мони.
– Анджейчик, не молчи! Ты вообразил, что я ревную? Я, по-твоему, похожа на сельскую дуру? Ты ведь знаешь, ты у меня не первый. Права на ревность у меня отсутствуют. Просто хочется узнать.
Высоцкому стало обидно. За себя. Разницы в возрасте всего четыре года – но насколько эта девушка более открыта, более смела, более чиста, чем он! Да, сегодняшняя молодежь формировалась в других условиях. Войны, оккупации, новой войны… Это что-то меняет? Видимо. Они более правдивы. А ты ей даже не сказал про Моню. Постеснялся связи с нехорошей, так сказать, девушкой и материальной подоплеки этой связи. При том что Моня весьма достойный представитель профессии, столь же востребованной обществом, как актеры, парикмахеры, репортеры и репетиторы. Спору нет, подавляющая часть ее коллег – общественные отбросы, но Монечка на общем фоне… Знает и любит свое дело и уважает достойных уважения клиентов. Про Агнешку, златовласка сказала: «Подержись за нее подольше, Ендрек. Замечательная девушка, тебе с ней будет хорошо как мало с кем! А от русской лучше отделайся. С этими поэтками лишь триппер наживешь».
– Анджей, довольно молчать! Рассказывай. Садовский видел тебя с этой дамой и раньше. И Свинка. Тут что-то кроется, важное. Или это военная тайна?
Высоцкий капитулировал. Выбросил белый флаг. Наполовину.
– Ну… В своем роде действительно… Военная тайна. Ягуська, только тебе. Не Садовскому, не Свинке и не кавалеристу. Хорошо?
– Конечно, мой хороший. – Агнешка поудобнее уселась на кровати, прикрыв аккуратные грудки и плечики одеялом. Не оттого, что стеснялась, а оттого, что был ноябрь. Высоцкому захотелось согреть это нежное чудо. Забыть Юлианову и, умирая от нежности, греть. Но надобно было каяться.
– Ее зовут Лидия. Нет, не Лигия – Лидия. Лидия Юлианова. Она из России, беженка, довольно известная в Варшаве персона, выступала с публичными чтениями. Мы ищем с ней одного человека, нашего, поляка, военного. Который знает очень важные вещи. Важные для меня, для моей сестры, для этой дамы, для одной дорогой мне семьи. Этот человек…
Высоцкий задумался. Что он вправе сказать Агнешке о человеке, о котором ничего не знал, но которого заранее, заочно ненавидел? Агнешка, сжав ладошками плечики, спросила:
– Максимилиан Пальчевский, да?
Высоцкий не вздрогнул только потому, что не вздрагивал даже при свисте пуль. Сел на кровать, вплотную к Агнешке.
– Откуда ты знаешь это имя, Гуська?
Агнешка улыбнулась, поцеловала Высоцкого в щеку и прошептала, тихо-тихо, прямо в ухо:
– От тебя, мой хороший, от кого же еще.
– От меня?
Агнешка актерски всплеснула руками. Одеяло соскользнуло, обнажив всё прекрасное, что находилось выше крепеньких, как у Венеры Веласкеса, бедер.
– Анджей, миленький, не делай страшных глаз. Я испугаюсь и спрячусь под кроватку, и тогда у нас не выйдет утренний бим-бом. Хотя ты, вижу, и не собираешься меня бимбонить. Натянул свои штаны и намылился куда-то.
– Но как?
– Элементарно. – Ежась от холода, Агнешка притулилась к любовнику. – Некоторые мужчины, по счастью только изредка, разговаривают во сне. Один шеволежерский поручик… мне рассказывала подруга… периодически водил в атаку эскадрон. Студент из Политехники… это мне рассказала другая подруга… бормотал про теорему Ферма.
– Он ее доказал?
– Кого? Подругу?
– Теорему.
– Не знаю, я не математик. А один сержант Войска Польского, он же штабс-капитан императорской армии и белый доброволец…
Анджей поморщился, он не любил напоминаний о злосчастном своем добровольчестве.
– Сегодня среди ночи процедил сквозь зубы: «Или ты ответишь, Пальчевский, или подохнешь как пес». Вуаля.
Анджею стало не по себе. Он что, разговаривает во сне? Не ляпнул ли он часом про строевую рысь, про Юлианову, про Басю? Про золотистые кудри Мониси?
– И часто я так? – спросил он осторожно.
– Первый раз, Анджейчик. Я сама удивилась. Ты огорчился? Не надо. Сейчас после войны у нас у всех с головой не в порядке. Быть может, я тоже высказываюсь во сне?
– Нет, Гусенька, нет.
– Так я, значит, правильно поняла, что это тот самый Пальчевский?
Анджей не вздрогнул и тут. Бесценный военный опыт.
– Тот самый? Какой еще тот самый?
– Про которого вчера в газете. Я подумала, ты прочел и потому-то он тебе привиделся.
– В газете? В какой газете?
– Вон в той. На столе. Пока ты вчера в бадециммере приготовлял себя к первому бимсу, я полистала. Потому я про него и спрашивать не стала. Хотела узнать про русскую, а с Пальчевским мне и так было ясно.
Высоцкий не слушал. Схватил шестнадцатистраничную стопку бумаг, бросил на кровать, зашуршал неловко листами.
– Гусенька, солнышко, где?
– В некрологах.
– Что?!
Агнешка уверенно запустила руку в бумажный ворох, извлекла оттуда пару разворотов, прошлась живыми глазками по погребальным рамочкам. Станислав Чечот, житель столичного города Варшавы, Иренка Богдановичувна, пятнадцати лет, Ян Любчинский, сотрудник, семидесяти девяти, Франтишек Малиновский, доктор медицины, Юлия Джон, Леонард Дуда из химической лаборатории, Людвика Либхен, …
– Вот.
Быть может, она обозналась, хватался за соломинку Высоцкий. Быть может, есть другой Максимилиан Пальчевский? Или Пальчовский. Польша большая, в ней хватает и Пальчевских, и Моравецких, и Качинских, и Сыкульских. Вон и химик Дуда отыскался. Однако нет, Агнешка не ошиблась.
В рамочке стояло, черным по белому: «Поручик Максимилиан Пальчевский». Годы жизни. Пара заслуг перед обществом. Герой сражений на Востоке. Нелегкая, крайне необходимая Отечеству служба. И последнее, как кол в могилу вурдалака: «Наша Родина не забудет подвигов отважного поручика в Житомире».
– Он? – очень тихо спросила Агнешка Голковская.
– Он, – очень тихо ответил штабс-капитан Высоцкий.
– Мне кажется, – предположила Агнешка, – ты его не очень-то любил.
– Я его и не знал. Но очень хотел познакомиться. Речь шла о судьбе человека.
– Женщины? – непонятно как догадалась Агнешка.
– Да, – был вынужден подтвердить Высоцкий. Подтвердить скрепя сердце: слишком много вокруг оказалось вдруг женщин. И пора было в них разобраться.
– Любимой?
Высоцкий поежился. Девичьи фантазии. Любимой… С какой такой стати? Когда? В тринадцатом году? Удивительно, но ни разу в своих грезах он не представлял себя вместе с Барбарой. Вместе в абсолютном смысле слова – как с Лидией или с Агнешкой. Не из-за любви ли? Чушь, троекратная чушь.
– Жены моего товарища. По университету, по фронту. Не знаю, правда, товарищи ли мы теперь.
Умная Агнешка уверенно додумала.
– Он русский?
– Ну да, естественно, – не удивился девичьей проницательности Высоцкий. – Знаешь что? Давай-ка выпьем кофейку. В наличии масло и сыр. И целых две наполеонки. Можешь съесть обе. Тебе, – он взглянул на упругий животик и тонкую, по Веласкесу, талию, – тебе пока не повредит.
Агнешка, весело тряхнув симметричной парой прелестей, ловко запустила в возлюбленного подушкой.
– Ты лучше всех, мапусёныш! Но тебе наполеоночка тоже не повредит. Жалко, что утреннего бимса не будет.
– Кто тебе сказал? Пальчевский? Чтобы я, да из-за гнусного мерзавца… Да еще откинувшего задние лапы…
Агнешка радостно раскинула в сторону руки и прочее.
– Я тебя люблю, Высоцкий. Но ты ведь должен сообщить о новости своей русской Лигии. А быть может, она уже знает, и сама несется к тебе. Ей же наверняка известен твой адрес.
Пытливый насмешливый взгляд. Нет, пан Высоцкий, необходимо срочно навести порядок в бабах. И почему так вечно получается: или пусто или густо? Во всем. В деньгах, в работе, в удовольствиях, в пороке.
– Не несется. – Анджей вспомнил про манящий мох и лесенку. – Так что успеется. Тут написано: похороны восьмого ноября, то есть завтра, в Повонзках. Мы сходим с нею вместе, так и быть. Нет никакого смысла идти, однако мы сходим. Если ты на кухню, то прикрой хоть чем-нибудь свое очарование, замерзнешь, простынешь и вместо бимсов будешь кушать аспирин и капать капли в нос.
– Ты давно бы мог завести пару-другую махровых халатиков.
– Пару-другую?
– Естественно. С твоими-то неупорядоченными связями. Лигия не мерзла? Ах да, она же из Сибири.
– Еще один намек такого рода, и я слопаю обе наполеонки! Не говоря о том, что Лидия москвичка, а ты, клянусь Марсом, не святая Инесса.
– Анджейчик, если речь о настоящих чувствах, а не о тривиальной сатисфакции, то я люблю только тебя и больше никого! Не ешь мою наполеоночку. Пожалуйста.
***
Новая линия обращенного против Врангеля фронта протянулась на полторы сотни верст по продуваемой злобным ноябрьским ветром степи. Сухопутный проход на полуостров имелся в одном только пункте – на Перекопском перешейке, перекрытым одиннадцатикилометровым Турецким валом. Следующий возможный пункт атаки, в южной части Чонгарского полуострова, находился значительно восточнее. Там наличествовали две переправы: по трехкилометровой железнодорожной дамбе и по стометровому мосту. Еще восточнее, в двадцати верстах от основания Чонгарского полуострова, в районе города Геническа находился третий пункт. Здесь по мостам через узкие проливчики, соединявшие Сиваш с Азовским морем, можно было перебраться на Арабатскую стрелку и далее, пройдя по ракушечной косе сто двадцать километров, дойти до основания Керченского полуострова.
(Если читатель заблудился на присивашских и приазовских просторах, пусть откроет карту, возьмет линейку или курвиметр. Истории без географии не бывает. Даже истории императриц и фаворитов. С Орловыми или Потемкиным без карты не разобраться. Разве что с Платоном Зубовым.)
Перекопский перешеек представлял собой позицию, в мощи которой красные войска имели возможность убедиться неоднократно – весной и только что, в конце октября, когда дивизия Блюхера попыталась пробиться в Крым с ходу.
Там не было сверхсовременных укреплений, о которых твердила пропаганда Врангеля. Там постаралась сама природа. Чтобы дойти до старинного, совершенно не современного вала с абсолютно не современным рвом, нужно было под артиллерийским огнем (семьдесят два скрытых за валом орудия) преодолеть десяток километров по голой и плоской степи, а потом под огнем пулеметов продраться через два линии проволочных заграждений – в три, четыре, пять кольев каждая. Выжившим и наиболее упрямым следовало, под огнем, спуститься на десяток метров в ров и, опять под огнем, продраться сквозь третью линию проволок – о которой красным заранее известно не было. Выкарабкаться изо рва, после чего – под огнем – лезть на древний, антикварный вал. На котором не имелось сверхсовременных фортификаций. Обыкновенные окопы. В окопах – сводногвардейский и два дроздовских полка. В тылу – резервы. И в среднем по тринадцать, по четырнадцать пулеметов на километр.
Кому-то покажется, автор зло иронизирует. Не без того. Причина – очередные изыскания разоблачителей «советского официоза».
Перспективным выглядел путь по Арабатской стрелке. Переправиться через узкие проливы и пустить по стрелке кавдивизии и пехоту. Пройдя половину стокилометровой косы, можно было перейти через узенький рукавчик Сиваша и оттуда рвануть на Джанкой, в центр неприятельских коммуникаций. Но путь по стрелке был перекрыт. У Врангеля имелся флот – и движение по косе, сужавшейся порою до полукилометра, превратилось бы в избиение наступающих артиллерией с кораблей. Наша Азовская флотилия поддержки оказать не могла – она по-прежнему стояла во льдах под Таганрогом.
Оставались Перекоп и Чонгар. Два узких прохода, крепко прикрытых противником. Между ними – просторы Гнилого моря, по которым ни проплыть, ни пройти, ни проехать. Бесспорное численное превосходство пяти красных армий (с союзным воинством Махно – шести) обращалось почти в полный нуль.
Почти.
Для немедленного вручения
Москва. 4 ноября 1920 г. 19 час.
Первый этап операции закончен. Приказываю немедленно перейти к выполнению второго этапа операции, то есть – овладению Крымским полуостровом атакой, открытой силой, не останавливаясь перед жертвами, какие могут быть вызваны этими атаками, имея в виду, что не только замедление, но заминка в этой операции обойдется значительно большими жертвами. (…) Поймите, что если [мы пройдем] через Чонгарский мост, то Крым в наших руках. Используйте также и Арабатскую стрелку пешими частями, а также всевозможные переходы через Гнилое море, которых, по-видимому, достаточно. (…) Напоминаю еще раз, что в этой операции не должно быть ни одной минуты промедления.
№ 6524/оп
Главком Каменев
Наштареввоенсовет Лебедев
Военком Гиршфельд
Овладение Перекопским перешейком командюж возложил на шестую армию Корка, правофланговую. Прорыв с Чонгарского полуострова и контроль за Арабатской стрелкой – на четвертую Лазаревича. Последней были переданы из тринадцатой Уборевича одна стрелковая и все три кавалерийские дивизии, одна бригада и отряды Махно. Первая и Вторая Конные разместились во втором эшелоне, чтобы влиться в проломленные бреши. Третий эшелон, фронтовой резерв, составляли войска Уборевича.
Опросы местных жителей показали, что проходы через Сиваш имеются. Особенно соблазнительным был тот, что выводил на семиверстный Литовский полуостров, в тыл перекопских позиций противника, в семи верстах к юго-востоку от вала. Но одно дело хождение по бродам отдельных местных жителей, другое – переброска соединений. Брести девять верст в ледяной воде, иногда проваливаясь по пояс, тащить орудия, огнезапасы. А кони? Обладают ли они должным уровнем сознательности? И каков будет уровень воды, в какую сторону подует ветер – на восток, унося воду прочь или на запад, нагоняя ее обратно? И как там белые, которые совсем не дураки и тоже могут ждать удара с Сиваша?
Ожидалось огромное число убитых, раненых, обмороженных, смертельно простуженных. Красных солдат даже в дни передышки – без жилья, без топлива, без достаточной пищи, на морозе – сотнями скашивали болезни. Во время же боев… Для наилучшей организации медпомощи на Южный фронт был направлен нарком здравоохранения Семашко.
6 ноября 1920 г.
Только командюж, РВС 4-й, 6-й,
13-й, 1- и 2-й Конармий.
Копия начпоарм 4-й, 6-й,
13-й, 1- и 2-й Конных, начполитупрюж,
Главком
Харьков
Реввоенсовет Южфронта предписывает при предстоящем форсировании Сиваша большую часть коммунистических сил, находящихся в тыловых и резервных частях армии, срочно командировать в те войсковые части, которые будут форсировать Сиваш, дабы все лучшие коммунистические силы были в рядах тех войск, на которых лежит эта сложная и необходимейшая задача.
№ 0336/сек/1001/оп
Помкомандюж Авксентьевский
Член РВС Гусев
Врид наштаюж Паука
Россия готовилась к последнему штурму.
***
Утро поздней осени выдалось студеным. Среди лип уныло каркали вороны, под ногами чавкал серый снег. Широкая аллея была почти безлюдна. Зачем они тащатся, думали оба – Лидия и Высоцкий. Марыся тоже выражала готовность сходить на прощанье с Пальчевским, но Анджей решительно возразил. Во-первых, много чести негодяю, во-вторых, негоже по столь мелкому поводу пропускать занятия на факультете. О своей готовности пойти заявила и Ася, но Анджей понимал – на кладбища сестру совсем не тянет.
На свежем, недавно разбитом участке собралось не более десятка прощавшихся. Погребение двигалось споро. Священник пробубнил необходимые слова, дама в черном, вероятно мать, продемонстрировала неутешное горе, рабочие сноровисто подняли гроб и опустили в мокро черневшую яму. Просыпались комья земли, замелькали под заморосившим дождем лопаты. Все спешили, и людей можно было понять.
– Добрый день, пан Высоцкий. Вы хорошо были знакомы с покойным?
Высоцкий и Лидия обернулись. Высоцкий узнал Савицкого, полицейского инспектора, памятного по апрельскому побоищу у ресторана. Хорошо, что Аська не пошла, подумал Анджей. И хорошо еще, что он и Лидия держались в стороне, наблюдая погребение с порядочной дистанции.
– Я его не знал. Совсем, – сказал Высоцкий совершенно честно.
Савицкий не стал выяснять, знала ли Пальчевского Лидия. Он просто отметил тень, что пробежала по лицу красивой женщины. Представился. Высоцкий представил в ответ госпожу Юлианову. Русская беженка. Савицкому показалось не лишенным интереса и это.
– Я тоже не знал поручика Пальчевского, – сообщил он русской и Высоцкому. – Впервые увидел в морге. С тремя огнестрельными ранами. Не буду показывать на себе, не потому что суеверен, просто не хочу обращать внимания посторонних.
Высоцкий и Лидия молчали. Новый поворот сюжета.
– Выстрелы с близкого расстояния, ожоги. Полагаю, из нагана. Судя по всему, он умер быстро. Без мучений.
Савицкий пристально взглянул на собеседников. Ему показалось – на лице Высоцкого отразилось: «А жаль». Инспектор, впрочем, нелепую фантазию отогнал. Фантазиям в полиции не место. Пусть фантазеров в полициях мира с избытком.
Провожавшие расходились. Пошли и они, втроем. Медленно, по аллее, вдоль свежих солдатских участков. Высоцкий счел необходимым объяснить, почему оказался на кладбище.
– Здесь лежит мой товарищ. Капрал Винцентий Мадайчик. Ранен под Плоцком, умер в Варшаве.
– Вы пришли на его могилу?
– Да. Не успел отыскать. Мы увидели процессию. Направились следом.
– Любопытство? Понимаю. Что же, надо полагать, теперь вы навестите товарища. Не буду задерживать. Продолжу расследование.
– Как вы думаете, пан инспектор, – остановила Савицкого Лидия, – из-за чего пан поручик мог пострадать?
– Пострадать? Пальчевский? Боюсь, что много из-за чего. Я не имею права посвящать кого бы то ни было в детали, но за убиенным водились тёмн… довольно странные дела. Что касается его службы в… особых армейских подразделениях, то и к ней имеются вопросы. Впрочем, это дело военного ведомства. Поручик подвизался на украинском фронте, в Ровно, Звягеле, Житомире. Вам доводилось бывать в Житомире, пан Высоцкий?
– Неоднократно, – ответил, и снова абсолютно честно, Анджей. – И в Ровно, и в Звягеле. Последний раз в декабре семнадцатого.
– Ну да. Пальчевского в ту пору там не было. А вам, мадам?
– Мне? В Житомире? Я…
– Вижу по глазам – не доводилось, – успокоил Лидию Савицкий. – Или всё-таки пришлось?
– Нет-нет, конечно, нет.
Зря, подумалось, Высоцкому, зря. Теперь инспектор наверняка всё выяснит. Юлианова в Варшаве не иголка в стоге сена, узнать, откуда она приехала, не составит ни малейшего труда. И проследить ее маршруты. И узнать про регулярные походы в ресторан на Мокотовской. Про кое-какие расспросы. Кажется, штабс-капитан, ты влип в пикантную историю. Вместе с семейством Котвицких.
– Что же, позволю себе откланяться. Надеюсь, еще увидимся.
– Я тоже надеюсь, пан инспектор, – заверил Высоцкий Савицкого. И вновь совершенно честно.
Глядя в спину уходившему по аллее инспектору, Лидия сжала горячими пальцами пальцы Высоцкого.
– Ужасная судьба. Мы ведь не хотели его смерти, правда?
***
Шестого ноября ветер с запада выгнал воды Сиваша на восток. Гнилое море обмелело. Обстоятельство имело важные последствия. На левом фланге фронта, в полосе четвертой армии оказалось невозможным использовать приготовленные плавсредства при штурме переправ с Чонгарского полуострова. Четвертой Лазаревича в буквальном смысле оставалось ждать у моря погоды. Вторым последствием было то, что на правом фланге фронта, в полосе шестой армии Корка, на хорошо разведанном участке Сиваша между материком и Литовским полуостровом, в тылу перекопских позиций противника, обнажившееся дно Гнилого моря облегчило задачу перехода. Направление первого удара определилось окончательно.
В ночь с седьмого на восьмое, в первую ночь четвертого года новейшей эры, дивизии шестой пошли на штурм.
Слева, через обмелевший Сиваш, в плотном тумане, ступая по намеченному вешками пути, двинулись, ровно в двадцать два, штурмовые отряды пятнадцатой Инзенской. Где-то шли по колено в воде, ледяной, в покрытых ледяною коркой шинелях. Молча, чтобы ничем себя не выдать, не ругаясь, не матерясь, налегали на увязавшие в иле колеса пушек и повозок. Толкали, тянули несчастных коней. Соль разъедала ноги – лошадям и людям.
Их обнаружили, когда две трети пути были пройдены. Последние три километра колонны брели под огнем. Не самым плотным, но под огнем. В разрывах взлетали фонтаны соленой грязи.
Около четырех часов утра, выдирая ноги из ледяного месива, люди выбирались на берег, в камыши. Разворачивались в цепи. Из последних сил бежали к неприятельским окопам. Залегали, поднимались, отходили, бежали снова. Справа стали выходить на сушу штурмовые колонны пятьдесят второй дивизии. Кубанская бригада Фостикова была раздавлена. Кто убегал, кто вскидывал руки вверх.
Некоторое время спустя, еще правее, появились из тумана две бригады пятьдесят первой, одна стрелковая, одна кавалерийская. На наполненном войсками полуострове места им не отыскалось, и они продолжили путь вдоль берега, по воде.
К восьми часам утра Литовский был очищен. Пойти с него направо означало выйти в тыл Турецкому валу. Пойти налево – выйти к позициям в основании перешейка.
Если колоннам, шедшим через Сиваш, туман помог, то войскам, которым предстояло в лоб атаковать Турецкий, он не давал возможности начать артподготовку. Только после восьми, когда туман понемногу стал рассеиваться, пятьдесят пять пушек и гаубиц наконец-то открыли огонь. Видимость по-прежнему оставалась неважной, расстояние было большим, и огонь по необходимости велся вяло. Чтобы продлить артобстрел, атаку отложили на час и начали только в тринадцать.
Первая попытка с легкостью была отбита артиллерией и пулеметами, красным стрелкам не удалось добежать до проволочных заграждений. Артподготовку было приказано продлить. Начал иссякать огнезапас, а огневые средства врага подавлены так и не были.
В тринадцать тридцать пять штурм возобновился. На одном участке удалось перебежками добраться до проволоки, в других не получилось и этого. Мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед. Живые в отчаянье откатывались назад.
Тем временем бой на Литовском становился всё ожесточеннее. Осознавая угрозу, противник бросил на помощь Фостикову резервы – их было достаточно и они располагались близко. Красные дивизии были оттеснены обратно на Литовский. Прижаты к Сивашу. Операция повисла на волоске.
Ветер между тем переменился. Залив наполнялся водой. Коммуникации с материком расстроились. Бойцы-связисты, по пояс в студеной жиже, оледеневшими руками держали провода. Падали снаряды. Захлебывались раненые.
Пока еще было возможно, покуда переправы не скрылись под водой окончательно, Фрунзе двинул на Литовский подкрепления. Две кавдивизии, одна из четвертой, одна из Второй Конной армии. Туда же, не без труда, командюжу удалось загнать конную группу Повстанческой армии, говоря иначе – две тысячи махновцев. Кони ступали по брюхо в воде. Литовский полуостров удержали.
Читатель, должно быть, уловил: суть операции была в комбинировании энергичных усилий. Безостановочный нажим тут, безостановочный нажим там. Не дать врагу опомниться, не дать сосредоточиться на одном-единственном участке, ухватиться за любую возможность продвижения, максимально использовать численное превосходство. То самое, сведенное, казалось бы, к нулю. Идя при этом на страшные жертвы.
Мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед. Шаг приближал неотвратимый час победы. Счастливый, ужасный, горький, кошмарный, благословенный. Час конца всероссийской бойни.
В двадцать два часа возобновился невозможный штурм вала. Кое-где удалось прорваться сквозь первые две линии заграждений и дорваться, дотянуться до рва. И уже там, на северном его скате, у неожиданно возникшей третьей колючей линии, подвергнуться избиению. Пули из винтовок, из пулеметов, гранаты и картечь в упор уничтожали повисавших на проволоке хамов. Один из полков потерял шестьдесят процентов состава, командир другого полка был убит, вышли из строя все младшие командиры. Мертвые, прежде чем упасть… Живые отходили. Кто мог.
Обеспечив Литовский и выпнув повстанцев Махно за Сиваш, Фрунзе снова дал распоряжение Блюхеру. Атаковать. Да, опять. Взять вал. Оказать содействие Литовскому. Блюхер честно сказал: невозможно. Фрунзе честно признал: невозможно. И приказал: атаковать. И взять.
Пятьдесят первая Блюхера наносила сковывающий удар. Чтобы сковывать, следовало атаковать.
Уже во тьме, когда измученные противники прекратили драться на Литовском, пятьдесят первая снова двинулась на вал. Два левофланговых полка пошли по Сивашу. Обойдя уходившую вглубь залива проволоку, побрели обратно, заходя противнику в тыл.
Сочетание в течение дня разнообразных действий – взятие Литовского, лобовые атаки вала, обходные маневры, введение резервов – принесло в конце концов плоды. Нервы у Антанты не выдержали. В ночь на девятое белый гарнизон, не понеся значительных потерь, сохранив пулеметы и артиллерию, покинул вал и отошел на позиции в юшунских межозерных дефиле. В три часа тридцать минут на оставленных им укреплениях были подняты красные флаги.