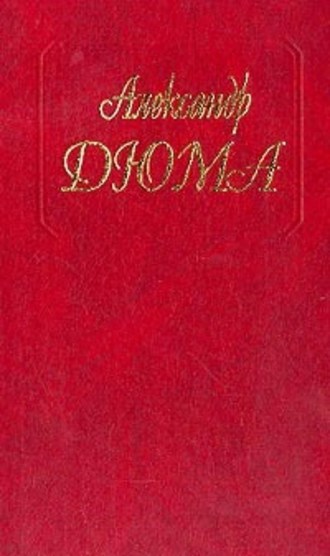
Александр Дюма
Белые и синие
ПРЕДИСЛОВИЕ
В предисловии к «Соратникам Иегу» я уже рассказывал, как создавался тот роман; прочитавшие его могут судить о том, что именно я почерпнул для осуществления своего замысла у Нодье, который был очевидцем смерти четверых из Соратников: я заимствовал у него развязку.
«Белые и синие» – продолжение «Соратников Иегу», и не удивительно, что я заимствую его начало снова у Нодье.
В пору долгой болезни, постепенно уносившей силы Нодье, я был одним из самых частых гостей у него в доме; он, когда был здоров, не успел прочесть моих книг из-за своих неустанных трудов и поэтому, будучи прикованным к постели, попросил принести ему семьсот-восемьсот томов, которые я опубликовал к тому времени, и прочел их залпом.
По мере того как он знакомился с моей творческой манерой, его вера в меня как в литератора возрастала, и всякий раз, когда я начинал говорить о нем самом, он отвечал: «О! Мне всегда недоставало времени; моего досуга хватало лишь на то, чтобы делать наброски; вы же, если бы у вас было то-то или то-то, из чего я сделал бы рассказ в двести строк, вы бы написали десять томов!..»
Так, он рассказал мне сюжет, занимавший четыре страницы, на основе которого я написал три тома «Соратников Иегу»; он рассказал мне историю Евлогия Шнейдера, из которой, как он утверждал, я мог бы сделать десять томов.
«Безусловно, мой верный друг, – сказал он мне однажды, – вы напишете эти тома, и, если что-нибудь из созданного нами переживет нас, там, наверху, я буду наслаждаться вашим успехом и тешить свое тщеславие мыслью, что тоже приложил к этому руку».
Итак, я написал «Соратников Иегу», и после успеха романа мною овладело мучительное желание написать новую книгу, взяв «Сцены революции» Нодье за отправную ее точку, подобно тому как я воспользовался его «Термидорианской реакцией» для окончания предыдущей книги, – итак, мною овладело мучительное желание написать большой роман под названием «Белые и синие» на основе воспоминаний, услышанных мной из уст Нодье, а также запечатленных в его книгах.
Однако в начале работы меня охватили сомнения. На сей раз мне предстояло не только заимствовать несколько страниц у старого друга, но и вывести его самого в качестве героя.
Тогда я написал моей дорогой сестре Марии Меннесье письмо с просьбой разрешить мне еще раз совершить то, что я уже сделал один раз без ее разрешения, а именно: взять для моего дичка черенок от отцовского дерева.
Вот что она мне ответила:
«Все что захотите и когда захотите, дорогой брат Александр! Я отдаю Вам душу моего отца с тем же предельным доверием, как если бы это был Ваш отец, ибо его воспоминания, его память будут в надежных руках.
Мари Меннесье-Нодье».
С тех пор ничто больше не удерживало меня; поскольку мой план был готов, я тотчас же принялся за работу.
И вот теперь я приступаю к публикации этой книги; однако, прежде чем вынести ее на суд читателя, мне следует исполнить долг памяти, и я его исполняю.
ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ЗНАМЕНИТОМУ ДРУГУ И СОАВТОРУ ШАРЛЮ НОДЬЕ.
Я назвал имя своего соавтора, чтобы читатель не утруждал себя поисками другого человека: это был бы напрасный труд!
Александр Дюма.
Часть первая. Пруссаки на Рейне
I. ИЗ ГОСТИНИЦЫ «ПОЧТОВАЯ» В ГОСТИНИЦУ «У ФОНАРЯ»
Двадцать первого фримера II года Республики (11 декабря 1793 года), в девять часов вечера, дилижанс, прибывший из Безансона в Страсбур, остановился в глубине двора гостиницы «Почтовая», расположенной позади собора.
Из кареты вышли пять пассажиров; к одному из них, самому юному, нам следует приглядеться внимательнее.
Это был изящный бледный подросток лет тринадцати-четырнадцати, которого можно было принять за переодетую девушку, настолько кротким и задумчивым было выражение его лица; его темно-каштановые волосы были подстрижены «под Тита» (эту прическу носили ревностные республиканцы, желавшие походить на Тальма); ресницы того же цвета обрамляли его светло-голубые глаза, вопросительно и необычайно серьезно взиравшие на людей и окружающий мир. У мальчика были тонкие губы, красивые зубы и обаятельная улыбка; его сшитый по тогдашней моде, хотя и не щегольской наряд был весьма опрятным: тут явно не обошлось без заботливой женской руки.
Возница, видимо проявлявший о мальчике необычайную заботу, передал ему небольшую сумку, похожую на солдатский ранец, который носят за спиной на двух лямках. Затем, оглядевшись вокруг, он закричал:
– Эй! Нет ли тут кого-нибудь из гостиницы «У фонаря», кто встречает молодого путешественника из Безансона?
– Я здесь, – откликнулся чей-то резкий, грубый голос. Человек, похожий на конюха, оставался в темноте, ибо фонарь в его руке освещал лишь мостовую; он обошел огромную карету и приблизился к открытой дверце.
– А, это ты, Соня! – сказал кучер.
– Меня зовут не Соня, мое имя Коклес, – кичливо возразил конюх, – и я пришел за гражданином Шарлем…
– По поручению гражданки Тейч, не так ли? – послышался нежный голос мальчика, приятно звучавший по сравнению с грубым голосом конюха.
– Так точно, от гражданки Тейч. Ну как, ты готов, гражданин?
– Кучер, – промолвил подросток, – вы скажете дома…
– …что вы благополучно добрались и что вас встретили; будьте покойны, господин Шарль.
– Вот те на! – воскликнул конюх почти угрожающим тоном, подходя вплотную к вознице и мальчику, – вот те на!
– Ну, и как прикажешь понимать твое «вот те на»?
– Я хочу сказать, что твои речи, возможно, пристали жителю Франш-Конте, но не Эльзаса.
– Вот как! – насмешливо отозвался кучер, – и это все, что ты хочешь сказать?
– И еще я хочу дать тебе совет, – продолжал гражданин Коклес, – оставь в своем дилижансе всяческие «вы» и «господин», ввиду того что подобные обращения неуместны в Страсбуре, особенно с тех пор как нам выпало счастье принимать в наших стенах граждан народных представителей Сен-Жюста и Леба.
– Не сбивай меня с толку своими гражданами народными представителями и отведи-ка лучше этого молодого человека в гостиницу «У фонаря».
С этими словами, не придав значения советам гражданина Коклеса, возница скрылся в гостинице «Почтовая».
Человек с фонарем посмотрел ему вслед, бормоча что-то себе под нос, и затем обернулся к мальчику.
– Пошли, следуй за мной, гражданин Шарль, – сказал он и зашагал впереди, указывая дорогу.
В любую пору Страсбур оставался невеселым городом, в особенности через два часа после сигнала вечерней зори; но никогда еще он не был более безрадостным, чем в те времена, с которых начинается это повествование, то есть в первой половине декабря 1793 года; австро-прусская армия буквально стояла у ворот города; главнокомандующий Рейнской армией генерал Пишегрю, с трудом собрав остатки войска, с помощью своей воли и личного примера восстановил дисциплину и возобновил наступление 18 фримера, то есть за три дня до описываемых событий; будучи не в состоянии дать противнику настоящий бой, он прибегнул к тактике перестрелок и рукопашных схваток.
Пишегрю явился на смену Ушару и Кюстину, уже обезглавленным за неудачи, и Александру де Богарне, которого также вскоре ждала гильотина.
Вдобавок, прибывшие в Страсбур Сен-Жюст и Леба не просто приказали Пишегрю победить, а вынесли постановление об этом и первыми рвались в бой.
Гильотина сопровождала их повсюду, чтобы немедленно приводить декреты в исполнение.
В тот день было издано три декрета.
Первый из них предписывал закрывать ворота Страсбура в три часа пополудни; любого, по чьей вине они будут закрыты хотя бы на пять минут позже срока, ждала смертная казнь.
Второй декрет запрещал отступать перед лицом врага. Смертная казнь ждала любого, кто повернется спиной к неприятелю на поле битвы – будь то кавалерист, что пустит своего коня вскачь, или пехотинец, что ускорит шаг.
Третий декрет предписывал военным спать в одежде на случай внезапных нападений, на которые не скупился противник. Смертная казнь грозила любому солдату, офицеру или военачальнику, которого застанут раздетым.
Не пройдет и шести дней, как мальчику, только что вступившему в город, предстоит увидеть эти декреты в действии.
Все эти обстоятельства, как уже было сказано, вместе с поступавшими из Парижа вестями, придавали Страсбуру – от природы мрачному городу – еще более мрачный характер.
– Из Парижа поступили известия о казни королевы, казни герцога Орлеанского, казни г-жи Ролан и казни де Байи.
В городе также поговаривали о близившемся освобождении Тулона от англичан, но это были всего лишь непроверенные слухи.
Так что в это время Страсбур представал перед человеком со стороны отнюдь не в радужных тонах.
После девяти часов на темных узких улочках города хозяйничали патрули национальной гвардии и общества «Пропаганда», следившие за общественным порядком.
В самом деле, до чего же зловещими должны были казаться путешественнику, прибывшему из мирного не приграничного города, эти ночные звуки чеканных шагов, которые внезапно замирали, после чего раздавался приглушенный приказ командира и лязг металла всякий раз, когда один дозор встречался с другим и они обменивались паролями.
Два-три таких отряда уже прошли мимо нашего юного героя и его провожатого, не обратив на них внимания, как вдруг показался новый патруль и в ночи послышались слова: «Стой, кто идет?»
В Страсбуре отвечали на оклик дозора тремя различными способами, каждый из которых довольно красноречиво свидетельствовал о политических взглядах человека.
Равнодушные отвечали: «Друзья». Умеренные отвечали: «Граждане». Ярые революционеры отвечали: «Санкюлоты».
– Санкюлот! – решительно воскликнул Коклес в ответ на обращенный к нему вопрос.
– Подойди сюда! – прогремел повелительный голос.
– А! Прекрасно, – сказал Коклес, – я узнаю его: это гражданин Тетрель; я сейчас все улажу.
– Что за гражданин Тетрель? – поинтересовался юноша.
– Друг народа, гроза аристократов – одним словом, безупречный человек! И Коклес направился к патрулю спокойной походкой человека, которому нечего бояться.
– Это я, гражданин Тетрель, это я!
– А! Так ты меня знаешь, – проговорил командир отряда, великан ростом в пять футов десять дюймов, высота которого вместе со шляпой, увенчанной плюмажем, достигала семи футов.
– А как же! Кто же в Страсбург не знает гражданина Тетреля? – промолвил Коклес, и, поравнявшись с гигантом, он прибавил: – Добрый вечер, гражданин Тетрель!
– Прекрасно, что ты меня знаешь, – отозвался великан, – но я-то тебя не знаю.
– О! Это не так! Ты меня знаешь: я гражданин Коклес, а при тиране меня звали Соней; ты сам окрестил меня таким именем, когда твои лошади и собаки бывали в гостинице «У фонаря». Соня! Неужели ты не помнишь Соню?
– Ну да! Я прозвал тебя так, потому что ты был самым ленивым из плутов, каких я когда-либо видывал. А что это за юноша?
– Этот? – переспросил Коклес, приподнимая фонарь на уровень лица мальчика. – Это парень, которого отец отправил к господину Евлогию Шнейдеру учиться греческому.
– И чем же занимается твой отец, дружище? – обратился Тетрель к Шарлю.
– Он председатель суда в Безансоне, гражданин, – отвечал мальчик.
– Однако, чтобы учиться греческому, надо знать латынь.
Мальчик выпрямился.
– Я ее знаю, – сказал он.
– Как, уже знаешь?
– Да. Когда я жил в Безансоне, мы с отцом всегда говорили только на латыни.
– Черт возьми! Мне кажется, этот парень развит не по годам. Сколько же тебе лет – одиннадцать-двенадцать, не кли?
– Мне скоро будет четырнадцать.
– И с какой стати твой отец решил послать тебя к гражданину Евлогию Шнейдеру учиться греческому?
– Дело в том, что мой отец не столь силен в греческом, как в латыни. Он научил меня тому, что знал сам, а затем отправил к гражданину Шнейдеру, который свободно говорит по-гречески, так как занимал кафедру греческого языка в Бонне. Смотрите, вот письмо отца, которое я должен передать. Кроме того, неделю тому назад отец написал ему еще раз, чтобы предупредить о моем приезде, и тот заказал для меня комнату в гостинице «У фонаря», а также послал сегодня гражданина Коклеса меня встретить.
С этими словами мальчик вручил письмо гражданину Тетрелю, дабы подтвердить, что сказал правду.
– Ну-ка, Соня, придвинь свой фонарь, – приказал Тетрель.
– Коклес! Зовите меня Коклес! – возразил конюх, услышав свое старое прозвище, но тем не менее подчинился приказу.
– Мой юный друг, – промолвил Тетрель, – позволь заметить, что это письмо адресовано вовсе не гражданину Щнейдеру, а гражданину Пишегрю.
– Ах, простите, я, ошибся, – живо ответил мальчик, – отец вручил мне два письма, и я, должно быть, дал вам не то письмо.
Он забрал у Тетреля письмо и вручил ему другое.
– На сей раз, – сказал великан, – все точно:
«Общественному обвинителю гражданину Евлогию Шнейдеру».
– Елогию Шнейдеру, – повторил Коклес, переделав на свой лад имя общественного обвинителя, по его мнению искаженное Тетрелем.
– Ну-ка, преподай твоему провожатому урок греческого языка, – засмеялся командир патруля, – и растолкуй ему, что имя Евлогий означает… Ну-с, молодой человек, что значит Евлогий?
– «Красноречивый», – ответил мальчик.
– Клянусь честью, отличный ответ! Ну что, ты слышал, Свня?
– Коклес! – упрямо повторил конюх, отстаивавший свое имя с куда большим рвением, чем имя общественного обвинителя.
Между тем Тетрель отвел мальчика в сторону и прошептал ему на ухо:
– Ты идешь в гостиницу «У фонаря»?
– Да, гражданин, – ответил мальчик.
– Ты встретишься там с двумя земляками из Безансона, которые приехали защищать и требовать освобождения генерал-адъютанта Шарля Перрена, обвиненного в измене.
– Да, это граждане Дюмон и Баллю.
– Так точно. Ну вот, передай им, что, пока они остаются здесь, пусть не только не рассчитывают на спасение своего подопечного, но также не ждут ничего хорошего для себя. Видишь ли, речь попросту идет об их жизни.
– Я не понимаю, – отозвался мальчик.
– Неужто ты не понимаешь, что Сен-Жюст прикажет свернуть им шеи, как двум цыплятам, если они останутся здесь? Посоветуй им убираться отсюда, и как можно быстрее.
– На кого мне сослаться?
– Не вздумай этого делать, а не то меня заставят расплачиваться за разбитые, то есть за неразбитые горшки.
Затем, выпрямившись, он произнес:
– Отлично, вы благонадежные граждане, ступайте своей дорогой. И вы тоже – вперед, шагом марш!
Гражданин Тетрель удалился во главе своего отряда, оставив гражданина Коклеса исполненным гордости оттого, что он в течение десяти минут разговаривал со столь важной особой, и приведя гражданина Шарля в смятение своим сообщением.
Оба молча продолжали свой путь.
Стояла пасмурная, унылая погода, как водится в декабре на севере и востоке Франции; несмотря на то что близилось полнолуние, огромные черные тучи, бежавшие друг за другом, словно волны на экваторе, то и дело закрывали луну.
Чтобы добраться до гостиницы «У фонаря», расположенной на бывшей улице Архиепископства, ныне улице Богини Разума, нужно было пересечь Рыночную площадь, в конце которой возвышался помост; погруженный в свои мысли, мальчик едва не налетел на это сооружение.
– Берегись, гражданин Шарль, – рассмеялся конюх, – ты сейчас разнесешь гильотину.
Шарль вскрикнул и в ужасе отшатнулся.
И тут из-за туч ненадолго выглянула луна, явив их взорам страшное орудие, и бледный, печальный свет на миг озарил нож гильотины.
– Господи! Неужели это пускают в ход? – простодушно спросил мальчик, прижимаясь к Коклесу.
– Ты спрашиваешь, пускают ли это в ход? – весело откликнулся конюх. – А то как же, причем каждый день. Сегодня настал черед мамаши Резен. Она попала сюда несмотря на свои восемьдесят лет. Напрасно она кричала палачу: «Послушай, сынок, не стоит меня убивать: подожди немного, и я сама околею»; она рухнула так живо, как будто ей было только двадцать.
– Что же сделала эта несчастная женщина?
– Она дала ломоть хлеба голодному австрийцу. Напрасно она объясняла, что приняла его за земляка, поскольку он просил есть по-немецки; ей отвечали, что со времен не помню какого тирана эльзасцы и австрийцы уже не соотечественники.
Бедный мальчик, впервые покинувший отчий дом и никогда еще не испытавший столько разнообразных чувств за один-единственный вечер, почувствовал озноб. Что было тому виной – погода или рассказ Коклеса? Он окинул прощальным взглядом орудие смерти, которое снова, вслед за луной, скрылось в ночи, подобно призраку, и спросил, дрожа всем телом:
– Далеко ли еще до гостиницы «У фонаря»?
– Да нет, право, вот и она, – отозвался Коклес, указывая ему на огромный фонарь, висевший над воротами и освещавший улицу на двадцать шагов.
– Как раз вовремя! – пробормотал мальчик, стуча зубами.
Пробежав остаток пути, то есть десять-двенадцать шагов, он отворил дверь гостиницы, выходившую на улицу, и устремился, крича от радости, на кухню, в необъятном оча-те которой пылал сильный огонь. Госпожа Тейч отвечала на его крик таким же радостным возгласом; она никогда не видела Шарля, порученного ей, но сразу поняла, кто это, потому что его привел Коклес, также появившийся на пороге с фонарем в руке.
II. ГРАЖДАНКА ТЕЙЧ
Гражданка Тейч, толстая пышущая здоровьем эльзаска лет тридцати – тридцати пяти, питала поистине материнскую нежность к путешественникам, которых посылало ей Провидение; эта нежность удваивалась, когда путешественники оказывались юными миловидными отроками того же возраста, что и мальчик, только что присевший к очагу ее кухни, где, кстати, не было других гостей.
Она тотчас же бросилась к нему, а он, все еще продолжая Дрожать, протягивал руки и ноги к огню.
– Ах, маленький, почему же он так дрожит и отчего он такой бледный?
– Еще бы, гражданка, – разразился грубым смехом Коклес, – я не поручусь за свои слова, но сдается мне, дрожит он оттого, что ему холодно, а бледен потому, что налетел на гильотину. Кажется, он понятия не имел об этой машине и она произвела на него впечатление; ну и глупый народ эти дети!
– Ты бы помолчал, дурак!
– Благодарю, хозяйка; это мне вместо чаевых, не так ли?
– Нет, дружище, – откликнулся Шарль, доставая из кармана мелкую монету, – вот вам на чай!
– Спасибо, гражданин, – сказал Коклес, одной рукой приподнимая шляпу и протягивая другую мальчику. – Черт возьми! Серебряная монета! Неужели во Франции еще водятся такие деньги? Я-то думал, что все серебро увезли; теперь я понимаю, что это только слухи, которые распускают аристократы, как говорил Тетрель.
– Ладно, проваливай к своим лошадям и оставь нас в покое! – прикрикнула на него гражданка Тейч.
Коклес, ворча, вышел из комнаты.
Госпожа Тейч присела у очага и, подавив легкое сопротивление Шарля, посадила его к себе на колени.
Как уже было сказано, мальчику шел четырнадцатый год, но выглядел он всего лишь на десять-одиннадцать лет.
– Послушайте, дружочек, – сказала хозяйка, – то, что я вам сейчас скажу, послужит для вашего блага, чего я вам желаю; если у вас есть деньги, не следует их показывать, а нужно часть обменять на ассигнаты; поскольку у ассигнатов твердый курс и луидор стоит пятьсот франков, вы получите прибыль и в вас не заподозрят аристократа.
Затем ее мысли потекли по иному руслу.
– Надо же, у этого бедного малыша ручки совсем как ледышки!
Она взяла его руки в свои и поднесла их к огню, словно он был совсем маленьким.
– Ну а теперь, – сказала она, – перейдем к делу: сперва мы слегка поужинаем.
– О сударыня, нет, большое спасибо, мы пообедали в Эрстене, и я совсем не голоден. Я предпочел бы лечь спать: я чувствую, что окончательно согреюсь только в постели.
– Ну ладно, в таком случае вам сейчас согреют постель, да еще подадут чего-нибудь вкусненького; затем, когда вы уляжетесь, вам принесут чашечку… так чего – молока или бульона?
– Молока, если можно.
– Стало быть, молока! И правда, бедный малыш, вчера он еще сосал соску, а сегодня, глядите, бродит по дорогам совсем один, как мужчина. Ах, мы живем в невеселые времена!
Она приподняла Шарля и посадила его на стул, а сама пошла к полке, чтобы выбрать ключи к подходящей для него комнате.
– Так-так, – сказала она, – пятая, вот она… Нет, эта комната слишком велика, и окно там плохо закрывается: бедный ребенок озябнет. Девятая… Нет, это двухместный номер. А! Четырнадцатая… вот что ему подойдет: комнатка с удобной кроватью, занавески которой защитят его от сквозняка, и хорошеньким каминчиком, который не чадит, с младенцем Иисусом наверху – это принесет ему удачу. Гретхен! Гретхен!
На ее призыв прибежала красивая эльзаска лет двадцати, в прелестном наряде, несколько напоминавшем костюм женщин Арля.
– В чем дело, хозяйка? – спросила она по-немецки.
– А вот в чем: надо приготовить четырнадцатый номер для этого ангелочка и подобрать ему самые тонкие и сухие простыни, а я тем временем сделаю для него гогель-могель.
Гретхен взяла подсвечник, зажгла свечу и поспешила исполнить приказ хозяйки.
Гражданка Тейч вернулась к Шарлю.
– Понимаете ли вы по-немецки? – спросила она.
– Нет, сударыня, но, если я останусь в Страсбуре надолго, что весьма вероятно, надеюсь его выучить.
– Знаете ли вы, почему я поселила вас в четырнадцатом номере?
– Да, я слышал то, что вы говорили в своем монологе…
– Боже правый! В моем монологе! Что это значит?
– Сударыня, это французское слово, образованное из двух греческих слов: «монос», что переводится как «один», и «логос», что значит «говорить».
– Милое дитя, в ваши годы вы уже знаете греческий! – всплеснула руками г-жа Тейч.
– О! Совсем немного, сударыня, и для того, чтобы лучше изучить его, я и приехал в Страсбур.
– Вы приехали в Страсбур, чтобы учиться греческому?
– Да, у господина Евлогия Шнейдера. Госпожа Тейч покачала головой.
– О сударыня, он владеет греческим языком, как Демосфен, – промолвил Шарль, решив, что г-жа Тейч усомнилась в учености его будущего преподавателя.
– Я не возражаю, а хочу сказать: как бы хорошо он его ни знал, у него не будет времени вас учить.
– Чем же он занимается?
– Вы меня спрашиваете об этом?
– Конечно, я вас об этом спрашиваю. Госпожа Тейч понизила голос.
– Он рубит головы, – прошептала она. Шарль вздрогнул.
– Он… рубит… головы? – переспросил он.
– Разве вы не знаете, что он общественный обвинитель? Ах, бедное дитя, ваш отец избрал для вас странного учителя греческого языка!
Мальчик ненадолго задумался.
– Это он приказал сегодня отрубить голову мамаше Резен?
– Нет, это «Пропаганда».
– Что такое «Пропаганда»?
– Это общество, распространяющее революционные идеи. Каждый рубит со своей позиции: гражданин Шнейдер как общественный обвинитель, гражданин Сен-Жюст как народный представитель и гражданин Тетрель как глава «Пропаганды».
– На всех этих людей не хватит одной гильотины, – заметил мальчик с не по возрасту значительной улыбкой.
– Поэтому у каждого из них – собственная гильотина!
– Мой отец наверняка об этом не знал, – пробормотал мальчик, – когда посылал меня сюда.
Поразмыслив какое-то время, он заявил с решимостью, которая свидетельствовала о недетской отваге.
– Что ж, раз я уже здесь, то я остаюсь. Затем, сменив тему, он продолжал:
– Вы говорили, госпожа Тейч, что дали мне комнату номер четырнадцать, потому что она невелика, кровать там с занавесками и камин не чадит?
– И еще по одной причине, милый мальчик.
– По какой же?
– В пятнадцатом номере вы найдете славного молодого товарища, чуть-чуть постарше вас; это не страшно, вы его развеселите.
– Значит, он грустит?
– Да, ужасно грустит; ему едва исполнилось пятнадцать, а это уже маленький мужчина. В самом деле, он здесь в связи с неприятным делом: его отец, который был главнокомандующим Рейнской армии до гражданина Пишегрю, обвиняется в измене. Представляете, этот несчастный и милейший человек жил здесь! Я готова побиться об заклад на что угодно, что он виноват не больше нас с вами, но он из «бывших», а вы знаете, что им не доверяют. Так вот, я говорила, что молодой человек находится здесь, чтобы снять копию с документов, которые должны подтвердить, что его отец невиновен. Знаете ли, этот мальчик – святой, он корпит над бумагами с утра до вечера.
– Ну что ж, я ему помогу, – сказал Шарль, – у меня хороший почерк.
– В добрый час! Вот что значит настоящий товарищ! И г-жа Тейч восторженно расцеловала своего гостя.
– Как его зовут? – спросил Шарль.
– Его зовут гражданин Эжен.
– Эжен – это только имя.
– Да, разумеется, у него есть фамилия, такая чудная фамилия… Постойте! Его отец был маркизом… постойте-ка…
– Я стою, госпожа Тейч, стою, – со смехом промолвил мальчик.
– Это просто оборот речи, вы же знаете, что так говорят… Его фамилия похожа на штуковину, которую кладут на спину лошади… на конскую сбрую… ну да, Богарне, Эжен де Богарне, но сдается мне, что из-за этого «де» его зовут просто Эжен.
Этот разговор оживил в памяти юноши наставления Тетреля.
– Кстати, госпожа Тейч, – промолвил он, – не у вас ли остановились двое уполномоченных коммуны Безансона?
– Ну да, они приехали требовать освобождения вашего земляка – господина генерал-адъютанта Перрена.
– Выдадут ли его им?
– Ба! Он поступил мудро, не дожидаясь решения Сен-Жюста.
– Что же он сделал?
– Он сбежал в минувшую ночь.
– И его не поймали?
– Пока нет.
– Я очень рад: это друг моего отца, и я тоже его очень любил.
– Только не хвастайтесь этим здесь.
– А мои земляки?
– Господа Дюмон и Баллю?
– Да. Почему они еще здесь, ведь тот, за которого они приехали хлопотать, уже не в тюрьме?
– Его будут судить заочно, и они собираются защищать его так же, как если бы он был здесь.
– Ясно, – прошептал мальчик, – теперь я понимаю совет гражданина Тетреля.
Затем он спросил вслух:
– Могу ли я повидать их вечером?
– Кого?
– Граждан Дюмона и Баллю.
– Конечно вы можете их повидать, если изволите подождать, но знайте: когда они отправляются в клуб «Права человека», то не возвращаются раньше двух часов ночи.
– Я не смогу их дождаться, так как слишком устал, – сказал мальчик.
– Вы могли бы передать им мою записку, когда они вернутся, не так ли?
– Разумеется.
– Только им, прямо в руки?
– Только им, прямо в руки.
– Где можно писать?
– В кабинете, если вы согрелись.
– Да, мне уже не холодно.
Госпожа Тейч взяла со стола лампу и перенесла ее на письменный стол, стоявший в небольшом кабинете, отгороженном проволочной решеткой, наподобие птичьей клетки.
Молодой человек последовал за ней. Здесь он и написал на бумаге с эмблемой гостиницы «У фонаря» следующее послание:
«Земляк, которому доподлинно известно, что вы будете незамедлительно арестованы, призывает вас как можно скорее вернуться в Безансон».
Сложив и запечатав письмо, он вручил его г-же Тейч.
– Вот как, вы не ставите свою подпись? – спросила хозяйка.
– Это не имеет значения; вы им сами скажете, что записка от меня.
– Непременно.
– Если завтра утром они еще будут здесь, задержите их, пока я с ними не поговорю.
– Будьте покойны.
– Вот и я! Все сделано, – сказала Гретхен, входя в комнату и стуча своими сабо.
– Постель готова? – спросила г-жа Тейч.
– Да, хозяйка, – ответила Гретхен.
– Камин растоплен?
– Да.
– Теперь положите угли в грелку и проводите гражданина Шарля в его комнату. А я пойду приготовлю ему гогель-могель.
Гражданин Шарль настолько устал, что без возражений последовал за мадемуазель Гретхен, которая несла грелку.
Десять минут спустя, когда мальчик уже лежал в постели, г-жа Тейч зашла к нему с гоголем-моголем, накормила им сонного Шарля, похлопала его по щекам, по-матерински укутала одеялом, пожелала доброго сна и удалилась, унося с собой свечу.
Однако пожелания славной г-жи Тейч исполнились лишь наполовину, ибо в шесть часов утра все постояльцы гостиницы «У фонаря» были разбужены шумом голосов и бряцанием оружия: солдаты стучали прикладами своих ружей, с размаха ударяя о пол, в коридорах слышались поспешные шаги и с грохотом открывались двери.
Шарль проснулся, приподнялся и сел на кровати.
В тот же миг его комната разом наполнилась светом и шумом. Полицейские и сопровождавшие их жандармы ворвались в номер, грубо вытащили мальчика из постели и стали его допрашивать. Они спросили его имя и фамилию, с какой целью он прибыл в Страсбур и давно ли значится в городе, заглянули под кровать, обшарили камин, открыли шкафы и удалились столь же быстро, как и вошли, а ошеломленный мальчик застыл в ночной рубашке посреди комнаты.
Очевидно, у гражданки Тейч проводили один из столь частых в ту пору обысков и вызван он был отнюдь не появлением нового гостя.
Мальчик решил, что лучше всего снова лечь в кровать, предварительно закрыв дверь, и уснуть, если получится.
Приняв и осуществив это решение, он едва успел натянуть на себя одеяло, как шум в доме стих, но тут дверь в его комнату снова распахнулась и на пороге показалась г-жа Тейч в кокетливом пеньюаре и с подсвечником в руке.
Она ступала очень тихо, открыла дверь бесшумно и приложила палец к губам, показывая Шарлю, который шум ленно глядел на нее, приподнявшись на локте, что он должен молчать.
Мальчик, уже успевший свыкнуться с этой беспокойной жизнью, что началась для него всего лишь накануне, молчал, повинуясь обращенному к нему жесту.
Гражданка Тейч тщательно заперла за собой дверь, поставила подсвечник на камин, взяла стул и осторожно присела к изголовью кровати, на которой лежал мальчик.
– Ну, дружок, – спросила она, – вы сильно перепугались, не так ли?
– Не так уж сильно, – возразил Шарль, – ведь я понял, что эти люди охотятся не за мной.
– Все равно: вы вовремя предупредили своих земляков.
– Ах! Значит, это искали их?
– Именно их. К счастью, они вернулись в два часа ночи, и я вручила им вашу записку; они перечитали ее дважды и спросили, кто мне ее передал. Я сказала все про вас; после этого они недолго посовещались и сказали: «Пошли! Пошли! Надо уходить!» – и тут же принялись укладывать вещи, послав Соню узнать, остались ли места в дилижансе, Который отправляется в пять утра в Безансон; хорошо, что оказалось как раз два свободных места. Соня их заказал, но, чтобы эти места не заняли, пришлось уйти отсюда в четыре часа; стало быть, когда именем закона приказали открыть дверь, ваши земляки уже с час как были на пути в Безансон. Но, вообразите, в спешке они забыли или выронили записку, которую вы им написали, и люди из полиции ее нашли.
– О! Не беда, под запиской нет моей подписи, и никто в Страсбург не знает моего почерка
– Да, но она была написана на бумаге гостиницы «У фонаря», поэтому они набросились на меня и потребовали сказать, кто написал послание на моей бумаге.
– Ах! Черт возьми!
– Вы, конечно, понимаете, что я скорее дала бы им вырвать свое сердце, чем выдала бы вас. Бедный голубчик! Ведь они бы вас забрали. Я ответила, что, когда постояльцы просят бумагу, ее приносят им в номер. В доме более Шестидесяти постояльцев, и, следовательно, я не могу уследить за всеми, кто пишет на моей бумаге. Тогда они сказали, что арестуют меня; я ответила. что готова следовать за ними, но это им ничего не даст, потому что гражданин Сен-Жюст поручил им доставить в тюрьму вовсе не меня. Они признали, что мой довод справедлив, и ушли со словами: «Ладно, ладно, днем раньше, днем позже!..» Я сказала им: «Ищите!» – и вот теперь они ищут! Я пришла, чтобы предупредить вас: если вам предъявят обвинение, не говорите ни слова, начисто отрицайте, что писали записку.







