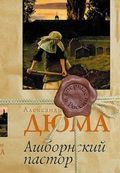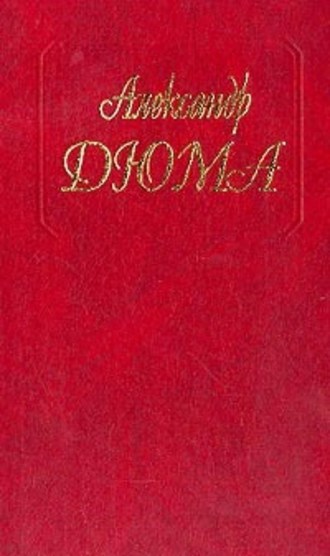
Александр Дюма
Белые и синие
XVI. ОТСТУПЛЕНИЕ
Армия начала отступление вечером, чтобы скрыть свое движение от неприятеля и избежать дневной жары.
Был дан приказ следовать по берегу Средиземного моря, наслаждаясь морской прохладой.
Перед отъездом Бонапарт вызвал к себе Бурьенна и продиктовал ему приказ, предписывавший всем солдатам идти пешком, поскольку лошади, мулы и верблюды предназначались для больных и раненых.
Анекдот дает порой более полное представление о душевном настрое человека, чем самые пространные описания.
Когда Бонапарт продиктовал приказ Бурьенну, старший конюх, которого звали папаша Вигонь, вошел к генералу в палатку и, приложив руку к шляпе, спросил:
– Генерал, какую лошадь вы оставляете для себя? Бонапарт косо посмотрел на конюха и, ударив его хлыстом по лицу, вскричал:
– Разве ты не слышал приказа, дурак? Все идут пешком, и я тоже, как все. Вон!
Вигонь ушел.
В армии было трое больных чумой, слишком слабых, чтобы можно было думать об их транспортировке. Их оставили у горы Кармель на милость турок, под присмотром монахов-кармелитов.
К несчастью, там не оказалось Сиднея Смита, чтобы спасти французов. Турки их зарезали. Это известие дошло до Бонапарта, когда он находился в двух льё от горы Кармель.
И тут Бонапарт пришел в неистовую ярость, которую лишь предвещал удар хлыста, полученный папашей Вигонем. Последовало распоряжение остановить артиллерийские повозки и раздать солдатам факелы.
Им было приказано поджигать небольшие города, селения, деревушки, дома.
Ячмень уже колосился вовсю.
Его тоже подожгли.
То было жуткое и величественное зрелище. Весь берег на протяжении десяти льё был объят пламенем, и море, словно гигантское зеркало, отражало этот необъятный пожар.
Людям казалось, что они движутся между двумя стенами огня, настолько точно море отражало картину на берегу. Лишь покрытое песком взморье, уцелевшее от огня, казалось мостом, переброшенным через Коцит.
Берег представлял собой прискорбное зрелище.
Немногих, наиболее тяжело раненных, поместили на носилки, другие ехали на мулах, лошадях и верблюдах. Волею случая Фаро, раненному накануне, достался конь, на котором обычно ездил Бонапарт. Главнокомандующий узнал и своего скакуна и всадника.
– А! Вот как ты отбываешь сутки ареста! – вскричал он.
– Я отсижу их в Каире, – отвечал Фаро.
– Нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Богиня Разума? – спросил Бонапарт.
– Стакан водки, гражданин генерал. Он покачал головой.
– Ладно, я знаю, что вам надо, – произнесла она. Порывшись в глубине своей тележки, она сказала:
– Держите!
С этими словами женщина протянула ему арбуз, привезенный с горы Кармель. Это был королевский подарок.
Бонапарт остановился и послал за Клебером, Боном и Виалом, чтобы поделиться с ними своей удачей. Раненный в голову Ланн ехал на муле. Бонапарт остановил его, и пятеро генералов пообедали, осушив целый сосуд и выпив за здоровье Богини Разума.
Вновь заняв место во главе колонны, Бонапарт ужаснулся.
Невыносимая жара, полное отсутствие воды, утомительный поход среди объятых пламенем дюн подорвали моральный дух солдат, и на смену благородным чувствам пришли жесточайший эгоизм и удручающее безразличие.
Это произошло внезапно, без всякого перехода.
Сначала стали избавляться от больных чумой под предлогом того, что их опасно везти.
Затем настал черед раненых.
Несчастные кричали:
– Я не чумной, я только раненый!
Они показывали свои старые раны или наносили себе новые.
Солдаты даже не оборачивались.
– Твоя песенка спета, – говорили они и уходили. Увидев это, Бонапарт содрогнулся.
Он загородил дорогу и заставил всех здоровых солдат, которые уселись на лошадей, верблюдов либо мулов, уступить верховых животных больным.
Двадцатого мая армия прибыла в Тантуру. Стояла удушающая жара. Солдаты тщетно искали какой-нибудь кустик, дающий тень, чтобы укрыться от огнедышащего неба. Они ложились на песок, но песок обжигал. Поминутно кто-нибудь валился с ног и больше не вставал.
Раненый, которого несли на носилках, просил воды. Бонапарт подошел к нему.
– Кого вы несете? – спросил он у солдат.
– Мы не знаем, гражданин генерал. У него двойные эполеты, вот и все. Человек перестал стонать и не просил больше пить.
– Кто вы? – спросил Бонапарт. Раненый хранил молчание.
Бонапарт приподнял край полотна, прикрывавшего носилки, и узнал Круазье.
– Ах! Бедное дитя! – воскликнул он. Круазье зарыдал.
– Ну-ну, – произнес Бонапарт, – не падай духом.
– Ах! – воскликнул Круазье, приподнявшись на носилках, – вы думаете, я плачу из-за того, что скоро умру? Я плачу, потому что вы назвали меня трусом, и я решил погибнуть потому, что вы назвали меня трусом.
– Но ведь потом, – сказал Бонапарт, – я послал тебе саблю. Разве Ролан не передал ее тебе?
– Вот она, – вскричал Круазье, хватаясь за оружие, которое лежало подле него и поднося его к губам. – Я хочу, чтобы ее зарыли в землю вместе со мной, и те, кто меня несет, знают о моем желании. Прикажите им это, генерал.
Раненый умоляюще сложил руки.
Бонапарт опустил край полотна, закрывавшего носилки, отдал приказ и удалился.
На следующий день, покидая Тантуру, армия оказалась перед морем зыбучего песка. Другого пути не было; артиллерия была вынуждена вступить на эту дорогу, и пушки увязли. Раненых и больных немедленно опустили на песок и запрягли всех лошадей в лафеты и повозки. Все было тщетно: зарядные ящики и пушки увязли в песке по самые ступицы. Здоровые солдаты попросили, чтобы им разрешили сделать последнее усилие. Они попытались сдвинуть артиллерию с места, но, как и лошади, напрасно потратили силы.
Французы со слезами на глазах оставили эту прославленную бронзу, которая была свидетельницей их побед и отзвуки залпов которой заставляли содрогаться Европу.
Двадцать второго мая они остановились на ночлег в Кесарии.
Множество раненых и больных скончалось, и свободные лошади уже не были столь редкими. Бонапарт плохо себя чувствовал: накануне он едва не умер от усталости. Все принялись его упрашивать, и он согласился вновь сесть в седло. Едва лишь они на рассвете отъехали на триста шагов от Кесарии, как какой-то человек, прятавшийся в кустах, выстрелил в него из ружья почти в упор и промахнулся.
Солдаты, окружавшие главнокомандующего, бросились в лес, прочесали его и схватили жителя Наблуса, которого приговорили к немедленному расстрелу.
Четверо сопровождающих отвели его к морю, подталкивая стволами своих карабинов; затем они нажали на спусковые крючки, но ни один из карабинов не выстрелил.
Ночь была очень влажной, и порох отсырел.
Сириец, изумленный тем, что он все еще держится на ногах, тотчас воспрянул духом, бросился в море и очень быстро добрался до довольно отдаленного рифа.
Оцепеневшие солдаты смотрели, как беглец удаляется, и даже не думали стрелять. Но Бонапарт, понимавший, сколь пагубное воздействие произведет на здешних суеверных жителей этот факт, если подобное покушение останется безнаказанным, приказал одному из взводов открыть огонь по беглецу.
Взвод повиновался, но человек был вне досягаемости выстрелов: пули падали в море, не долетая до скалы.
Наблусец вытащил из ножен висевший на груди канджар и угрожающе взмахнул им.
Бонапарт приказал вставить в ружья полуторный заряд и возобновить стрельбу.
– Бесполезно, – сказал Ролан, – я отправлюсь к нему. Сказав это, молодой человек скинул свою одежду.
– Останься, Ролан, – произнес Бонапарт. – Я не хочу, чтобы ты рисковал жизнью из-за какого-то убийцы.
Но Ролан, то ли не расслышав его слов, то ли не желая их слышать, уже взял канджар у шейха Ахера, отступавшего вместе с армией, и бросился в море с канджаром в зубах.
Все солдаты знали, что молодой капитан – самый отважный офицер армии, встали в круг и закричали «Браво!».
Бонапарту поневоле пришлось стать свидетелем близившегося поединка. Когда сириец увидел, что к нему направляется только один человек, он стал ждать, не пытаясь бежать. Человек, застывший со сжатыми кулаками, в одном из которых находился кинжал, был поистине прекрасен; он возвышался на утесе, словно статуя Спартака на пьедестале.
Ролан приближался к нему по прямой, как стрела, траектории.
Наблусец не пытался его атаковать, пока тот не вышел из воды и даже не без некоторого благородства отступил назад, насколько это позволяла длина утеса.
Ролан вышел из воды, юный, прекрасный и сверкающий, как морской бог. Противники оказались лицом друг к другу. Площадка, выступавшая над поверхностью моря, на которой они собирались биться, казалась панцирем гигантской черепахи.
Зрители ожидали увидеть схватку, в которой каждый из соперников, приняв меры предосторожности, явит им зрелище искусной и затяжной борьбы.
Однако этого не произошло.
Едва Ролан ступил на твердую почву и стряхнул воду, смекавшую с волос и застилавшую ему глаза, как он, не думая заслоняться от кинжала противника, кинулся на него не так, как один человек бросается на другого, а как ягуар бросается на охотника.
Все увидели, как засверкали лезвия канджаров; оба соперника, низвергнутые со своего пьедестала, упали в море.
Вода забурлила.
Затем появилась одна голова – белокурая голова Ролана
Он уцепился рукой за выступ скалы, затем поставил на него колено и наконец встал в полный рост, держа в левой руке за длинную прядь волос голову наблусца.
Можно было подумать, что это Персей, только что отрубивший голову горгоны.
Нескончаемое «Ура!», вырвавшееся из груди всех зрителей, донеслось до Ролана, и на губах его появилась гордая улыбка.
Снова зажав в зубах кинжал, он бросился в воду и поплыл к берегу.
Армия остановилась. Здоровые не думали больше о жаре К жажде.
Раненые позабыли о своих ранах. Даже умирающие собрали остатки сил, чтобы приподняться на локте.
Ролан подплыл к берегу в десяти шагах от Бонапарта.
– Возьми, – сказал он, бросая к его ногам свой кровавый трофей, – вот голова убийцы.
Бонапарт невольно отпрянул; что касается Ролана, то он был спокоен, как будто вышел из моря после очередного купания. Он направился к своим вещам и оделся, столь старательно избегая взглядов, что его стыдливости позавидовала бы женщина.
XVII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ ВИДИМ, ЧТО ПРЕДЧУВСТВИЯ НЕ ОБМАНУЛИ БОНАПАРТА
Двадцать четвертого французы вступили в Яффу.
Они пробыли там двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого.
Поистине, Яффа была для Бонапарта злополучным городом!
Читатель помнит о четырех тысячах солдат, взятых в плен Эженом и Круазье, которых не могли прокормить, охранять или отослать в Каир, но могли расстрелять и в конце концов расстреляли.
Вернувшись в Яффу, Бонапарт оказался перед лицом более серьезной и мучительной неизбежности.
В городе находился госпиталь для больных чумой.
В нашем Музее хранится великолепная картина Гро, на которой изображен Бонапарт, дотрагивающийся до больных чумой в Яффе.
Эта картина, изображающая недостоверный факт, не становится от этого менее прекрасной.
Вот что говорит об этом г-н Тьер. Будучи скромным романистом, мы испытываем сожаление по поводу того, что снова вступаем в противоречие с этим гигантом исторической науки.
Итак, автор «Революции», «Консульства и Империи» рассказывает:
«Прибыв в Яффу, Бонапарт приказал взорвать ее укрепления. В городе находился госпиталь, где лежали наши больные чумой. Увезти их с собой было невозможно; оставить их означало обречь этих людей на неминуемую смерть либо от болезни, либо от голода, либо от жестокости неприятеля. Поэтому Бонапарт сказал врачу Деженетту, что было бы гораздо более человечным дать им опиума, чем оставлять их в живых; в ответ врач произнес следующие, весьма похвальные слова: „Мое дело – их лечить, а не убивать“. Больным не дали опиума, но из-за этого случая стала распространяться бесчестная, ныне опровергнутая клевета».
Я покорно прошу прощения у г-на Тьера, но этот ответ Деженетта, который мне хорошо известен, как и Ларрею, как всем участникам Египетской экспедиции, наконец, соратникам моего отца по этому великому походу, – этот ответ Деженетта столь же недостоверен, как и ответ Камбронна.
Упаси меня Бог от клеветы – это слово употребляет г-н Тьер, человек, одаривший первую половину XIX века светочем своей славы, – и, когда речь зайдет о Пишегрю и герцоге Энгиенском, читатель поймет, повторяю ли я постыдные слухи; но истина всегда одна, и долг всякого человека, который беседует с массами, произнести ее вслух.
Мы сказали, что картина Гро изображает недостоверный факт, докажем это. Вот рапорт Даву, написанный в присутствии главнокомандующего и по его приказу; он фигурирует в сводке его официальных донесений.
«Армия прибыла в Яффу пятого прериаля (24 мая). Она оставалась там шестого, седьмого и восьмого (25, 26 и 27 мая). За это время мы воздали непокорным селениям по заслугам. Мы взорвали укрепления Яффы, бросили в море всю крепостную артиллерию. Раненых эвакуировали по морю и по суше. Кораблей было очень мало, и, чтобы успеть закончить эвакуацию по суше, пришлось отложить выступление армии до девятого (28мая).
Дивизия Клебера образует арьергард и покидает Яффу Лишь десятого (29 мая)».
Как видит читатель, здесь нет ни слова о больных чумой, о посещении госпиталя и тем более о каких-либо прикосновениях к больным чумой.
Ни в одном из официальных рапортов об этом нет и речи. – Бонапарт, чей взор переместился с Востока в сторону Франции, проявил бы неуместную скромность, если бы умолчал о столь знаменательном факте, который, вероятно, составил бы честь не разуму его, а отваге.
Впрочем, вот что рассказывает по этому поводу Бурьенн, очевидец и весьма впечатлительный участник события:
«Бонапарт отправился в госпиталь. Там лежали люди после ампутации, раненые, множество жалобно стонавших солдат с воспалением глаз и больные чумой. Кровати больных чумой стояли справа от входа в первую палату. Я шел рядом с генералом. Утверждаю: я не видел, чтобы он прикасался к кому-либо из больных чумой. С какой стати ему было их трогать? Они находились в последней стадии болезни; никто из них не говорил ни слова. Бонапарт прекрасно знал, что не застрахован от заражения. Стоит ли ссылаться на его удачу? В самом деле, фортуна настолько мало помогала ему в последние месяцы, что он вряд ли стал бы полагаться на ее благосклонность.
Я спрашиваю: стал ли бы он подвергать себя риску неминуемой смерти, зная, что оставляет свою армию посреди пустыни, в которую мы превратили этот край, в разрушенном городе, без поддержки и всякой надежды получить ее, – он, столь необходимый своей армии, и это невозможно отрицать; он, на ком, несомненно, в этот час лежала ответственность за жизнь всех тех, кто пережил последний разгром и доказал ему преданностью, страданиями и лишениями свое непоколебимое мужество, тех, кто делал все, что он от них мягко требовал, и верили только в него ?»
Это не только логично, но и убедительно.
Бонапарт быстро обошел все палаты, слегка постукивая хлыстом, который он держал в руке, по желтым отворотам своих сапог. Он шел быстрым шагом, твердя следующие слова: «Укрепления разрушены; в Сен-Жан-д'Акре судьба была против меня. Мне следует вернуться в Египет, чтобы защитить его от приближающихся врагов. Через несколько часов турки будут здесь; пусть все те, кто чувствует в себе силы подняться, следуют за нами: их понесут на носилках и повезут на лошадях».
Далее автор воспоминаний продолжает:
«У нас было от силы шестьдесят больных чумой, и всякое число, превосходящее это количество, преувеличено; их непрерывное молчание, полный упадок сил и общая вялость предвещали скорый конец; везти их в таком состоянии явно означало бы заразить чумой всю армию. Люди хотят беспрестанных завоеваний, славы, блестящих подвигов, но нельзя сбрасывать со счетов неудачи. Тот, кто считает себя вправе упрекать за какой-либо поступок вождя, кого превратности судьбы и злополучные обстоятельства подталкивают к роковому краю пропасти, должен, прежде чем выносить приговор, войти в положение данного конкретного человека и спросить себя положа руку на сердце: не поступил бы он сам так же на его месте? Следует пожалеть того, кто вынужден совершить деяние, что всегда выглядит жестоким со стороны, но следует и простить его, ибо победу, скажем прямо, можно завоевать лишь подобными средствами».
Впрочем, предоставим слово человеку, который больше всего заинтересован в том, чтобы говорить правду. Послушайте!
«Он приказал рассмотреть наилучший выход из положения. Ему доложили, что семь-восемь человек особенно тяжела больны и им не прожить более суток; кроме того, пораженные чумой люди распространят эту болезнь среди солдат, которые будут с ними общаться. Некоторые настойчиво молили о смерти. Мы решили, что было бы гуманно ускорить их кончину на несколько часов».
Вы еще сомневаетесь? Наполеон сейчас выскажется от первого лица:
«Кто из людей не предпочел бы быструю смерть жуткой перспективе остаться в живых и подвергнуться пыткам этих варваров! Если бы мой сын – я все же полагаю, что люблю его так сильно, как можно любить собственных детей, – находился в таком же состоянии, как эти несчастные, то, по моему мнению, с ним следовало поступить так же, и если бы такая участь постигла меня самого, я потребовал бы, чтобы со мной поступили так же».
Мне кажется, что эти несколько строк вносят полную ясность. Почему г-н Тьер не прочел их или, если он их прочел, почему он опровергнул факт, признанный человеком, в чьих интересах было это отрицать? Поэтому мы восстанавливаем истину не ради того, чтобы предъявить обвинение Бонапарту, который не мог поступить иначе, чем он поступил, а чтобы показать приверженцам чистой истории, что она не всегда является подлинной историей.
Маленькая армия возвращалась в Каир той же дорогой, по которой уходила из него. Жара возрастала с каждым днем. Когда французы покидали Газу, было тридцать пять градусов, а когда проверили температуру песка ртутью, она достигала сорока пяти градусов.
Перед прибытием в Эль-Ариш Бонапарт увидел среди пустыни, как двое солдат засыпают какую-то яму.
Ему показалось, что это те самые люди, с которыми он беседовал двумя неделями раньше.
В самом деле, солдаты сказали в ответ на его вопрос, что хоронят Круазье.
Бедный юноша только что умер от столбняка.
– Вы положили его саблю вместе с ним? – спросил Бонапарт.
– Да, – ответили оба в один голос.
– Точно? – настаивал Бонапарт.
Один из солдат спрыгнул в могилу, разрыл зыбучий песок рукой и вытащил на поверхность эфес оружия.
– Хорошо, – сказал Бонапарт, – заканчивайте.
Он стоял рядом до тех пор, пока яма не была засыпана; затем, опасаясь, что кто-нибудь осквернит могилу, он произнес:
– Нужен доброволец, который будет стоять здесь на часах, до тех пор пока не пройдет вся армия.
– Я здесь, – откликнулся голос, точно исходивший с неба.
Бонапарт обернулся и увидел старшего сержанта Фалу, сидевшего на верблюде.
– А, это ты! – воскликнул он.
– Да, гражданин генерал.
– Каким образом ты оказался на верблюде, когда другие идут пешком?
– Потому что двое чумных умерли на спине моего верблюда, и никто больше не желает на него садиться.
– А ты, как видно, не боишься чумы?
– Я ничего не боюсь, гражданин генерал.
– Ладно, – сказал Бонапарт, – мы это запомним; ступай к твоему приятелю Фаро, и приходите ко мне оба в Каире.
– Мы придем, гражданин генерал.
Бонапарт бросил последний взгляд на могилу Круазье.
– Спи спокойно, бедный Круазье! – промолвил он, – твою скромную могилу нечасто будут тревожить.
XVIII. АБУКИР
Четырнадцатого июня 1799 года, после отступления по раскаленным пескам пустыням Сирии, которое оказалось столь же гибельным для армии, каким окажется отступление из Москвы по снегам Березины, Бонапарт вернулся в Каир, где его встретила бесчисленная толпа.
Ожидавший его шейх подарил ему великолепного коня и мамлюка Рустана в придачу.
Бонапарт указывал в своем бюллетене, написанном в Сен-Жан-д'Акре, что он возвращается для того, чтобы не допустить высадки турецкой армии, сосредоточенной на острове Родос.
Он был хорошо осведомлен в этом отношении, и одиннадцатого июля береговые наблюдатели в Александрии заметили в открытом море семьдесят шесть кораблей; из них – двенадцать военных кораблей под оттоманским флагом.
Комендант Александрии генерал Мармон посылал гонца за гонцом в Каир и Розетту; он приказал коменданту Рахмании прислать ему все войска, что были в его распоряжении, и отправил двести солдат в форт Абукира для подкрепления.
В тот же день комендант Абукира, батальонный командир Годар, в свою очередь, писал Мармону:
«Турецкий флот стоит на якоре на рейде; мы с моими солдатами погибнем все как один, но не сдадимся».
Двенадцатого и тринадцатого неприятель ожидал прибытия задержавшихся войск.
Тринадцатого вечером на рейде насчитывалось сто тридцать кораблей, из них тринадцать семидесятичетырехпушечных, девять фрегатов и семнадцать канонерских лодок. Остальную часть флота составляли транспортные суда.
На следующий день вечером Годар сдержал слово: он и его солдаты были убиты, а редут взят.
Осталось лишь тридцать пять человек, засевших в форте. Ими командовал полковник Винаш.
Он продержался два дня, сражаясь с целой турецкой армией.
Бонапарт получил эти известия, когда еще находился у пирамид.
Он отправился в Рахманию и прибыл туда девятнадцатого июля.
Турки, овладевшие редутом и фортом, выгрузили на берег свою артиллерию; Мармон мог выставить против турок лишь тысячу восемьсот пехотинцев и двести моряков, составлявших морской легион, и он посылал Бонапарту из Александрии гонца за гонцом.
К счастью, вместо того чтобы двинуться на Александрию, как опасался Мармон, или на Розетту, как опасался Бонапарт, турки, с присущей им беспечностью, ограничились тем, что заняли полуостров и проложили слева от редута длинный ряд окопов, прилегавших к озеру Мадия.
Впереди редута, на расстоянии около девятисот туазов, находилось два укрепленных холма, на одном из которых они разместили тысячу солдат, а на другом – две тысячи.
Их общее количество составляло восемнадцать тысяч человек.
Однако эти восемнадцать тысяч, по-видимому, явились из Египта не только для того, чтобы выдерживать осаду.
Бонапарт поджидал пашу Мустафу, но, видя, что тот не предпринимает никаких действий, принял решение атаковать его.
Двадцать третьего июля он приказал французской армии, находившейся всего лишь в двух часах пешего хода от турецкого войска, перейти в наступление.
Авангард, состоявший из кавалерии Мюрата и трех батальонов генерала Дестена, вооруженный двумя пушками, построился в центре.
Дивизия генерала Рампона, под началом которого были генералы Фюжьер и Ланюсс, двигалась слева.
Дивизия генерала Ланна следовала справа вдоль озера Мадия.
Даву, находившийся с двумя кавалерийскими эскадронами и сотней верблюдов между Александрией и армией, должен был противостоять Мурад-бею либо другому противнику, который явился бы на подмогу туркам, и поддерживать связь между Александрией и армией.
Клебер, которого ждали, должен был оставаться в резерве.
Наконец, Мену, направившийся в Розетту, находился на рассвете того же дня на краю банки в устье Нила, возле переправы через озеро Мадия.
Французская армия оказалась возле укреплений прежде, чем турки узнали о ее приближении. Бонапарт приказал образовать ударные колонны. Возглавивший их генерал Дестен направился прямо к укрепленному холму, в то время как двести кавалеристов Мюрата отделились от войска, расположились между двумя холмами и, описав кривую, отрезали туркам, которых атаковал генерал Дестен, путь к отступлению.
Между тем Ланн наступал на левый холм, что защищали две тысячи турок; Мюрат же приказал двумстам другим кавалеристам стать позади этого холма.
Дестен и Ланн ведут штыковую атаку почти одновременно и с равным успехом; два холма взяты с бою; отступающие турки сталкиваются с нашей конницей и бросаются в море в правой и левой частях полуострова.
И тут Дестен, Ланн и Мюрат устремляются к селению, расположенному в центре полуострова, и атакуют его с фронта.
Одна из вражеских колонн отделяется от стана в Абукире и спешит на поддержку селению.
Мюрат достает свою саблю, что он неизменно делал лишь в критические моменты, увлекает за собой конницу, стремительно нападает на колонну и отбрасывает ее обратно в Абукир.
Тем временем Ланн и Дестен овладевают селением; турки разбегаются в разные стороны и сталкиваются с кавалерией Мюрата, наступающей на них.
Четыре-пять тысяч трупов уже устилают поле битвы.
У французов только один раненый: мулат, земляк моего отца, командир эскадрона гидов Геркулес.
Французы оказались напротив большого редута, защищавшего фронт турецкой армии.
Бонапарт мог загнать турок в Абукир и в ожидании дивизий Клебера и Ренье забросать их бомбами и гранатами, но он предпочел взять их в кольцо и разгромить.
Он приказал атаковать второй рубеж.
Ланну и Дестену при поддержке Ланюсса по-прежнему предстояло сыграть главную роль в сражении, и они станут героями дня.
Редут, прикрывающий Абукир, – дело рук англичан и, следовательно, выполнен по всем правилам науки.
Его защищают от девяти до десяти тысяч турок; узкий проход соединяет его с морем. Турки не успели до конца прорыть другой проход, и, таким образом, редут не соединен с озером Мадия.
Пространство длиной приблизительно в триста шагов остается открытым, но оно занято неприятелем и обстреливается канонерскими лодками.
Бонапарт приказывает атаковать противника с фронта и справа.
Мюрат, затаившийся в пальмовой роще, должен пойти в наступление слева и пересечь открытое пространство под огнем канонерских лодок, гоня неприятеля перед собой.
Увидев эти приготовления, турки выводят четыре отряда, приблизительно по две тысячи солдат каждый, и устремляются нам навстречу.
Бой обещал быть жестоким, ибо турки понимали, что заперты на полуострове: позади них было море и впереди – железная стена наших штыков.
Сильная канонада, направленная на редут и укрепления справа, свидетельствует о новой атаке; тогда генерал Бонапарт бросает вперед часть генерала Фюжьера. Его воины должны пробежать вдоль берега, чтобы овладеть правым флангом турок; тридцать вторая полубригада, что занимает левую часть только что захваченной деревни, будет отражать удары противника, поддерживая восемнадцатую полубригаду.
И вот турки выходят из окопов и бросаются нам навстречу.
Французы закричали от радости: именно это им было нужно. Они ринулись на неприятеля со штыками наперевес.
Турки дали залп из ружей, затем – два залпа из пистолетов и наконец вытащили свои сабли.
Наших солдат это не остановило – они настигли их, атакуя в штыки.
И тут только турки поняли, с какими воинами и с каким оружием они столкнулись.
Убрав ружья за спину, повесив сабли за темляки, они сошлись с французами в рукопашной; турки пытались оторвать у ружей противника грозные штыки, которые пронзали им грудь, едва они протягивали руки к оружию.
Но ничто не могло остановить восемнадцатую полубригаду: она продолжала двигаться в том же темпе, гоня турок перед собой к окопам, которые попыталась захватить с бою; но солдаты были отброшены шквалом навесного косоприцельного огня. Генерал Фюжьер, возглавлявший атаку, сначала получил пулю в голову; рана была легкой, и он продолжал идти, подбадривая своих солдат; но, когда ему оторвало руку ядром, он был вынужден остановиться.
Генерал-адъютант Лелонг, подошедший с батальоном семьдесят пятой полубригады, прилагает неслыханные усилия, чтобы заставить солдат бросить вызов этому железному смерчу. Дважды он ведет их в наступление и дважды его отбрасывают; он устремляется в атаку третий раз и, едва преодолев укрепления, падает замертво.
Ролан, находившийся рядом с Бонапартом, уже давно просил выделить ему одну из частей, но генерал не решался на это; теперь главнокомандующий почувствовал, что настал решающий момент, когда надо сделать последнее усилие.
Бонапарт поворачивается к Ролану:
– Ну, ступай! – приказывает он.
– Ко мне, тридцать вторая полубригада! – кричит Ролан.
Храбрецы Сен-Жан-д'Акра спешат на его призыв во главе с командиром бригады д'Арманьяком.
В первом ряду следует младший лейтенант Фаро, залечивший свою рану.
Тем временем еще одна попытка была предпринята командиром бригады Моранжем, но его атака также была отбита: он был ранен и потерял тридцать солдат на гласисах и в траншеях.
Турки уже считали себя победителями. Движимые привычкой рубить головы мертвецам, за каждую из которых им платили по пятьдесят пара, они выскакивают из редута и принимаются за кровавую работу.
Ролан указывает на них возмущенным солдатам.
– Не все наши солдаты убиты, – восклицают они, – среди них есть и раненые! Давайте спасем их!
В то же время Мюрат наблюдает сквозь дым, что происходит на поле битвы. Он бросается под обстрел канонерок, преодолевает полосу огня, вместе со своей конницей отсекает редут от селения и обрушивается на этих рубщиков голов, творящих свое гнусное дело по другую сторону редута; между тем Ролан, атаковав с фронта, бросается в гущу турок с присущей ему дерзостью и косит кровавых жнецов.
Бонапарт видит, что турки приходят в замешательство от этой двойной атаки, и посылает вперед Ланна во главе двух батальонов. Ланн, как это он делает неизменно, стремительно атакует редут слева и со стороны узкого прохода. Зажатые со всех сторон турки пытаются добраться до селения Абукир, но между селением и редутом их встречает Мюрат со своей кавалерией; сзади их поджидают Ролан и тридцать вторая полубригада; справа от них находятся Ланн и два его батальона.
Остается море – их последняя надежда на спасение.
Обезумев от ужаса, турки бросаются в воду; не щадившие своих пленников, они сами не ждут пощады и уповают на море, оставляющее им шанс добраться до кораблей; они предпочитают утонуть, нежели погибнуть от руки христиан, которых так презирают.
Теперь во власти французов оба холма, откуда началось наступление, селение, где укрылись остатки их защитников, и редут, стоивший жизни стольким храбрецам.
Французы оказались против турецкого лагеря, где находился резерв неприятеля, и обрушились на него.
Ничто уже не могло удержать наших солдат, опьяненных недавней бойней. Они ринулись на резерв, сражаясь среди палаток.
Мюрат и его конница налетели на охрану паши как вихрь, ураган, как самум.
Заслышав шум, крики и суматоху, Мустафа, не ведавший об исходе сражения, вскакивает в седло, встает во главе своих ичогланов и устремляется навстречу французам; он сталкивается с Мюратом, стреляет в него в упор и слегка ранит его. Мюрат отрубает ему два пальца одним ударом сабли и собирается рассечь голову вторым ударом, но какой-то араб бросается между ним и пашой, принимает удар на себя и падает замертво. Мустафа протягивает свою саблю. Мюрат берет турка в плен и отсылает к Бонапарту.