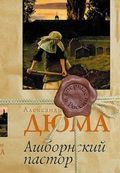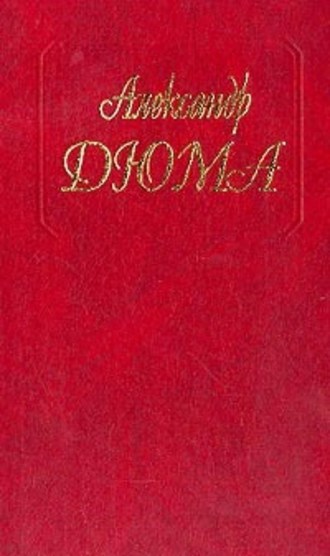
Александр Дюма
Белые и синие
XXVIII. СЕДЬМОЕ ФРЮКТИДОРА
Теперь покинем Кадудаля, который с переменным успехом продолжает отчаянную борьбу с республиканцами, оставаясь союзником Пишегрю – последней надежды, что осталась у Бурбонов во Франции; окинем взглядом Париж и остановимся на здании, построенном для Марии Медичи, в котором продолжали жить, как было сказано выше, граждане члены Директории.
Баррас получил послание Бонапарта, привезенное Ожеро.
Накануне его отъезда, в день взятия Бастилии, четырнадцатого июля, соответствовавший двадцать шестому мессидора, молодой главнокомандующий устроил в армии праздник и приказал составить обращения, в которых солдаты Итальянской армии публично заявляли о своей преданности Республике и готовности умереть за нее в случае надобности.
На главной площади Милана воздвигли пирамиду посреди знамен и пушек, взятых у неприятеля в качестве трофеев, и начертали на ней имена всех солдат и офицеров, погибших за время Итальянского похода. г В этот день созвали всех французов, находившихся в Милане, и более двадцати тысяч воинов салютовали оружием этим славным трофеям и пирамиде, испещренной бессмертными именами убитых.
В то время как двадцать тысяч воинов, образовав каре, разом отдали честь своим братьям, оставшимся лежать на полях битв при Арколе, Кастильоне и Риволи, Бонапарт, сняв шляпу и указывая рукой на пирамиду, произнес:
– Солдаты! Сегодня праздник четырнадцатого июля; перед вами имена ваших соратников, погибших на поле брани за свободу и родину; они послужили вам примером. Вы всецело принадлежите Республике, всецело сознаете свою ответственность за процветание тридцати миллионов французов и величие этой страны, имя которой благодаря вашим победам засияло как никогда.
Солдаты! Я знаю, что вы глубоко опечалены тучами, сгустившимися над нашей родиной; но родине не может грозить реальная опасность. Те же воины, благодаря которым она одержала верх над коалицией европейских стран, по-прежнему в строю. Нас отделяют от Франции горы, и вы преодолеете их с быстротой орла, если потребуется отстаивать конституцию, защищать свободу и спасать республиканцев.
Солдаты! Правительство заботится о вверенном ему сокровище; как только роялисты проявят себя, они умрут. Храните спокойствие, и давайте поклянемся душами героев, которые погибли, сражаясь рядом с нами за свободу, на наших знаменах поклянемся вести беспощадную войну с врагами Республики и Конституции Третьего года.
Затем начался банкет и были подняты тосты.
Бонапарт провозгласил первый тост:
– За смельчаков Стенгеля, Лагарпа и Дюбуа, павших на поле брани! Пусть их души охранят нас и уберегут от козней наших недругов!
Массена произнес тост за возвращение эмигрантов. Ожеро, который должен был уехать на следующий день, облеченный полномочиями Бонапарта, воскликнул, поднимая бокал:
– За единство французских республиканцев! За уничтожение клуба Клиши! Пусть заговорщики трепещут! От Адидже и Рейна до Сены всего лишь один шаг. Пусть они трепещут! Мы ведем счет их беззакониям, и расплата – на острие наших штыков.
При последних словах тоста трубачи и барабанщики заиграли сигнал атаки. Каждый солдат бросился к своему оружию, словно и в самом деле нужно было немедленно выступать в поход, и лишь с огромным трудом удалось усадить их на прежние места и продолжить пир.
Члены Директории восприняли послание Бонапарта с весьма различными чувствами.
Ожеро очень устраивал Барраса. Всегда готовый вскочить в седло, призвать на помощь якобинцев и простолюдинов из предместий, он приветливо встретил Ожеро, считая его человеком, нужным для такого случая.
Но Ребель и Ларевельер, эти спокойные натуры и трезвые головы, хотели бы видеть столь же спокойного и трезвого генерала, как они. Что касается Бартелеми и Карно, не стоит и говорить, что Ожеро никак им не подходил.
Действительно, Ожеро, такой, каким мы его знаем, был опасным помощником. Добрый малый, превосходный воин с бесстрашным сердцем, но при этом хвастливый, как гасконец, Ожеро слишком явно показывал, с какой целью его прислали. Но Ларевельеру и Ребелю удалось увлечь Ожеро и внушить ему, что он должен спасать Республику решительными действиями, но без кровопролития.
Чтобы заставить Ожеро запастись терпением, ему поручили командование семнадцатой военной дивизией, включавшей в себя Париж.
Наступило шестнадцатое фрюктидора.
Отношения между различными партиями настолько обострились, что каждую минуту можно было ждать государственного переворота, совершенного либо Советами, либо членами Директории.
Само собой получилось, что вождем роялистского движения был Пишегрю. Если бы он взял в свои руки инициативу, роялисты присоединились бы к нему.
Книга, которую мы пишем, это далеко не роман; может быть, для некоторых читателей в ней недостаточно вымысла; мы уже говорили, что принялись за нее, чтобы следовать за историей шаг за шагом. С самого начала полностью осветив события тринадцатого вандемьера и роль, что сыграл в них Бонапарт, мы также обязаны сейчас представить оклеветанного Пишегрю в подлинном свете.
Отказавшись перейти на сторону принца де Конде (причины этого мы уже подробно рассмотрели), Пишегрю вступил в непосредственную переписку с графом Прованским, который после смерти юного дофина принял титул короля Людовика XVIII. И вот, Людовик XVIII, оценив бескорыстие Пишегрю, заявившего, что отказывается от почестей и денег и попытается реставрировать монархию лишь ради лавров Монка, но без герцогства Эльбмерлского, писал Пишегрю (в то же время посылая Кадудалю свидетельство о присвоении ему звания королевского наместника и красную орденскую ленту):
«Я с большим нетерпением ждал случая, сударь, выразить Вам чувства, которые Вы давно мне внушаете, и уважение, которое я всегда к Вам питал. Я уступаю этому порыву души и должен Вам сказать, что еще полтора года тому назад я решил, что честь восстановления французской монархии будет принадлежать Вам.
Я не буду говорить о своем восхищении Вашими дарованиями и великими делами, что Вы совершили. История уже отвела Вам место в ряду выдающихся полководцев, и наши потомки подтвердят суждение, которое вся Европа высказала по поводу Ваших побед и Ваших добродетелей.
Самые прославленные полководцы были обязаны своими успехами лишь долгому опыту; Вы же с первого дня были таким, каким оставались на протяжении всех Ваших походов. Вам удается сочетать храбрость маршала Саксас бескорыстием господина де Тюренна и скромностью господина де Катина. Таким образом, позвольте Вам сказать, что в моей душе Вы всегда были неотделимы от этих столь блистательных имен, оставшихся в наших анналах.
Я подтверждаю, сударь, полномочия, которые Вы получили от принца де Конде. Я нисколько не ограничиваю их и предоставляю Вам полную свободу действий и решений в соответствии с тем, что Вы сочтете необходимым во благо моей службы, подобающим моему королевскому достоинству и отвечающим интересам государства.
Сударь, Вам известны мои чувства к Вам, и они никогда не изменятся.
Людовик».
За первым письмом последовало второе. Оба письма в точности выражают чувства Людовика по отношению к Пишегрю и должны оказать влияние на мнение не только наших современников, но и последующего поколения:
«Вы знаете, сударь, о печальных событиях в Италии; из-за необходимости послать в эту страну тридцать тысяч человек пришлось окончательно отказаться от намерения перейти через Рейн. Ваша преданность моей особе позволит Вам составить понятие о том, до какой степени я удручен этой помехой, особенно в тот момент, когда я уже предвкушал, как ворота моего королевства откроются предо мной. С другой стороны, бедствия лишь усиливают, насколько это возможно, доверие, которое Вы мне внушили. Я уверен, что Вы восстановите французскую монархию и, будет ли продолжаться война или этим же летом воцарится мир, рассчитываю только на Вас в успешном исходе этого великого дела. Я передаю в Ваши руки, сударь, всю полноту своей власти и прав. Воспользуйтесь этим в соответствии с тем, что Вы сочтете необходимым во благо моей службы.
Если бы Ваши драгоценные связи в Париже и в провинции, если бы Ваши таланты и особенно Ваш характер дали мне основание опасаться, что Вам придется покинуть королевство, я предложил бы Вам занять место подле принца де Конде и меня. Таким образом, я считаю долгом засвидетельствовать Вам свое уважение и свое расположение.
Людовик».
Итак, с одной стороны Ожеро торопил события письмами Бонапарта, а с другой – письма Людовика XVIII заставляли Пишегрю спешить.
Узнав, что Ожеро поставлен во главе семнадцатой дивизии, то есть стал командующим вооруженных сил Парижа, роялисты поняли, что нельзя терять ни минуты.
Поэтому Пишегрю, Вийо, Барбе-Марбуа, Дюма, Мюрине, Деларю, Ровер, Обри, Лафон-Ладеба – одним словом, весь роялистский стан собрался на совещание у генерал-адъютанта Рамеля, командующего гвардией Законодательного корпуса.
Рамель был храбрым воином и служил генерал-адъютантом в Рейнской армии под началом генерала Дезе; первого января 1797 года он получил предписание Директории прибыть в Париж для командования гвардией Законодательного корпуса.
Гвардия состояла из батальона в количестве шестисот человек, большинство из которых составляли гренадеры Конвента, те, что столь храбро, как мы видели, шли тринадцатого вандемьера в бой под командованием Бонапарта.
Пишегрю ясно обрисовал ситуацию. Рамель, стоявший всецело на стороне обоих Советов, был готов подчиниться приказам их председателей.
Пишегрю предложил разрешить ему в тот же вечер встать во главе двухсот человек и арестовать Барраса, Ребе-ля и Ларевельер-Лепо, которым на следующий день было бы предъявлено обвинение. На беду, было оговорено, что решение будет принято большинством голосов. Любители проволочек воспротивились предложению Пишегрю.
– Конституция в состоянии нас защитить! – вскричал Лакюе.
– Конституция бессильна против пушек, а на ваши декреты ответят пушками, – возразил Вийо.
– Солдаты будут за нас, – стоял на своем Лакюе.
– Солдаты на стороне того, кто им приказывает, – сказал Пишегрю. – Не хотите решиться – вы погибли. Я же, – печально прибавил он, – давно пожертвовал своей жизнью; я устал от всех этих споров: они ни к чему не ведут. Когда я вам потребуюсь, вы придете ко мне.
С этими словами он удалился.
Когда отчаявшийся Пишегрю выходил от Рамеля, почтовая карета остановилась у ворот Люксембургского дворца, и Баррасу доложили, что прибыл гражданин генерал Моро.
XXIX. ЖАН ВИКТОР МОРО
Моро было в ту пору тридцать семь лет; только он вместе с Гошем служил противовесом если не удаче, то репутации Бонапарта.
В этот период он вступил в организацию, ставшую впоследствии обществом заговорщиков; оно было основано в 1797 году и распущено лишь в 1809 году после битвы при Ваграме вследствие гибели полковника Уде, возглавлявшего это так называемое общество Филадельфов. Здесь Моро прозвали Фабием, в честь знаменитого римского консула, одержавшего победу над Ганнибалом благодаря умению выжидать.
Поэтому Моро окрестили Выжидающим.
К несчастью, его медлительность не была результатом расчета, а следствием характера. Моро был начисто лишен твердости в политических взглядах и решимости в проявлениях воли.
Будь он от природы наделен большей силой, он мог бы оказывать влияние на события во Франции и построить свою жизнь так, чтобы она не уступала самым блистательным судьбам нынешних и античных времен.
Моро родился в Бретани, в Морле, в уважаемой и скорее богатой, нежели бедной семье; его отец был видным адвокатом. В восемнадцать лет, испытывая влечение к военной службе, он поступил добровольцем в армию. Его отец, который хотел, чтобы юный Моро, как и он, стал адвокатом, купил сыну право выйти в отставку и отправил его в Рен учиться юриспруденции.
Вскоре юноша приобрел некоторое влияние на товарищей благодаря своему бесспорному интеллектуальному превосходству.
Уступая Бонапарту в уме, уступая Гошу в непосредственности, он тем не менее превосходил многих своими способностями.
Когда в Бретани начались волнения, предшествовавшие Революции, Моро встал на сторону парламента, выступил против двора и увлек за собой всю студенческую корпорацию.
В результате этого между Моро, которого с тех пор прозвали генералом парламента, и комендантом Рена разгорелась борьба, и в ней старый воин не всегда одерживал верх.
Комендант Рена отдал приказ арестовать Моро.
Моро, в гениальности которого заключалась осмотрительность или скорее осмотрительность которого была гениальной, нашел способ ускользнуть от тех, кто его разыскивал; каждый день он показывался то в одном, то в другом месте, дабы все были твердо уверены, что глава парламентской оппозиции не покинул древней столицы Арморики.
Но позже он увидел, что парламент, который он защищал, воспротивился созыву Генеральных штатов. Моро посчитал, что созыв их необходим для грядущего процветания Франции, и перешел в другой лагерь, сохранив при этом свои убеждения, поддержал созыв Генеральных штатов и отныне стал во главе всех мятежных организаций, возникавших в Бретани.
Он был предводителем бретонской молодежи, собиравшейся в Понтиви, когда генеральный прокурор департамента, стремясь использовать этого одаренного человека, чьи способности проявлялись в некотором роде сами собой, назначил его командующим первым батальоном волонтеров департамента Иль-и-Вилен.
Впрочем, вот что говорит сам Моро:
«В начале Революции, призванной положить начало свободе французского народа, я был обречен изучать законы. Революция изменила направление моей жизни: я посвятил ее военному делу. Я вступил в ряды солдат свободы не из честолюбивых соображений, а избрал военное поприще из уважения к правам народа: я стал воином, потому что был гражданином».
Благодаря своей спокойной и даже несколько вялой натуре Моро обладал умением безошибочно ориентироваться среди опасностей и поразительным для молодого человека хладнокровием. В ту пору в армии еще не хватало солдат, но вскоре они повалили толпами; несмотря на свои недостатки, Моро снискал чин бригадного генерала в армии, где главнокомандующим был тогда Пишегрю.
Гениальный Пишегрю оценил талантливого Моро и присвоил ему в 1794 году чин дивизионного генерала.
С этого времени тот встал во главе двадцатипятитысячного корпуса; в частности его обязанностью было ведение осад.
В блистательной кампании 1794 года, подчинившей Голландию Франции, Моро командовал правым флангом армии.
Все стратеги считали завоевание Голландии невозможным, поскольку территория этой страны, расположенная, как известно, ниже уровня моря, отвоевана у воды и может быть затоплена в любой момент.
Голландцы отважились почти что на самоубийство: они открыли плотины, удерживавшие морские воды, и попытались предотвратить вражеское вторжение, затопив свои провинции.
Однако неожиданно грянул невиданный для этой страны мороз, достигавший пятнадцати градусов, такой, что бывал здесь лишь раз в сто лет; мороз сковал каналы и реки льдом.
И тут французы с присущей только им дерзостью решили рискнуть. Сначала вперед выходит пехота, за ней следует кавалерия, потом легкая артиллерия; видя, что лед выдерживает этот необычный вес, французы спускают и катят по глади водоема тяжелые осадные орудия. Люди бьются на льду, как на твердой почве; англичан атакуют в штыки и обращают в бегство; австрийские батареи взяты с бою; то, что должно было спасти Голландию, губит ее. Холод, который стал впоследствии заклятым врагом Империи, оказался верным союзником Республики.
После этого ничто уже не может помешать завоеванию Соединенных провинций. Крепостные валы больше не защищают городов: уровень льда достиг высоты валов. Взяты Арнхайм, Амстердам, Роттердам и Гаага. Завоевание Оверэйссела, Гронингена и Фрисландии довершает падение страны.
Остается еще застрявший во льдах пролива у острова Тексель флот штатгальтера, корабли которого виднеются над водой.
Моро приказывает доставить пушки на берег, чтобы ответить на залпы артиллерии флота; он воюет с кораблями как с крепостями, посылает полк гусар на абордаж, и случается небывалая вещь в истории народов и в анналах морских сражений: полк легкой кавалерии завоевывает целый флот.
Все эти события возвысили Пишегрю и Моро, оставив при этом каждого на своем месте: Моро по-прежнему был талантливым помощником гениального человека.
Между тем Пишегрю был назначен командующим Рейнско-Мозельской армии, а Моро получил командование Северной армией.
Вскоре, как уже было сказано, попавший под подозрение Пишегрю был отозван в Париж, а Моро назначен командующим Рейнско-Мозельской армией вместо него.
В начале похода легкая кавалерия захватила фургон, входивший в состав обоза австрийского генерала фон Клинглина. В одной из шкатулок, переданной Моро, хранилась полная переписка Фош-Бореля с принцем де Кон-де, где содержался отчет о переговорах, которые вел с Пишегрю Фош-Борель под именем гражданина Фенуйо, разъездного торговца шампанскими винами.
В данном случае каждый имеет право расценивать поведение Моро по своему усмотрению и по законам собственной совести.
Не должен ли был Моро, друг и помощник Пишегрю, всем обязанный ему, просто-напросто ознакомиться с содержимым этой шкатулки и отослать ее своему бывшему командующему с предупреждением: «Остерегайтесь!»; следовало ли ему, поставив родину выше чувств, стоическую твердость выше дружбы, сделать то, что он сделал, а именно: самолично и с помощью других в течение полугода разгадывать все эти письма, написанные шифром? И следовало ли ему, когда его подозрения оправдались, но вина друга еще не была доказана, – следовало ли ему, воспользовавшись предварительными мирными переговорами в Леобене, когда над головой Пишегрю уже сгущались тучи, стучаться в дверь Барраса со словами: «Вот и я, гром и молния!»
Итак, именно это пришел сказать Моро Баррасу; Моро принес Директории не доказательство измены, а свидетельство о том, что велись переговоры, – именно этого недоставало Директории, чтобы выдвинуть обвинение против Пишегрю.
Баррас беседовал с Моро с глазу на глаз в течение двух часов и удостоверился, что приобрел улики против своего врага, которые могли погубить Пишегрю, тем более что доводы Моро были пропитаны ядом.
Затем, убедившись, что эти показания дают основание если не для вынесения приговора, то хотя бы для возбуждения судебного дела, он позвонил.
Вошел слуга.
– Пригласите ко мне, – приказал Баррас, – министра полиции и двух моих коллег: Ребеля и Ларевельер-Лепо.
Затем, достав часы, он сказал:
– Десять часов вечера; у нас в запасе еще шесть часов. Протянув руку Моро, он прибавил:
– Гражданин генерал, ты прибыл вовремя.
И с присущей ему лукавой улыбкой произнес:
– Мы сумеем воздать тебе за это.
Моро попросил разрешения удалиться. Разрешение было дано: он стеснял бы Барраса так же, как Баррас стеснял бы его.
Три члена Директории заседали до двух часов ночи. Министр полиции поспешил присоединиться к ним; затем послали поочередно за Мерленом (из Дуэ) и Ожеро.
После этого, около часа ночи, в правительственную типографию было направлено обращение, гласившее следующее:
«Директория, которую около двух часов ночи атаковали войска обоих Советов под командованием генерал-адъютанта Рамеля, была вынуждена ответить на силу силой.
После часового сражения войска обоих Советов были разбиты и победа осталась за правительством.
В распоряжении членов Директории более сотни пленных; завтра будет оглашен их поименный список и даны более подробные сведения об этом заговоре, который едва не сверг законную власть.
18 фрюктидора, 4 часа утра».
Этот любопытный документ был подписан Баррасом, Ребелем и Ларевельер-Лепо, а предложил написать и отредактировал его министр полиции Сотен.
– Вашей листовке никто не поверит, – сказал Баррас, пожимая плечами.
– Ей будут верить завтра, – ответил Сотен, – это все, что нам требуется. Какое нам дело, что послезавтра ей перестанут верить. Уловка будет удачной.
Члены Директории разошлись, отдав приказ первым делом задержать своих коллег Карно и Бартелеми.
XXX. ВОСЕМНАДЦАТОЕ ФРЮКТИДОРА
В то время как министр полиции Сотен сочинял свои афиши и предлагал расстрелять Карно и еще сорок два депутата, в то время как отменили назначение пятого члена Директории – Бартелеми, пообещав его место Ожеро в том случае, если вечером следующего дня им останутся довольны, двое мужчин спокойно играли в триктрак в одном из уголков Люксембургского дворца.
Один из них, который был лишь на три года моложе другого, начинал свою службу в качестве офицера инженерных войск; он опубликовал несколько математических эссе и благодаря этому был принят в ряд ученых обществ. Кроме того, он сочинил похвальное слово Вобану, за что удостоился награды Дижонской академии.
Будучи в начале Революции капитаном инженерных войск, он стал кавалером ордена Святого Людовика. В 1791 году он был избран депутатом Законодательного собрания от департамента Па-де-Кале. Первая его речь была направлена против принцев, эмигрировавших в Кобленц, против маркиза де Мирабо, против кардинала де Рогана и г-на де Калонна, который плел интриги при дворах иностранных королей, чтобы убедить их объявить войну Франции. Он предложил заменить офицеров-дворян, которые ушли из армии, унтер-офицерами и сержантами. В 1792 году он потребовал разрушить все бастилии на территории Франции и предложил меры по избавлению солдат и офицеров от слепого подчинения, которого от них требовали.
В те дни, когда Революции грозила иностранная интервенция, он потребовал изготовить триста тысяч пик, чтобы вооружить население Парижа. Избранный депутатом Национального Конвента, он без колебаний проголосовал за казнь короля. Он также одобрил присоединение к Франции княжества Монако и части Бельгии.
В марте 1793 года он получил назначение в Северную армию и во время сражения при Ватиньи отстранил от командования генерала Гратьена, отступившего перед лицом неприятеля, самолично встал во главе французских войск и отвоевал потерянные позиции.
Избранный в августе того же года членом Комитета общественного спасения, он проявил свой безмерный талант, ныне признанный всеми, развернув деятельность по формированию четырнадцати армий и составлению планов сражений не только для каждой армии в отдельности, но и для их боевых действий в целом. Тогда же благодаря ему наши армии одержали ряд поразительных побед, следовавших одна за другой, начиная со взятия Тулона и вплоть до капитуляции четырех крепостей на севере.
Этого человека звали Лазар Никола Маргерит Карно; он был именно тем четвертым членом Директории, что не сумел договориться с Баррасом, Ребелем и Ларевельер-Лепо и только что был осужден на смерть своими коллегами, считавшими его слишком опасным, чтобы оставить в живых.
Его партнер, маркиз Франсуа Бартелеми, переставлявший фишки столь же небрежно, сколь решительно играл Карно, был последним из пяти назначенных членов Директории; единственная заслуга его состояла в том, что он был племянником аббата Бартелеми, автора «Путешествия молодого Анахарсиса».
Будучи во время Революции французским посланником в Швейцарии, он двумя годами раньше заключил в Базеле мирные договоры с Пруссией и Испанией, положившие конец первой антифранцузской коалиции.
Он стал членом Директории вследствие своей общеизвестной умеренности, и вследствие той же умеренности коллеги исключили его из своих рядов и распорядились взять под стражу.
Был уже час ночи, когда шестая партия в триктрак завершилась победой Карно.
Друзья стали прощаться, пожимая друг другу руки.
– До свидания, – сказал Карно Бартелеми.
– До свидания? – переспросил Бартелеми, – вы в этом твердо уверены, дорогой коллега? В нынешние времена, отправляясь спать, я отнюдь не уверен, что назавтра снова увижу друга, с которым расстался.
– Черт возьми, чего вы боитесь? – спросил Карно.
– Гм-гм! – хмыкнул Бартелеми, – недолго получить удар кинжалом.
– Полноте! – сказал Карно, – уж вы-то можете быть спокойны: они прикажут зарезать не вас, а меня. Вы слишком добродушны, чтобы вас стали опасаться; они поступят с вами, как когда-то поступили с «ленивыми королями»: коротко остригут и заточат в монастырь.
– Но в таком случае, если вы этого боитесь, – продолжал Бартелеми, – почему вы предпочитаете не побеждать, а быть побежденным? Ведь в конце концов, судя по предложениям, что нам сделали, свержение трех наших собратьев зависело только от нас.
– Милейший, – произнес Карно, – вы видите не дальше собственного носа, который, к несчастью, уступает в длине носу вашего дяди. Что за люди сделали нам эти предложения? Роялисты. Но неужели вы полагаете, что роялисты смогут когда-нибудь простить мне то, что я им сделал? Мне остается лишь выбрать вид казни: роялисты повесят меня как цареубийцу; члены Директории зарежут как роялиста. Я предпочитаю быть зарезанным.
– И с такими-то мыслями, – спросил Бартелеми, – вы отправляетесь спать к себе?
– Где же прикажете мне ложиться?
– Ну, в каком-нибудь другом месте, где вы могли бы быть в безопасности.
– Я фаталист! Если кинжалу суждено найти ко мне путь, он его отыщет… Спокойной ночи, Бартелеми! Моя совесть чиста; я голосовал за казнь короля, но спас Францию. Пусть же Франция позаботится обо мне.
Карно вернулся к себе и спокойный, как всегда, лег в постель.
Он не ошибся: некий немец получил приказ арестовать его и убить при малейшей попытке сопротивления.
В три часа ночи этот немец и его сбиры явились к дверям Карно, жившего вместе с младшим братом.
Слуга, увидев сбиров и услышав, что их начальник на ломаном французском языке спрашивает, где гражданин Карно, отвел их в спальню младшего из братьев; тому нечего было опасаться, и поэтому он, будучи арестован, некоторое время держал солдат в заблуждении.
Затем слуга поспешил предупредить своего хозяина, что пришли его арестовать.
Полураздетый Карно скрылся через одну из калиток Люксембургского сада, от которой у него были ключи.
После этого слуга вернулся. Завидев его, арестованный понял, что брат спасен, и назвал себя.
Разъяренные солдаты осмотрели все апартаменты Карно, но нашли лишь его пустую кровать с еще теплой постелью.
Оказавшись в Люксембургском саду, беглец на миг остановился, не зная, куда направиться. Он явился в меблированные комнаты на улице Анфер, но там ему сказали, что не осталось ни одного, даже крошечного свободного номера.
Он побрел дальше куда глаза глядят, и тут внезапно раздался пушечный выстрел – сигнал тревоги.
При этом звуке распахнулись двери и окна некоторых домов. Что ожидало полураздетого Карно? Его непременно задержит первый же патруль; кроме того, со всех сторон к Люксембургскому дворцу направляются войска.
И вот патруль показался на углу улицы Старой Комедии.
Какой-то привратник приоткрыл дверь, и Карно устремился к нему.
Судьбе было угодно, чтобы этот славный малый прятал его до тех пор, пока тот не подыскал себе другое пристанище.
Что касается Бартелеми, которому Баррас дал дважды за один день почувствовать, какая участь ему уготована, то он не принял никаких мер предосторожности.
Через час после того как он простился с Карно, его арестовали прямо в постели; он даже не попросил, чтобы ему показали распоряжение об аресте, и лишь произнес: «О, моя родина!»
Его слуга по имени Летелье, который не расставался с ним на протяжении двадцати лет, попросил, чтобы его арестовали вместе с хозяином.
Ему отказали в столь необычной просьбе; позднее мы увидим, как он добился этой милости.
Оба Совета избрали комиссию, которая должна была непрерывно заседать. Председателем этой комиссии стал Симеон. Когда прозвучал сигнал тревоги, он еще не успел прийти.
Пишегрю провел всю ночь на заседании комиссии вместе с теми из заговорщиков, кто решил противопоставить силе силу; никто и не подозревал, что так близок час, когда Директория отважится совершить переворот.
Многие члены комиссии были вооружены, в том числе Ровер и Вийо; когда им неожиданно сообщили, что заседавшие окружены, они хотели пробиться сквозь оцепление с пистолетами в руках.
Но Пишегрю на это не согласился.
– Другие наши коллеги из тех, что собрались здесь, безоружны, – сказал он, – они будут растерзаны этими мерзавцами, которым нужен только предлог; не будем бросать их на произвол судьбы.
Тут дверь распахнулась и в комнату, где заседала комиссия, влетел Деларю, член обоих Советов.
– Ах, дорогой Деларю, – вскричал Пишегрю, – какого дьявола вы сюда явились? Нас сейчас всех арестуют.
– Ну, значит, нас арестуют вместе, – спокойно сказал Деларю.
В самом деле, Деларю, желая разделить участь своих собратьев, проявил мужество: он трижды прорывался сквозь кордоны, чтобы добраться до комиссии. Когда он был дома, к нему пришли предупредить о грозившей ему опасности, но он отказался бежать, хотя это было легко. Он поцеловал на прощание жену и детей, не потревожив их сна, и, как мы уже видели, присоединился к своим коллегам.
В предыдущей главе было сказано, что, несмотря на свои настоятельные просьбы, Пишегрю, который предлагал привести трех закованных в кандалы членов Директории, дабы они предстали перед судом Законодательного корпуса, и обещал сделать это, если ему дадут двести солдат, не смог добиться того, о чем просил.
На сей раз его коллеги решили защищаться, но было слишком поздно.
Едва Деларю обменялся несколькими словами с Пишегрю, как дверь была выбита и толпа солдат под предводительством Ожеро ворвалась в зал заседаний.
Оказавшись рядом с Пишегрю, Ожеро протянул руку, чтобы схватить его за шиворот.
Деларю вытащил из-за пояса пистолет, собираясь выстрелить в Ожеро, но тут чей-то штык пронзил его руку.
– Ты арестован! – воскликнул Ожеро, хватая Пишегрю.
– Несчастный! – вскричал тот. – Не хватало только, чтобы ты стал сбиром гражданина Барраса!
– Солдаты! – вскричал один из членов комиссии. – Неужели вы посмеете поднять руку на Пишегрю, вашего генерала?
Ожеро молча бросился на Пишегрю, и в конце концов, после жестокой схватки, ему удалось с помощью четырех солдат скрутить генералу руки и связать их за спиной.
Когда арестовали Пишегрю и заговорщики лишились своего вождя, никто больше не пытался сопротивляться.
Генерал Матьё Дюма, тот самый, что был военным министром в Неаполе при Жозефе Наполеоне и оставил прелюбопытные мемуары, находился на заседании комиссии, когда ее окружили; он был в мундире генерала. Дюма вышел в ту же дверь, через которую ворвался Ожеро, и спустился вниз.
В вестибюле часовой преграждает ему путь штыком.
– Никого не велено выпускать, – говорит он.
– Мне это хорошо известно, – отвечает генерал, – ведь я сам отдавал приказ.