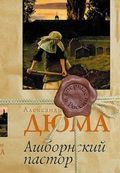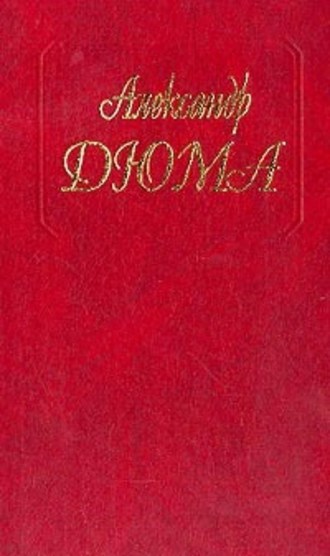
Александр Дюма
Белые и синие
XXXV. ГЛАВА, В КОТОРОЙ АББАТУЧЧИ ВЫПОЛНЯЕТ МИССИЮ, ВВЕРЕННУЮ ЕМУ ГЕНЕРАЛОМ, А ШАРЛЬ – МИССИЮ, ВВЕРЕНУЮ ЕМУ БОГОМ
Пишегрю окинул комнату взглядом, желая убедиться, что они одни, затем, вновь устремив глаза на Шарля и взяв обе его руки в свою ладонь, сказал:
– Шарль, мой милый мальчик, ты взял на себя перед Небом священное обязательство, которое надлежит выполнить. Если и существует на земле нерушимая клятва, то это та, что дана умирающему. Я говорил, что предоставлю тебе возможность исполнить это обещание. Я сдержу данное тебе слово. Ты сохранил шапку графа?
Шарль расстегнул две пуговицы своего мундира и показал генералу шапку.
– Хорошо. Я отправляю тебя в Безансон вместе с Фалу, ты будешь сопровождать его до деревни Буссьер и вручишь бургомистру денежную награду, предназначенную матери нашего сержанта. Я не хочу, чтобы подумали, что эти деньги нажиты мародерством или украдены, а так непременно сказали бы, если бы сын передал ей их из рук в руки; поэтому сам бургомистр вручит ей эти деньги; кроме того, в общине останется мое письмо, сообщающее о мужестве Фалу. Я даю вам неделю отпуска, начиная с того дня, когда ты приедешь в Безансон; тебе, наверное, хочется пощеголять там в новом мундире.
– Вы ничего не дадите мне для отца?
– Дам письмо перед самым отъездом.
Тут Леблан объявил, что стол для генерала накрыт. Войдя в столовую, генерал испытующе взглянул на стол: он был уставлен яствами и даже ломился от них.
Генерал пригласил Дезе отобедать вместе с ним, и тот Привел с собой одного из своих друзей, служившего в армии Пишегрю и ставшего его адъютантом, того самого Рене Савари, который написал на капральских галунах Фаро о его повышении.
Обед проходил весело, как обычно; все были в сборе, за исключением двух-трех человек, получивших легкие ранения.
После обеда все сели на коней, и генерал вместе со своим штабом объехал аванпосты.
Вернувшись в город, он спешился, велел Шарлю последовать его примеру и, оставив обеих лошадей на попечение стрелка, состоявшего при нем на службе, повел Шарля по торговой улице Ландау.
– Шарль, мой мальчик, – сказал он – помимо официальных или тайных поручений, полученных тобой, я хотел бы дать тебе одно особенное задание; ты согласен?
– С радостью, мой генерал, – сказал Шарль, хватаясь за руку Пишегрю, – какое?
– Я еще не знаю; у меня осталась в Безансоне подруга по имени Роза, она живет на улице Голубятни, в доме номер семь.
– А! – воскликнул Шарль, – я ее знаю: это славная женщина лет тридцати, швея, работает в мастерской, она немного прихрамывает.
– Верно, – улыбнулся Пишегрю, – как-то раз она прислала мне шесть прекрасных полотняных рубашек, которые сшила своими руками. Я хотел бы тоже ей что-нибудь послать.
– Ах, это хорошая мысль, генерал.
– Но что же ей послать? Я не знаю, какая вещь могла бы доставить ей удовольствие.
– Послушайте, генерал, воспользуйтесь советом, который дает вам погода, купите ей хороший зонт, он пригодится нам, когда мы будем возвращаться в штаб. Я скажу ей, что он послужил вам, и от этого она еще больше будет им дорожить.
– Ты прав, вот что пригодится ей больше всего. Бедная Роза, у нее ведь нет кареты. Зайдем сюда.
Они оказались как раз у входа в большой магазин, торговавший зонтами. Пишегрю перепробовал дюжину из них и остановился наконец на великолепном зонте небесно-голубого цвета.
Он уплатил за него тридцать восемь франков ассигнатами. Вот такой подарок послал своей лучшей подруге главный генерал Республики.
Понятно, что я не упомянул бы об этом факте, если бы он не был исторически совершенно точен.
Вечером, когда они вернулись, Пишегрю принялся писать письма, пожелав Шарлю, уезжающему завтра на рассвете, спокойной ночи.
Мальчик был в том возрасте, когда сон и в самом деле является источником покоя, в котором не только черпают силы, но где тонут заботы минувшего дня, а также тревоги о будущем.
Именно в этот вечер произошел любопытный случай, о чем я сейчас расскажу. Я узнал о нем от того самого юного Шарля, который, став взрослым и достигнув сорокапятилетнего возраста, осуществил свою мечту, став ученым и писателем, и проводил все время в огромной библиотеке.
Согласно предписанию Сен-Жюста, Шарль лег в постель одетым. Обычно, как и все, кто носил мундир, он туго затягивал галстук на шее; эта привычка водилась за самим Пишегрю, и весь штаб усвоил ее сначала в подражание генералу, затем – в пику пышному галстуку Сен-Жюста; кроме того, Шарль, желавший во всем походить на генерала, завязывал с правой стороны узелок (он продолжал следовать этой моде до конца своих дней).
Примерно через полчаса Пишегрю, сидевший за письмом, услышал стоны Шарля. Он не обратил на это особого внимания, решив, что мальчику снится кошмарный сон; однако стоны становились все более тяжелыми и вскоре превратились в хрип; Пишегрю встал, подошел к Шарлю и, увидев его налитое кровью лицо, засунул руку ему за воротник, приподнял голову и развязал душивший его узел.
Юноша проснулся и, узнав склонившегося над ним Пишегрю, воскликнул:
– Это вы, генерал? Я вам нужен?
– Нет, – улыбнулся генерал, – наоборот, скорее я тебе потребовался. Ты страдал, ты стонал, я подошел к тебе и без труда понял причину твоего недомогания. Когда носишь такой тугой галстук, не забывай распускать его перед сном. Я расскажу тебе в другой раз, как от подобной забывчивости порой случаются апоплексические удары и скоропостижная смерть. Это один из способов самоубийства!
Впоследствии мы увидим, каким способом воспользовался сам Пишегрю.
* * *
На следующий день Аббатуччи отбыл в Париж; Фаро и два его спутника уехали в Шатору, а Шарль с Фалу – в Безансон. Две недели спустя пришли известия от Фаро, который сообщал генералу о том, что раздача денег в департаменте Эндр закончена.
Но еще раньше, по истечении десяти дней, генерал получил письмо из Парижа: Аббатуччи писал, что все пять знамен были вручены председателю Конвента и тот во всеуслышание подтвердил его повышение, а члены Конвента и зрители, сидевшие на трибунах, дружно кричали при этом «Да здравствует Республика!».
На четвертый день после отъезда Шарля, когда еще ни от кого не поступило известий, 14 нивоза (3 января) Пишегрю получил следующее необычное письмо:
«Дорогой генерал!
Новый календарь заставил меня позабыть о празднике; прибыв в Безансон 31 декабря, я поспел точно к сроку, чтобы на следующий день поздравить родных с Новым годом.
Вы же не забыли об этом, и отец был очень тронут подобным вниманием с Вашей стороны, за что он благодарит Вас от всей души.
Первого января (по старому стилю), поздравив с Новым годом всех родных и расцеловав их, мы с Фалу отправились в деревню Буссьер. Там, как было Вами задумано, мы остановили карету у дома бургомистра и вручили ему Ваше письмо; он тотчас же призвал деревенского барабанщика, который обычно сообщает жителям Буссьера важные известия. Заставив его три раза перечитать Ваше письмо, дабы он не допустил ошибок при его оглашении, бургомистр приказал ему прежде всего ударить в барабан у дверей старой матушки Фалу. Едва заслышав бой барабана, она вышла на порог, опираясь на палку.
Мы с Фалу стояли в нескольких шагах от нее.
Когда барабан смолк, было зачитано письмо.
Услышав имя своего сына, бедная старушка не совсем поняла, в чем дело, и с криком принялась вопрошать:
«Он умер? Он умер?»
И тут прозвучало ругательство, от которого содрогнулось небо; услышав его, она поняла, что ее сын жив, обернулась, смутно увидела мундир и воскликнула:
«Вот он! Вот он!»
В конце концов она упала в объятия сына, расцеловавшего ее от всей души, а деревенские жители рукоплескали им!
Затем, поскольку из-за этой семейной сцены люди почти не расслышали текста, барабанщик принялся снова читать письмо.
Когда чтение подходило к концу, бургомистр, умело рассчитав, какой эффект это произведет, появился с лавровым венком в одной руке и кошельком в другой. Он возложил лавровый венок на голову Фалу и вложил кошелек в руку его матери.
Я не смог остаться там до конца и позже узнал, что в деревне Буссьер устроили праздник с иллюминацией и балом, взрывали петарды, пускали ракеты, и Фалу разгуливал среди своих земляков до двух часов ночи с лавровым венком на голове, словно Цезарь.
Я же, мой генерал, вернулся в Безансон, чтобы исполнить известное Вам печальное поручение, о чем я сообщу Вам по возвращении в штаб.
До сих пор мне все некогда было заняться Вашим поручением; и вот я помчался на улицу Голубятни, остановился у дома № 7 и поднялся на четвертый этаж.
Роза узнала меня и встретила с радостью, как родного; когда же она узнала, что я пришел по поручению ее великого друга, о! тогда, я должен Вам сказать, генерал, бедная Роза не удержалась: она заключила меня в объятия и расцеловала со слезами на глазах.
«Как ? Он вспомнил обо мне?»
«Да, мадемуазель Роза».
«Как, он сам?»
«Клянусь вам».
«И он сам выбрал для меня этот красивый зонт?»
«Он сам выбрал его для вас».
«И он шел под ним обратно в гостиницу?»
«Точнее, мы оба шли под ним, но держал его он».
Не говоря ни слова, она посмотрела на ручку зонта, поцеловала ее и заплакала. Вы понимаете, что я не пытался ее утешить, а плакал вместе с ней; впрочем, это были слезы радости, и я огорчил бы ее, если бы сказал: «Довольно!» Тогда же я сказал ей, до чего Вам понравились ее рубашки и что теперь Вы носите только их. Она зарыдала еще больше прежнего! Потом мы принялись наперебой говорить о Вас. Вскоре она Вам напишет, чтобы поблагодарить Вас, но, кроме того, она поручила мне сказать Вам множество приятных вещей.
Я должен передать Вам то же самое от моего отца, которому, надо думать, Вы написали кучу всяких вымыслов о сыне, ибо, читая Ваше письмо, он все время поглядывал на меня и даже смахивал с ресниц набегавшие слезы. Он тоже Вам напишет, как и мадемуазель Роза.
Полагаю, что злоупотребил Вашим вниманием, которого я не заслуживаю, но Вы сами доверили мне три послания и тем самым сделали из меня важную особу, поэтому я надеюсь, что Вы простите своего маленького друга за долгую болтовню.
Шарль Нодье».
Часть вторая. 13 вандемьера
I. С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Около двух лет минуло со времен тех событий, о которых мы рассказали в первой части нашей книги.
Чтобы читатель разобрался в последующих событиях, нам следует окинуть беглым взглядом с высоты птичьего полета два страшных роковых года – 1794 и 1795-й.
Как предсказал Верньо и как повторил вслед за ним Пишегрю, Революция пожрала своих детей.
Посмотрим на деяния этой страшной мачехи.
Пятого апреля 1794 года были казнены кордельеры.
Дантон, Камилл Демулен, Базир, Шабо, Лакруа, Эро де Сешель и бедный поэт-мученик Фабр д'Эглантин (автор одной из наших самых популярных песен «Пастушка, дождь пошел») погибли вместе, на одном эшафоте, куда их заставил взойти Робеспьер, Сен-Жюст, Мерлен (из Дуэ), Кутон, Колло д'Эрбуа, Фуше (из Нанта) и Вадье.
Затем настал черед якобинцев.
Вадье, Тальен, Бийо и Фрерон обвиняют Робеспьера в том, что он узурпировал власть, и Робеспьер с челюстью, раздробленной пистолетной пулей, Сен-Жюст с высоко поднятой головой, Кутон с переломанными ногами, Леба, а также их друзья – все они, двадцать два человека, были казнены на следующий день после бурного дня, который помечен в истории роковой датой – 9 термидора.
Десятого термидора Революция по-прежнему была жива, ибо она была бессмертна, и какой-либо партии, которая возвышается либо падает, не дано ее убить; Революция была жива, но Республика умерла!
Республика была обезглавлена вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом.
Вечером в день казни дети кричали у дверей театров:
– Карета! Кто хочет карету? Не угодно ли карету нашему буржуа? Назавтра и день спустя восемьдесят два якобинца следуют за Робеспьером,
Сен-Жюстом и их друзьями на площадь Революции.
Пишегрю узнал об этом кровавом перевороте, будучи главнокомандующим Северной армией. Он рассудил, что время крови прошло и что вместе со всякими Вадье, Тальенами, Бийо и Френонами грядет время грязи.
Он подал знак в Мюльхайм, и вскоре примчался Фош-Борель – посланец принца.
Как и предвидел Пишегрю, этап подъема Революции остался позади. Наступил период реакции, или этап нисхождения: кровь продолжала литься, но это уже была кровь репрессий.
Согласно декрету от 17 мая 1795 года окончательно закрывался Якобинский клуб, колыбель Революции и опора Республики.
Общественный обвинитель Фукье-Тенвиль, сотоварищ палаческого топора, был виновен не более, чем этот топор, ибо он лишь подчинялся приказам Революционного трибунала, подобно тому как топор подчинялся палачу. Фукье-Тенвиль был казнен на гильотине вместе с пятнадцатью судьями – присяжными Революционного трибунала.
В знак окончательного наступления реакции казнь совершилась на Гревской площади.
Хитроумное изобретение господина Гильотена снова выдвинулось на первый план; виселицы же исчезли: равноправие всех перед смертью было узаконено.
Первого прериаля Париж окончательно убеждается, что умирает с голода. Движимые голодом обитатели предместий идут в наступление на Конвент. Истощенные, оборванные, голодные люди врываются в зал заседаний; депутата Феро, попытавшегося защитить председателя Конвента Буасси д'Англа, убивают на месте.
Благодаря переполоху, поднявшемуся после этого в собрании, Буасси д'Англа уцелел.
Ему подносят голову Феро на острие копья. Он благоговейно снимает головной убор, кланяется и снова надевает шляпу.
Во время этого поклона Буасси д'Англа, который был лишь наполовину революционером, становится наполовину монархистом.
Шестнадцатого числа того же месяца Луи Шарль Французский, герцог Нормандский, претендент на трон под именем Людовика XVII, тот самый, о котором герцог Орлеанский сказал на одном из ужинов: «Сын Куаньи не будет моим королем!», умирает от золотухи в Тампле в возрасте десяти лет, двух месяцев и двенадцати дней.
Тотчас же граф Прованский Людовик самолично провозглашает себя королем Франции и Наварры Людовиком XVIII, дабы даже во времена Республики не зачахла старая истина французской монархии: «Король умер, да здравствует король!»
Затем настает страшный день Киберона, когда, по словам Питта, «не пролилось ни капли английской крови» и когда, по словам Шеридана, «честь Англии струилась изо всех пор».
Тем временем победы Гоша и Пишегрю принесли свои плоды; в результате захвата виссамбурских линий (читатели уже знают, как это произошло), при виде трехцветного знамени, в руках Сен-Жюста пересекающего границу и гордо реющего на земле Баварии, Фридрих Вильгельм, который первым перешел наши границы, признаёт Французскую республику и заключает с ней мир.
Франция и Пруссия не захватили никаких земель, и, следовательно, им нечего возвращать друг другу.
Однако восемьдесят тысяч пруссаков спят вечным сном на полях Шампани и Эльзаса, и ни Йена, ни Лейпциг не положат конец начавшейся великой ссоре.
В то же время Восточно-Пиренейская армия захватила Бискайю, а затем Виторию и Бильбао. Уже овладев частью труднодоступных границ, французы, благодаря своим последним победам приблизившиеся к Памплоне, могли взять эту столицу Наварры и без труда расчистить путь для вторжения в обе Кастилии и Арагон.
Король Испании предложил мир.
Уже вторая коронованная особа признала существование Французской республики и, таким образом, примирилась с казнью двух своих родственников – Людовика XVI и Марии Антуанетты.
Мирный договор был подписан. Военная угроза заставила позабыть родню. Франция отказалась от своих завоеваний по ту сторону Пиренеев, а
Испания уступила Франции часть принадлежащего ей острова Сан-Доминго.
Как только что было сказано, вопрос о заключении мира с Испанией нельзя было рассматривать с точки зрения материальной выгоды: он представлял исключительно моральный интерес.
Читатель это уже понял. Измена Карла IV делу монархии явилась огромным шагом вперед, по-своему более важным, чем отступничество Фридриха Вильгельма.
Фридрих Вильгельм не был связан с французскими Бурбонами родственными узами, в то время как Карл IV, подписав четвертого августа мирный договор с Конвентом, тем самым как бы узаконил все постановления, которые вынес Конвент.
Что касается Северной армии, воевавшей с австрийцами, то она взяла Ипр и Шарлеруа, выиграла сражение при Флёрюсе, отвоевала Ландреси, захватила Намюр и Трир, отвоевала Валансьен, овладела крепостью Кревкер, городами Ульриком, Горкоммом, Амстердамом, Дордрехтом, Роттердамом и Гаагой.
Наконец произошло нечто неслыханное, что еще не встречалось в красочной летописи французских войн: голландские военные корабли, застрявшие во льдах, были взяты атакой гусаров в конном строю.
Этот необычный подвиг, который, казалось, был капризом улыбнувшейся нам судьбы, повлек за собой капитуляцию Зеландии.
II. ВЗГЛЯД НА ПАРИЖ – «НЕВЕРОЯТНЫЕ»
Все эти успехи наших армий отражались на Париже: Париж, близорукий город, всегда обозревавший лишь узкие горизонты, разве что какой-нибудь великий народный порыв выводит его за рамки материальных интересов; Париж, уставший смотреть на кровь, лихорадочно бросился в вихрь развлечений, помышляя лишь о том, чтобы отвлечь свое внимание от театра военных действий, какой бы славной для Франции ни была драма, которую там разыгрывали.
Большинство артистов Комеди Франсез и театра Фейдо, сидевшие в тюрьме как роялисты, после переворота 9 термидора вышли на свободу.
В Комеди Франсез и театре Фейдо публика яростно рукоплескала Лариву, Сен-При, Моле, Дазенкуру, мадемуазель Конта, мадемуазель Девьенн, Сен-Фару и Эллевью. Зрители ринулись в театр, где начинали освистывать «Марсельезу» и требовать «Пробуждение народа».
Наконец стала появляться «золотая молодежь» Фрерона.
Мы все время говорим о Фрероне и «золотой молодежи», не представляя достаточно четко, какими они были на самом деле.
Расскажем же об этом.
Франция знала двух Фреронов.
Один из них был порядочным человеком, честным и строгим критиком; возможно, он заблуждался, но, по крайней мере, его заблуждения были чистосердечными.
Это был Фрерон-отец, Эли Катрин Фрерон.
У другого не было ни стыда ни совести; единственной его верой была ненависть, единственной движущей силой – месть, единственным богом – корысть.
Это был Фрерон-сын, Луи Станислас Фрерон.
На глазах отца прошел весь XVIII век.
Будучи противником любых нововведений в искусстве, он обрушивался на все литературные новшества во имя Расина и Буало.
Будучи противником любых политических новшеств, он обрушивался на них во имя религии и королевской власти.
Он не отступил ни перед кем из гигантов современного философизма note 13. Он нападал на Дидро, полуаббата, полуфилософа, явившегося из своего города Лангра в сабо и простой куртке.
Он нападал на Жан Жака, приехавшего из Женевы почти без одежды и денег.
Он нападал на д'Аламбера, подкидыша, найденного на церковной лестнице и долгое время звавшегося Жан Лерон, по названию церкви, на ступеньках которой его нашли.
Он нападал на знатных вельмож по имени Монтескье и г-н де Бюффон. Наконец, пережив гнев Вольтера, попытавшегося ранить его своими эпиграммами, убить сатирой «Бедняга» и раздавить комедией «Шотландка», он встал на ноги и бросил ему в лицо в разгар его триумфа: «Помни, что ты смертен!»
Фрерон-отец умер раньше двух своих великих противников – Вольтера и Руссо – в 1776 году от приступа подагры, вызванного закрытием его журнала «Литературный год».
Журнал был оружием этого борца, палицей этого Геркулеса; лишившись оружия, он не захотел больше жить.
Сын, чьим крестным отцом был король Станислав и соучеником – Робеспьер, испил до дна горечь, которую общественное мнение подливало в отцовскую чашу.
Множество оскорблений, собравшихся за тридцать лет над головой отца, обрушилось на голову сына лавиной позора; его безбожная и вероломная душа не смогла этого вынести.
Отец был непобедим благодаря своей вере в то, что он свято исполняет свой долг.
Сыну же нечего было противопоставить людскому презрению, которое подавляло его, и он стал жестоким; его презирали несправедливо, ибо он не отвечал за поступки отца, и тогда он решил заслужить ненависть по праву. Лавры Марата, выпускавшего газету «Друг народа», не давали ему покоя. Он создал газету «Оратор народа».
Робкий по характеру, Фрерон не ведал предела жестокости, так же как не ведал предела собственной слабости. Когда его послали в Марсель, он держал в страхе весь город. Каррье топил людей в Нанте, Колло д'Эрбуа устраивал расстрелы в Лионе; Фрерон в Марселе превзошел всех: он расстреливал людей из артиллерийских орудий.
Как-то раз после очередного залпа он решил, что некоторые из осужденных упали вместе с теми, кто был убит, и прикинулись мертвыми; у него не было времени выискивать уцелевших, и он вскричал:
– Пусть те, кто еще жив, встанут: родина их прощает. Несчастные, которые остались целыми и невредимыми, поверили его словам и поднялись.
– Огонь! – приказал Фрерон.
Орудия дали еще один залп, и на сей раз они потрудились на славу: никто больше не вставал.
Когда он вернулся в Париж, город был охвачен порывом к милосердию; этот друг Робеспьера стал его врагом: якобинец Фрерон сделал шаг назад и оказался среди кордельеров, почуяв приближение 9 термидора.
Он стал термидорианцем вместе с Тальеном и Баррасом, выступил против Фукье-Тенвиля, посеял, подобно Кадму, зубы змеи, что зовется Революцией, и тотчас же все увидели, как из крови старого режима и из грязи нового показалась поросль «золотой молодежи», вожаком которой Фрерон стал и которая взяла его имя.
Эта «золотая молодежь», в противовес санкюлотам, носившим короткие волосы, прямые куртки, брюки и красный колпак, носила либо длинные косы, как во времена Людовика XIII, которые именовались «каденетками» в честь придумавшего их Кадене, младшего сына Люина, либо волосы на косой пробор, ниспадавшие на плечи (их называли «собачьими ушами»).
Они снова ввели в моду пудру и обильно посыпали ею прическу, приподнятую с помощью гребня.
Как повседневную одежду они носили очень короткие рединготы и короткие штаны из черного и зеленого бархата.
В парадном костюме сюртук заменялся светлым фраком прямого покроя, застегивавшимся на уровне груди, с фалдами до икр.
Муслиновые галстуки были пышными и чудовищно накрахмаленными .
Жилеты шились из пике или белой бумазеи, с большими отворотами и бахромой; две часовые цепочки свисали поверх коротких жемчужно-серых либо ярко-зеленых атласных штанов, доходивших до середины икры, где они застегивались на три пуговицы и заканчивались множеством оборок.
Шелковые чулки желтого, красного или синего цвета с поперечными полосами, туфли-лодочки, тем более изящные, чем более открытыми и узкими они были, а также складной цилиндр под мышкой и огромная трость в руке завершали костюм «невеоятного».
Почему же насмешники, нападающие на любое новшество, звали этих людей, составлявших «золотую молодежь», «невеоятными»?
Мы сейчас ответим на этот вопрос.
Чтобы отличаться от революционеров, было вовсе недостаточно сменить костюм.
Следовало также изменить язык.
Грубый говор 93-го года и демократическое обращение на «ты» надлежало подменить слащавым языком; поэтому вместо того, чтобы произносить «р» раскатисто, как учащиеся современной консерватории, «р» полностью упразднили, так что во время этого филологического переворота этот звук едва не канул в Лету, подобно дательному падежу греков. Язык сделался бескостным и лишился силы; вместо того чтобы давать друг другу, как прежде, «прраво слово», делая упор на согласные, теперь ограничивались тем, что давали «паво слово».
В зависимости от обстоятельств, давали просто «паво слово» или повторяли его дважды; когда та или иная клятва была дана, собеседник, будучи слишком воспитанным, чтобы оспаривать слова другого, с целью обратить внимание на то, во что было трудно или даже невозможно поверить, ограничивался восклицанием:
– Это невеоятно!
Другой же ограничивался тем, что отвечал:
– Паво слово, паво слово!
После этого уже не оставалось никаких сомнений.
Вот откуда произошло прозвище «невероятные» (в искаженном виде – «невеоятные»), которым наградили господ из числа «золотой молодежи».