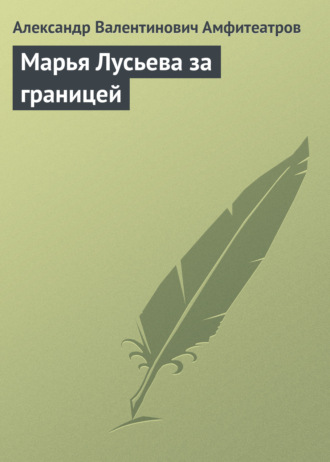
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
– С чего же ты это, дура ты неестественная?
– Да, они меня заперли: скучно стало. Девять-то месяцев в одиночку сидеть.
А это, правда, есть такой обычай в северной Италии: беременную девушку держат в ее комнате строгою одиночкою до самого разрешения от родов, – там ее и кормят, как узницу; если надо выйти, Боже сохрани, чтобы она повстречала не то, чтобы кого-нибудь чужого, но даже своих домашних мужчин.
А о женихе говорит:
– Если бы он еще скоро службу кончал, а то еще три года, да на вторичный срок его сманивают остаться. А я себя теперь узнала. Я не хочу так долго ждать. Молодость-то одна.
А другие ждут по пяти, по восьми, по десяти лет! Обручатся в семнадцать, замуж выходят под тридцать. Знаете, конечно: нигде нет таких старых старух, как в итальянских деревнях, – все восемьдесят-девяносто лет, а то и все сто. В чем бы душе держаться, а она еще работает и никогда ничем не болела вообще, а о существовании женских болезней и нервов только от правнучек узнала. Спрашивала я одну такую:
– Скажите, бабушка, отчего это вы и все ваши ровесницы – такие богатырки, а нынче, что ни женщина, то нездоровая?
– А это, – говорит, – внучка, от двух причин: от Америки и от воинской повинности. Америка и солдатчина лишают девушек женихов и выходят они замуж перестарками, рожают трудно, после родов болеют, кормить сами не хотят, от вторых, третьих родов бегают, как от галер, средства принимают… оттого и старухи прежде времени. Я замуж пятнадцати лет вышла, с мужем-покойником сорок годов прожила, двадцать две штуки детей принесла и только на шестьдесят первом году перестала себя женщиною чувствовать, старость подошла и знак дала, что будет мол! исполнила свое! И вот сейчас мне семьдесят восьмой год, а я по дому ворочаю всякую работу не хуже любого мужика. А внучка у меня в невестах семь лет просидела, покуда жених в Аргентине капиталы сбивал, – приехал оттуда хромым бесом, – проверяй его, отчего охромел, – говорит, будто ревматизм… Пятый год женаты, один ребенок – девчонка хиленькая, гниленькая, а больше – ни-ни-ни! Закаялись! Да оно и впрямь, пожалуй, лучше, чем этакое увечье родить. А он-то – хворый, кашляет, а она-то – хворая, кровью истекает и каждый месяц ноги у нее отнимаются то на три дня, то на пять. Тридцати годов бабочке нет, а уже старуха в морщинах, – и лицо – как земля.
Хотите, я дам вам верную примету тому, попала ли итальянка в проституцию, как в промысел или по несчастию? Это надо соображать по мере ее красоты. Если красавица, – наверное, по несчастию: свихнулась как-нибудь, бедняжечка. Если только недурна собою, а то и некрасивая, даже уродливая, – промысел.
– Казалось бы, что скорее надо ждать наоборот, – заметил Матвей Ильич.
Фиорина сделала итальянский отрицательный жест указательным пальцем пред лицом своим.
– Нет. Красота итальянских женщин – большой всемирный предрассудок. Правда, что в Италии вы можете встретить время от времени всесовершенную красавицу, но общий уровень женской толпы, мало сказать, средний, а ниже среднего. Куца же сравнить с Парижем, с Веною, с Будапештом. Там, наоборот, исключительная красавица – редкость, но весь уличный тип, средняя женщина – прелесть. Опять-таки говорят, что когда-то итальянская толпа была молода и красива. Не знаю, куца это девалось, но сейчас она старая и чахлая. Должно быть, молодость и красота тоже уплыли в Америку, куца, к слову сказать, и песни ушли, и мандолины. Сейчас Италия молчит. Красоту женскую здесь любят и ценят по-прежнему, но ее нет, и потому, когда она расцветает, как нечаянная роза среди опустошенного сада, ее берегут в сто глаз и за нею ухаживают, как за мечтою. Чтобы красавица не нашла себе хорошего мужа, надо какое-нибудь совершенно специальное препятствие, не зависящее даже от ее материального положения. Я могу показать в Генуе на рынке торговку, мать красавиц-дочерей, из которых две замужем за богатыми англичанами, а третья – за знаменитым художником-французом; растет четвертая и – Бог знает, кого она поймает, русского князя или какого-нибудь из своих принчипе, потому что хороша уже, как молодая чертовочка, даром, что мать ее водит в тряпках. «Сестры Рондоли» – знаете, есть такой рассказ у Мопассана – только тем грешат против правды, что Мопассан изобразил их красавицами. Красавицу буржуазная семья, как Рондоли, никогда в промысел не пустит. Это – брачный товар. Если проститутка – красавица, знайте заранее, что это дочь какой-либо опозоренной семьи, которую даже чужая сторона не могла избавить от погнавшейся за нею дурной славой. Либо – жертва одной из любовных трагикомедий жениховства, о которых я вам рассказывала. Либо – старая дева, которая, любуясь собою в зеркало и разбирая женихов, доважничалась до того, что молодым – стара, за старика – не хочется, и вот, пожалуйте, ползут роковые годы, не угодно ли делать прическу святой Екатерине? Беснуются они на переломе этом, – ну и свихиваются, а раз свихнулась, что же ей себя жалеть-то? Грех, так уж грех до конца, покаюсь, мол, уж за все сразу вместе, но, по крайней мере, остаток молодости проживу в свое удовольствие. Словом, красавица в проституции – случай, недоразумение.
Деревня выгоняет на городскую улицу своих слабейших, которые ей не пригодны как работницы, но в городе, покуда улица не надорвет их работою или развратом, они оказываются сильнейшими и самыми свежими. Мужчины юга – пребольшие-таки скоты. Когда-то они, говорят, рыцарями были, но это, должно быть, давняя история и, во всяком случае, к нашей сестре они без всякого рыцарства подходят. Русский, англичанин, даже немец всегда норовят, даже у проститутки, сочинить себе что-то похожее на любовь, иллюзию красоты выдумать. Здесь – ничего подобного. Знаете, как итальянец определяет красивую женщину? Blonda, grande, grassa – блондинка, большого роста, жирная. И какая бы морда ни подошла под эти три условия, у нее будут поклонники, смею вас уверить. Красота – последнее, что от нас требуется. Над мужчинами, которые ищут проституток-красавиц, товарищи их даже смеются, как над идеалистами, и даже, простите меня, как над… недостаточно сильными мужчинами: какой же, дескать, ты самец, если даже продажною женщиною не можешь овладеть без возбуждения красотой? Нигде мы не чувствуем себя живыми машинами пола в большей мере, чем на Средиземном юге. Ну, и только действовала бы машина, а раз действует, то эстетические соображения – второстепенность, это – для прихотников и расточителей, швыряющих деньги, как сор. Вы видели вчера Мафальду. Как вам показалось это чудовище? Однако у нее есть свои гости, и между ними я могла бы назвать несколько крупных коммерсантов, с годовым доходом в десятки тысяч франков, которые идут к Мафальде, а не к… ну, хотя бы к Ольге Блондинке, которую вы тоже знаете, только потому, что Ольге надо заплатить двадцать франков, а Мафальда довольна будет и десятью. Я вам искренно говорю: нет такой противной женской твари, которая не могла бы торговать собою в этой стране красоты и не нашла бы покупателей. А если бы вы видели, какими прелестницами обслуживаются провинциальные итальянские городки. То, что Милан, истаскавши до совершенной непригодности, вышвыривает вон, как грязную тряпку, подхватывают Александрия, Тортона, Брешия. У меня во Флоренции была девчонка на посылках: горбатая, косая, хромая, с рожицей обезьяны и в копне грязнейших волос, из-за которых и пришлось ее уволить, потому что вечно я боялась, что с нее переползет на меня зверюка какая-нибудь. Прошло пять лет, и я встретила мою Миреллу в галерее, одетую, как барышня. Оказывается, что все эти пять лет она «работала» в Эмполи, – это маленький городишко в Тоскане, узловая станция от Пизы на Флоренцию и Сьенну, – и настолько нажилась, что вот, слава Богу, выходит замуж за альбергаторе и открывает вместе с ним свое собственное заведение. А Эмполи, к слову сказать, как вся эта часть Тосканы – холмы Сьенны и Val d'Eisa[101] славится красотою своих женщин и чувствительностью своих мужчин. Что поэтов оттуда вышло! художников! артистов!.. То-то вот и есть. Все эти здешние Ромео таковы. Серенаду поет пред окнами Джульетты, а, напевшись, отправляется far Pamore к Мирелле и нисколько не смущается тем обстоятельством, что у нее одно плечо выше другого и одна нога короче другой, и не только на Джульетту, но даже на человеческое существо-то она еле-еле похожа… Как в них все это совмещается, – сколько лет с ними живу и путаюсь, не пойму. Должно быть, надо особую душу иметь.
XIV
– Скажите, Фиорина, – начал Матвей Ильич, когда автомобиль остановился на Corso и высадил седоков своих у лучшей миланской Теа Room[102]. – Скажите, Фиорина: вот вы отрицаете возможность широкой организации торговли проститутками, а между тем об этом сейчас все говорят и пишут; в Америке – это парламентский вопрос, разоблачаются целые тресты…
– Я в Америке не была и не знаю, как там. Читать в газетах и слыхать приходилось ужасы. Да я и для Европы не отрицаю совершенно сообщества и соучастия торговцев живым товаром, но одно дело – сообщество, хотя бы самое широкое, а другое – коммерческая организация, синдикат, трест, как вы говорите.
– Однако вы сами говорите, что огромное большинство торговцев живым товаром и агентов их знают друг друга?
– Боже мой! да какой же колбасник не знает, кто держит колбасную лавку в соседнем городе? Разумеется, знают. И сообщаются между собою. И женщинами меняются. Но все это не в грандиозных размерах, как пишут брошюрки и романы о белых рабынях, а самым что ни есть мелкобуржуазным манером – в тесной клиентуре, по соседству. Самые большие и широкие организации нашего дела я ввдела, – вы их знаете, – в России, в Петербурге. Здесь все это гораздо чаще, но мельче, – поставлено гораздо уже и теснее, по-мещански. Относительно же Америки у меня, когда я слышу, возникают сомнения вот какого свойства. Что торг туда девушками существует и большой, это несомненно. Но так ли он многотысячно велик, как о том рассказывают и пишут, этому – трудно верится. Уж очень огромен должен он быть для надобности в трестах, а между тем лишь очень дробно может он быть обслужен. Капли, конечно, делают дождь, но – сколько же нужно капель! Притом, когда капли делают дождь, он становится заметен, а дождю, о котором мы говорим, именно то и надо, чтобы остаться незаметным. Не думаю также, чтобы он снабжен был миллионными капиталами, как не думаю, что из него возможно быстро сделать миллионный капитал. По-моему, и сколько могла я наблюдать, это дело типически розничное и выгодное только в маленьких размерах и для прибыльщика небольшой фантазии, рассчитывающего нажить на затраченный скромный капитал процент далеко не сверхъестественный, но больший и скорейший того, что он в состоянии сделать на месте. Миллион всегда найдет себе помещение и более приличное, и более доходное. Если миллионер зафрахтует несколько пароходов просто для перевозки гальки с итальянского морского берега в Аргентину, где камень – ценность, это ему, без всяких неприятностей, рисков, больших предварительных затрат, даст гораздо большие шансы, чем заокеанский женский рынок.
– Не понимаю, почему?
– По самой простой причине: вы посчитайте, что стоит доставить девушку в Аргентину, не говоря уже о расходах по ее приобретению или заманиванию – словом, до парохода. Подобный товар ведь эмигрантским порядком не повезешь, иначе он в таком виде придет, что не найдет потребителей. Надо хорошо везти, хорошо кормить, хорошо одеть. Торговля запрещенная, за нею следят. Какие бы добрые отношения ни были у агента с пароходной компанией, ни один капитан не согласится принять на свой пароход настолько значительную партию женщин, чтобы она производила впечатление стадное – живого товара. Да если бы и согласился, это значит – иметь в каждом порту полицейские скандалы, которые – даже в том случае, когда будут кончаться благополучно, – обойдутся дьявольски дорого. Вообразите себе, что вы везете пять женщин, ну, десять, из которых каждая обошлась вам со всем: с ее приобретением и перевозом, даже только в две тысячи франков. Это я кладу самое малое. В Буэнос-Айресе вы должны будете или поручить их другому комиссионеру, или быстро сбыть. В том и другом случае вы теряете. Быстро сбывать – дешево отдать, поручить комиссионеру – уступить ему львиную долю прибыли. Ждать цен – трудно: живой товар не только ест и пьет, но и помещение ему нужно пристойное, и одевать его надо так, чтобы не ударил лицом в грязь. В конце концов, если за каждую женщину агент выручит 3000 франков, а это цена превосходная, то барышей он возьмет франков 500, – не более, а скорее и чаще, – менее. На пять, на десять женщин это составит от двух с половиною до пяти тысяч франков. Барыш как будто и недурной, но ведь это же, с возвращением, составит почти два месяца тропического путешествия и всяких рисков, не исключая желтой лихорадки. И сколько таких рейсов можно сделать в год? Ну три, ну четыре… ну, значит, заработок в десять, в двадцать тысяч в год. На маленький капитал – чего лучше желать, но разве это лестная приманка для миллионера?
– Однако в старину наживались же миллионы торговлею невольниками!
– Да, когда их можно было возить если не тысячами, то сотнями, причем на них не надо было ничего тратить в переезде, потому что они, как товар, сваливались в трюм. Этот двуногий скот, вероятно, приносил своим хозяевам выгоды много больше, чем четвероногий, которым и сейчас торгуют люди через Атлантический океан и тоже наживают миллионы. Потому что стоил он на рынке дороже, а места в трюме занимал вдвое или втрое меньше. Есть большая разница между тем, чтобы привезти на рынок тысячу рабов и получить за каждого из них по тысяче франков, и тем, чтобы привезти на рынок десять рабынь и получить за них даже по десяти тысяч франков, а таких цен не бывает никогда. И то, что я вам раньше-то считала, все брала очень широко и в преувеличениях.
– Странно! Читать приходилось совсем не то…
– Я знаю. Но подумайте сами. Жертвы международной торговли живым товаром – кто такие? Девушки из народа, с низов, так сказать, по преимуществу. Красавиц между ними очень мало вообще, а в международных транспортах в особенности, по тому же самому правилу, что я вам об итальянских проститутках говорила: если красавица, чем замуж выйти, продажною станет, так ее совсем не надо возить на рынок куда-то за тридевять земель в тридесятое царство. Она свою цену и в ближайшем большом городе оправдает. Значит, можно установить как общее правило: это – товар для массы, низший сорт. Что может заработать такая девушка в сутки? Двадцать-тридцать, ну сорок франков при особенном, праздничном счастье, ну вот там теперь юбилей и выставка, скажем – даже пятьдесят. Так, если хозяин платит за нее агенту 3000 франков, это значит: он, самое меньшее, даже при исключительном счастье торговли, два месяца должен возвращать только затрату свою, не считая того, что женщина обходится ему содержанием. А в большом портовом городе, – ну-ка, кто поручится, что привозная проститутка, два месяца спустя по приезде, не очутится уже в больнице? Учтите характер рынка, цены и риск и увидите, что 3000 франков – сумма, которую, поклонившись, берут. Так что эти легенды о громадных деньгах, которые будто бы платятся за привозных белых рабынь, надо оставить. Это все равно – как прежде про Англию шла такая слава, что там какие-то лорды тратят безумные капиталы на то, чтобы покупать невинных девушек. Они и есть, и тратятся, но не так их много, и не так они безумно щедры, чтобы им принадлежал рынок. Если бы оно было так, то, я вам скажу, по-моему, надо было бы спасибо сказать, что оно так, а не хуже. Потому что, когда развратнику нужно истратить сотни фунтов стерлингов на то, чтобы купить невинность и гарантировать себя от судебных последствий, это еще половина горя для страны. А вот когда невинность сама предлагается к продаже за маленький золотой, как я в России видела, или за гинею, как вы можете в Уайтчапеле в любое время получить, – это чудовищный показатель, от которого не отделаешься рассуждениями ни о психопатии тех, кто покупает, ни о корыстности и порочности тех, кто продается и продает. Тут нищета работает, а – где много нищеты, разврат и не дорог, и становится общепринятым. Из предложений нищеты и растущего спроса на разврат выползает местная проституция, туземная. Ее конкуренцию тоже учитывать надо. Вон – читала я в газетах: немецкие проститутки митинг собрали и постановление вынесли – ходатайствовать, чтобы иностранкам было запрещено промышлять в Германии. Уж правильно ли, нет ли ходатайство, но, конечно, иностранки и туземные всегда друг другу мешают. Иностранка завидна туземным потому, что идет на рынке дороже, но настоящую свою высокую цену и иностранка, при туземках, взять не в состоянии. Потому что, – скажем, – когда есть выбор между пятью франками и франком, то пять франков еще иногда побеждают франк, но, если выбор между франком и десятью, то побеждает всегда франк. В Буэнос-Айресе местная проститутка идет с гостем за пезету (98 сантимов). При такой конкуренции – может ли очень дорожиться проститутка привозная? Конечно, нет. А если нет, то дешевеет и она для хозяина, как закабаленная невольница, превращается в дешевый товар. Пятифранковиками-то три тысячи франков не скоро выберешь. За пятифранковым-то гостем погоняться надо, а то он к пезете уйдет.
– Вы опять говорите о низших классах проституции, – прервал ее Иван Терентьевич. – Но ведь в так называемых аболиционистских романах героиня – всегда интеллигентная девушка – гувернантка, лектрисса, – обманом затянутая в сети торговцев… Ведь не можете же вы сказать, что этого не бывает?
Фиорина возразила:
– Что это бывает, тому наилучшее доказательство – я сама. Бывает – и гораздо чаще, чем думают. Но опять-таки, с полной искренностью и даже с самообвинением, скажу вам, что бывает не так, как думают. Тут возможны два случая. Если сбившаяся с пути истинного интеллигентная девушка, под влиянием угроз, соблазнов, собственного раздумья и расчета, соглашается торговать собою, – вот как я согласилась, – то купцам живого товара нет никакого расчета делать из нее рядовую проститутку, а гораздо выгоднее превратить ее в оброчную статью, на положении, что называется, «камелии»: устроить ее содержанкою к богатому человеку, обязав сперва срочными векселями, либо – так, как меня держали в когтях наши питерские ведьмы, Рюлина и Буластиха, – эксплуатировать бережно, дружественно, на спрос богатого и тонкого разврата. Но если такая девушка энергично держится за свою добродетель и не может быть обращена в проститутку высокого разряда, скажем, в Милане, то я не знаю, какой расчет ее собственнику тащить ее в Буэнос-Айрес? Риска с такими привилегированными пленницами для торговца вдесятеро больше, расход на них тоже много значительнее, а в конце концов, он должен сбыть ее не только, как рядовую проститутку, но еще и куда-нибудь в глушь, далеко от центров и возможности обратиться к консульской защите, – следовательно, лишь бы взяли, за – что дадут. Исключения, конечно, возможны и, может быть, бывали. Однако я – жертв обмана и жульничества, падших по насилию сводников и коварству сводниц, среди подруг моих знаю сотни и сама такова; но в благородную проститутку-узницу, насилуемую изо дня в день десятками гостей чуть не целые годы и, по очереди, чуть ли не во всех странах Европы и Америки – я, должна сознаться, очень плохо верю. По железным дорогам Европы и на ее пароходах кота в мешке тайно не провезешь, клетку с птичкой скрыть нельзя. А ведь если верить романам, то чуть ли не с каждым поездом везут какие-нибудь злодеи какую-нибудь узницу. Да ведь разинь только рот узница – крикнуть и позвать на помощь, – злодеям-то из вагонного окна или через борт прыгать надо, потому что публика растерзает их судом Линча.
Она подумала и оговорилась.
– Есть в Европе одно исключение: Константинополь и весь ближний Восток. Там, благодаря тайне гарема, действительно, черт знает, что можно делать с женщинами, и торговец живым товаром плавает там, как рыба в воде. В особенности часто страдают от проходимцев этих русские еврейки. Это – вечная история: является в Белую Церковь, или в Шполу, или в Умань какой-нибудь молодчик заграничного воспитания, в венских костюмах, столь модный, что уж и на жаргоне даже не говорит, тянет время в городке, будто обделывает какой-нибудь гешефт, а сам приглядывается к девицам покрасивее и, наконец, которой-нибудь делает предложение. Обыкновенно намечает так, чтобы у невесты сестра была тоже недурна собою. Затем – или предсвадебная прогулка, или свадьба и свадебное путешествие. Молодой супруг – такой добрый – не хочет разлучать двух любящих сестер, великодушно соглашается, чтобы младшая приняла участие в их поездке, берет расходы на свой счет: богач же! большой пуриц! Провожают его из местечка за границу, как царя Соломона во всей славе его… Затем об отъехавших ни слуху ни духу. А месяца через три-четыре родители узнают, что их дочери чудесно проданы в «гарем» в Смирне, Бруссе, Каире, Александрии, и – присылайте денег на выкуп! «Гарем» – это пустяки. Может быть, когда-нибудь и было, но давно. Нынешние турки осторожны с франками и путаться в темные истории не любят. «Гаремы», в которые попадают эти жертвы несчастья, просто публичные дома с восточною физиономией – для туристов, достаточно доверчивых, чтобы в обстановке «гарема» заплатить тысячу франков за женщину, которой, без этой обстановки, он не согласится дать и двадцать. Фиорина засмеялась.
– Вы бывали в Константинополе?
– Нет, не случалось.
– Вот то город! Один в Европе… Что там с англичанами «жолифамщики» проделывают, – уму непостижимо.
– Кто?
– «Жолифамщики» – это наши русские моряки так прозвали тамошних «макро». Это – бич Константинополя. На каждом углу Перы вас подстерегает «жолифамщик». У каждого бойкого кафе вы замечаете сомнительных, – не то приличных, не то прямо из острога, – господ в фесках, с пронырливыми острыми глазками буравчиком и с готовностью за один наполеон сделать какую угодно мерзость – украсть, отравить, изнасиловать, что хотите. Это даже не наши рикоттары или парижские сутенеры, – это что-то хуже, «зверее». Они выныривают из каких-то подворотен, будто из-под земли; вы еще не видите самого жолифамщика, а уже голос его шепчет над самым вашим ухом: «Volez vo jolli femme?»[103]
Если его отправляют к черту, он не смущается – и лишь переходит на тот язык, по-каковски его обругали. Обругают на другом, и он на другой, обругаются на третьем, – на третий. Говорит на всех диалектах одинаково скверно и одинаково бойко. Нет формы разврата, которой не предложил бы вам жолифамщик – и, что всего курьезнее, вовсе не тоном змия-искусителя, нет, наоборот, самым деловым, озабоченным, арифметическим, можно сказать, тоном:
– Я видел, синьор, что к вам подходил Яни. Пошлите его к черту: это грязная дрянь, дурак. Что он знает? Что у него есть? Вся его клиентела – три паршивые гречанки, из которых у одной, – клянусь святою Ириною! – злейшая чахотка, а у другой муж-шантажист и любит делать скандалы… Что касается третьей, то не поздравляю я ваших детей, синьор, с наследством, которое вы им оставите, если близко познакомитесь с этою особою. А я, синьор, я моих клиенток даже не хвалю! Я только говорю: пойдите и взгляните. Да! И вы тогда поймете, какой человек Насто, и не захотите знать никого другого. И я не прошу никаких денег: деньги – если синьору что-нибудь понравится, деньги после. Пусть синьор только взглянет… Отчего вам не взглянуть, синьор? Ведь это вас не разорит – взглянуть ничего не стоит.
Люди беспардонные и опасные. Если вы не ищете приключений, то их надо обходить далеко; глухое молчание в ответ на их жужжащий шепот над ухом – единственное действительное средство от них отвязаться. Он лопочет, а вы молчите, молчите. Отстанет. Разве что дерзость скажет вслед. А уж если вы плотию слабы и пойдете на соблазны жолифамщиков, то надо с ними держать не только ухо востро, но и кулак, и револьвер наготове. Следуя за этими волками в их трущобы, как раз попадете в ловушку, откуда выйдете либо без кошелька и часов, либо вовсе не выйдете, либо придется, в счастливом случае, прокладывать себе дорогу револьвером. Так как главный элемент, на который рассчитывают константинопольские мерзавцы, торгующие живым мясом, – восточные человеки: греки, персы, армяне, левантинцы, – то и главный товар жолифамщиков – несовершеннолетние девчонки. Их дрессируют на «ремесло» с семи-восьми лет и – лет в одиннадцать – продают и пускают в дальнейший оборот. Проститутки двенадцати-тринадцати лет – самое обыденное явление в Константинополе. И такое преждевременное развращение детей даже не преследуется ни полицией, ни законом. Да и у самих-то этих несчастных – ни малейшего стыда и сожаления к себе. Напротив. Жутко вспомнить, какие сцены видать приходилось. На одной лестнице с моею квартирою такой притон был – для малолетних. Там дальше четырнадцати лет не держали: старуха! – перепродавали в Галагу, в низший разряд. Придешь к ним, бывало, – сердце вчуже надрывается: словно детская, дортуар приходской школы какой-нибудь… В куклы же играют! вы поймите… И в то же время вот этакая десятилетняя крошка, с глазами, как кофейные чашки, разыгрывает роль премьерши, знаете, этакой и бесстыдничает, как взрослая, и полна самодовольнейшей гордости собою – тем, что «я уже женщина…» Хвастовство пороком – без всякого цинизма, а скорее наивное: вот, мол, какая я умница! si jeune et si bien dêcorbe!..[104] На севере, даже и у нас в Италии, где этот порок тоже свирепствует, – видели же вы вчера маленькую Аличе! – я ничего подобного не наблюдала. Здесь все-таки понимают, что преждевременно начать свою половую жизнь для женщины великое несчастие, которое не пройдет даром ни для души, ни для тела. Там – словно знак отличия! В европейской малолетней проституции только совсем отчаянные и одичалые не несчастны – если не открыто, то хоть в глубине души. Малолетняя проститутка-левантинка – маленький зверь, которого только корми сластями да одевай поярче, и – делай с ним, что хочешь: ему все равно! Если вы видите несчастное лицо, знайте почти наверняка, что это пленница, то есть случайно заманутая в притон хохлушка или еврейка из Одессы, болгарка, македонка… Постоянный же контингент таких отравленных, загубленных бедняжек пополняется преимущественно гречанками и армянками. Современное армянское разорение бросило в ряды проституции множество женщин и детей из Азиатской Турции. Вот и моя Саломея этак-то завертелась. Отца и мать в Сассуне зарезали, а тетка продала…
Этот Насто, жолифамщик, которого я вам сейчас помянула, был парень прелюбопытный и находчивый. Он одно время работал при нас и рассказывал о себе вещи самые удивительные. Когда не везло и не было торговли, не унывал.
– Это, – говорит, – ничего, дурная полоса. Не первую переживаю. Зато, как привалит счастье да выпадет куш, – так целый месяц потом живу барином. Случается: дастся фортуна в руки, – вот и обеспечен на всю жизнь. Живи в своем конаке, принимай гостей, играй в рулетку. Жизнь – лотерея, M-lle Фиорина!
И что же? Выждал своего. Таки попался на его крючок богатый англичанин. Однажды приходит взволнованный и просит нашей помощи – от меня, Саломеи и еще одной. Дело в том, что клиент его, почтенный мистер Джон Буль, начитавшись Байрона, пожелал во что бы то ни стало иметь, романическое приключение в гареме, Насто, глазом не моргнув, пообещал:
– Можно.
А надо вам сказать, что это столько же можно, как укусить самого себя за ухо или поцеловать собственное темя. Но Насто тотчас гениально придумал все. С англичанина он содрал 150 фунтов – половину вперед, нанял за два меджидие на три дня какой-то заброшенный домишко в Стамбуле, меблировал его в восточном вкусе, то есть завалил полы вдоль стен мешками с сеном, покрытыми коврами, взятыми напрокат, – вот тебе и «гарем»! А женщин изобразили мы: я, Саломея и та третья, да негритянку из Скутари он привез для couleur locale[105]. Все мы получили по сто франков и были очень довольны. Только очень было смешно. Особенно, когда Насто привел англичанина, переодетого в женское платье и с завязанными глазами: строжайший же секрет! Англичанин, желая выдержать восточный характер приключения, не обратил ни малейшего внимания ни на меня, ни на ту третью, – не достаточно азиатскими мы ему показались! – и всю свою нежность направил на Саломею, причем с искренним восторгом принимал ее армянские любезности за арабский язык… Хохота нам было потом на много дней.
Не утерпел Насто, разболтал свою удачу. Яни, его соперник, сподличал, – донес об его плутнях милорду этому глупому Что же вы думали бы? Англичанин не только не пожалел истраченных денег, но, встретив Насто на Rue de Pera, даже не побил его палкой. Насто – вот прохвост! – прикинулся, что он совсем уничтожен великодушием милорда и собственною подлостью.
– Милорд! – говорит. – Я не могу так. Не хочу, чтобы меня мучила совесть. Вы слишком хороший человек. Я устрою для вас то, чего ни я, ни кто другой еще не устраивал для европейца. Те деньги ваши, к сожалению, уже погибли. Но угодно вам заплатить ту же сумму вторично – с тем, чтобы, на сей раз, побывать уже в гареме настоящем?
Англичанин говорит:
– Очень угодно. Только в настоящем.
– Вы будете в настоящем гареме! Но, милорд, одно условие: немедленно затем вы уедете из пределов Турции, потому что скрыть этого преступления нельзя, и вы будете зарезаны, даже хотя бы прятались за стенами британского посольства.
Англичанину то и мило. Итак, Насто дал ему честное слово, взял с него вторые деньги и… повторил с ним ту же проделку, только в другой части города и с другими женщинами. Англичанин уехал на родину, счастливый и довольный, а история его и посейчас притча во языцех и любимейший анекдот константинопольских гидов, макро и женщин.







