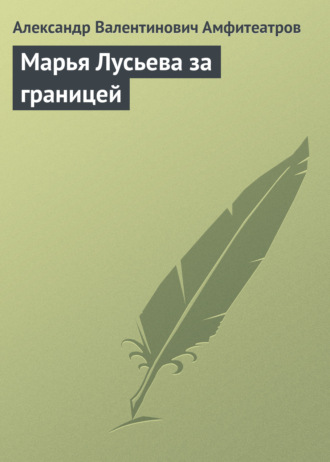
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
IX
– А мы здесь, без вас, перетряхивали старину, – сказал Фиорине Иван Терентьевич, когда она, элегантная, помоложенная темным, скромным туалетом и без малейшего следа красок на матовом, чуть желтоватом, как слоновая кость, лице, уселась к столику, – Матвей Ильич рассказывал мне вашу первую встречу…
– Мосье Вельский, – сказала Фиорина, – видел меня в самую решительную минуту моей жизни, когда я выдерживала страшное сражение за свою свободу… Сражение я выиграла и свободу получила, но – как видите: все равно, не к добру.
– Неужели вы сожалеете о тех днях, когда вас держала в золоченой клетке своей генеральша Рюлина или госпожа Буластова? – спросил Вельский, – подвигая к ней пестрый станок с вкусным набором всевозможных antipaste[58].
– Никогда!.. С тех пор не раз бывало мне очень скверно, я голодала, холодала, мне случалось продаваться за пять франков, чтобы достать себе обед, но никогда не приходила мне даже мысль в голову – вернуться в тот ужас… То рабство мне душу сгноило… Здесь, на воле, пусть я жалкая тварь, пусть я – для других – девка, но я сама-то себе человек, я в себе волю свою чувствую, я такая, потому что моя на то воля есть, и потуда, покуда есть моя воля… Там – кроме петли – некуда было. Вся жизнь твоя зажата в кулаке. Есть суеверие, что из всех детских смертей самая страшная, если ребенка свинья съест, потому что она-де не только мясо детское, но совсем все дитя, с душою, съедает. Вот так-то и нас, бедных, Рюлина и Буластиха с душою ели. Фузинати держит меня в когтях долга, но он не хозяин мой, а только кредитор, дерущий с меня адские проценты. Когда мне это надоест, я очень просто объявлю свое банкротство – и, сторговавшись с ним на нескольких тысячах франков, а может быть, даже и сотнях только отступного, буду на воле. Остаюсь у него, потому что предпочитаю иметь дело с ним, а не с другим, потому что он практичнее других, да и привыкла, насиженное место. Но – я остаюсь, а не меня в неволе держат. Меня сейчас заковать в цепи нельзя. Я видела все в жизни и ничего больше не боюсь. Ну суд, ну тюрьма… все это преходяще! Когда человек открыто становится déclassé, вы даже вообразить себе не можете, до чего он вдруг свободен оказывается, сколько отпадает от него ложных страхов, а вместе с ними, возможностей к его эксплуатации и угнетению. Даю вам слово, что Фузинати имеет в распоряжении гораздо больше внешних средств держать меня в рабстве, чем Рюлина или Буластиха. Я, вероятно, даже должна ему больше. Но я-то не та, что была. И посмотрите: он гнется предо мною, как лакей, а там меня мокрым полотенцем били – и я молчала. Увы! К сожалению, наша профессия такая, что в ней к самосознанию и к свободе можно переступить только через разрушенный стыд. Вся игра той большой, шелковой и бархатной, тайной проституции, в которой я томилась в Петербурге, рассчитана на психологию стыда и тайны. Если женщина проститутка, но желает остаться, в глазах людей, барыней или барышнею добродетельною, ясное дело, что тот, кто знает, что она проститутка, сделается ее полным хозяином и повелителем и заставит ее работать на себя, и не освободится она от власти его прежде, чем не откажется от показной стороны своей жизни и не откроет закрытые карты игры своей… Жизнь явной проститутки – жизнь потерянной собаки, бесконурная, бесприютная, с мучительными поисками валяющейся кости на улице и злой борьбой за кость, когда найдешь, – настоящая война против всего вашего милого общества, и вдобавок, война, в которой мы, горемычные, всегда бываем поколочены не только в моральном, но иногда и в буквальном смысле слова. Но бродячею собакой себя чувствовать я предпочитаю, чем быть безвольным скотом у яслей грубой и подлой захватчицы, которая до того тебя в тайне твоей порабощает, что, наконец, даже – тоже не в переносном, а в буквальном смысле слова – начинает ездить на тебе верхом… Да, да. Не смотрите на меня такими удивленными глазами. Это было в Петербурге. М-м Юдифь, тоже хозяйка, у которой был, под видом модного магазина, знаменитый дом свиданий, – женщина, в своем роде, литературная. Она вычитала в «Mémoires d'une danseuse russe»[59] – есть такой непристойный роман, который в Париже под портиками у Одеона из-под прилавков продается, – будто русские крепостные помещицы когда-то так забавлялись: устраивали домашние скачки, верхом не на лошадях, но на рабынях своих, которая быстрее бежит. Вычитала и рассказала Буластихе и Перхуновой. А эти милые хозяюшки – в первый же раз, что напились вместе, – не замедлили воспроизвести… К счастью, я была в то время в отъезде, на гастролях, а то и мне пришлось бы верховою лошадью попрыгать, как Жозе и Люське несчастным! А повторять игру не решились: оказалось невыгодно, потому что затем две перхуновских женщины и одна наша кровью закашляли… Вот какая была жизнь! Налейте мне вермуту, пожалуйста!
Я тогда из К. уехала большою победительницею, – рассказывала Фиорина, разбирая новомодным серебряным ножом вкусную морскую рыбу. – Скандал мой передался, конечно, в Петербург и произвел в мирке Буластих, Перхуних и Юдифей страшное волнение. Прелюбопытная среда в этом отношении. Нет более наглых, грубых, дерзких тварей, покуда все идет гладко и чисто на дорожке их, и никто не теряется так трусливо и подло при малейшем признаке грозы. Они вообразили, что теперь всем им – крышка. Струсили, как только эти госпожи умеют трусить. Сразу увидали себя разоренными – и под судом, и в тюрьме, чуть не в кавдалах и на каторге. Даю вам слово, если бы я тогда за отречение от показаний своих, за право объявить меня сумасшедшею, потребовала с них единовременно сто тысяч рублей, – они бы сложились и дали. Потому что понимали очень хорошо: это не одной Буластихи беда, – тут только за хвостик одной мышки ухватиться, так все ихние подполья и норки насквозь пробежишь, и весь клубок по ниточке сам собою размотается. Но я была глупа, не сообразила всей величины дела и, когда мне ваша госпожа Леневская предложила за молчание десять тысяч рублей и пожизненную выплату по 200 рублей в месяц, мне это показалось невесть какою огромною суммою, и я на том с ними покончила…
– Леневская! – перебил Матвей Ильич, – вот чего я решительно не понимаю: это – участия в вашем деле госпожи Леневской… Не могла же она быть компаньонкой вашей Булас-тихи и прочих промышленниц, ей подобных?
– Конечно, нет, – усмехнулась Фиорина. – Такая большая барыня!
– Тогда – как же?
– Да очень просто, не надо искать никаких пружин и гвоздиков, ларчик просто открывается. В К. у Буластихи агенты – некие Карговичи. Когда стряслась беда, они указали Анне Тихоновне на Леневскую: вот, мол, дама с влиянием и авторитетом, но совершенно без всякой совести, в делах запутана страшно, и неттакой минуты, когда бы она не нуждалась в деньгах, и нет такой услуги, которой бы она за деньги не продала, если в силах ее оказать. Не раз выручала разную темную публику, которая догадывалась к ней прибегать. Анне Тихоновне выбирать было некогда. Сейчас же забрала баронессу Ландио и – марш к Леневской вашей. Совершенно откровенно ей рассказала, в чем дело, и столь же откровенно предложила пять тысяч за хлопоты: выручайте, барыня! Поручитесь за нас! На десяти сторговались… вот вам и весь секрет! Нельзя проще. И тоже продешевила барыня! Дали бы и двадцать пять!
Когда я приехала в Вену, то ног под собою от радости не чувствовала! словно крылья ласточкины у меня за спиною выросли. Денег у меня множество, доходом на всю жизнь обеспечена, свобода полная, я еще молодая, мне тогда 25-й год пошел, – жизни впереди ах сколько! Страсть как хочется жить, и весело мне до бесконечности. Остановилась я не где-нибудь, но у Захера – против Оперы… Прожила месяц совершенно одна и – как в вихрь. Из театров не выходила, один день в опере, другой в драме, в Кайнца была влюблена, в Демута. Платьев себе нашила – дорогих, но, нарочно, скромных, таких, чтобы прошлого не напоминали. В конце месяца аккуратно принесли мне из Laenderbank'a[60] 520 крон, – исполняет, значит, свое обязательство госпожа Буластиха, и напоминать не пришлось! Больше того скажу вам, – признаться, я, впопыхах-то и радостях, даже и забыла, что должна получить эти деньги, потому что говорю же вам: богачихою себя чувствовала, капиталисткою, сам Ротшильд мне не брат.
Но именно эта присылка заставила меня оглянуться на месяц и подсчитать, сколько же у меня денег. Подсчитала и ахнула; умудрило меня спустить, за один-то месяц, больше двух тысяч рублей. Как я ни глупа была по денежной части, – ведь подумайте, я всю молодость в золоченых клетках прожила, на всем готовом, а в собственном личном распоряжении никогда сторублевой бумажки не имела – как ни глупа была я, но настолько-то у меня достало соображения и арифметики, чтобы сосчитать, что подобным манером я, три месяца спустя, останусь без грошика и, значит, при одних 520 кронах из России, да и то, если они будут и впредь высылаться аккуратно. А – что такое 520 крон – видела я теперь очень хорошо; 420 мне один мой номер у Захера стоил… Решила быть вперед благоразумной и нагонять экономию. Говорят, в Италии жизнь дешева и приятна. Живо собралась и поехала в Италию. Да угораздило меня тронуться в путь не с обыкновенным курьерским поездом на Понтеббу, а в train de luxe[61], Вена – Канн: заодно, мол, посмотрю французскую Ривьеру… Ну и посмотрела – известно что… казино в Монте-Карло!
Фиорина осмотрела застольников своих с видом комической жалобы и расхохоталась.
– Вы даже представить себе не можете, господа, как это быстро кончилось. В один какой-нибудь час я была голенькая, как мышка: все мои золотые скушали rouge et noir[62] – как в яму их бросила, без остатка… Очистила место… Что же теперь делать? – вышла… Насупротив ресторан, веранда, музыка… Гляжу: за столиком одиноко сидит русский знаменитый актер из Москвы… Видала я его на сцене. Кутили однажды вместе в компании одной – из коммерческой аристократии. Он сам большой барин… Толстый такой, носатый, haut de forme a huit reflets[63], лицо доброе, грустное… Обрадовалась я ему, как брату родному. Подхожу:
– Вы меня не узнаете?
– Нет, помню, что где-то как будто видались…
Ну, напоминать себя ему, я, конечно, не стала, а просто отрекомендовалась, как московская поклонница.
Пригласил к столику. Села. Сижу – как на иголках. Потому что надо мне у него денег попросить, – а как ее начнешь – с незнакомым-то человеком, который тебя где-то как будто видал, – этакую антрепризу? Но он, спасибо, сам помог, – опытный человек, насквозь видит.
– Проигрались?
– Совершенно.
– Видел я, как вы золотые швыряли… Только вмешиваться неприлично в чужую игру, а то следовало бы вас дернуть за локоть. Как дитя… Разве так здесь играют?
– А как же?
– Как… как…
И расхохотался.
– Не знаю, как, но во всяком случае так, как я, тоже не играйте. Потому что я за неделю здесь уже восемь-десять тысяч франков спустил без системы, теперь систему одну пробую… должно быть, остальные двадцать спущу.
Подходит к столику другой русский-черненький такой, в бородке, красивый господин, только лицом желт очень, улыбается прилично и равнодушно, словно ничто на свете уже не может его удивить, и говорит актеру:
– Представь себе: я сейчас чуть не сделался богатым человеком… Все на красной проухивал, – только что на черную перешел, ан, красная-то и вышла. Если бы выдержал характер, большой капитал бы загреб…
– А теперь? – спрашивает актер.
– А теперь не можешь ли ты мне дать un petit bleu?[64] Надо послать домой телеграмму, чтобы прислали денег на отъезд. Ну и покуда тоже существовать надо же как-нибудь? Будучи органическим существом, имею физиологические потребности.
– Нет, – отвечает актер, – пятидесяти франков я тебе не дам. И не потому, чтобы жаль или у меня их не было, но потому, что принцип: когда сам играю, денег взаймы не даю, – этак можно счастье взаймы отдать.
– Ну, братец, как ты играешь, от тебя скорее несчастье займешь. Был ли когда-нибудь случай, чтобы ты выигрывал?
– Да! Говори! А вот, может быть, именно в тех-то пятидесяти франках, которые ты у меня просишь, оно и сидит, мое счастье?.. Когда ты видал, чтобы игрок давал взаймы? Вот кончу свою серию, выиграю тысяч триста, – тогда бери не то что пятьдесят франков, но хоть пятьдесят тысяч.
– Спасибо, – говорит черненький, – к тому счастливому времени я сам рассчитываю быть в полумиллионе и, если хочешь, тебя смогу ссудить даже сотнею тысяч… А пока…
– А пока, если тебя уж так дочиста выпростали, можешь столоваться здесь за мой кредит. Он у меня безграничен… Привыкли, что езжу прогорать из года в год.
И оба хохочут, словно у них миллиарды в кармане. Так что с соседних столов унылые немцы какие-то, в бриллиантовых запонках, отдавшие рулетке франков по двадцати каждый, стали даже смотреть на наш стол с ненавистью.
Однако я, слыша слова актера, что, играя, он взаймы по принципу не дает, отдумала просить у него денег. Посидела для приличия несколько минут, встала, пошла в отель. Слышу:
– Барышня… послушайте… русская! – догоняет актер.
– Извините, – говорит, – я не хотел расспрашивать вас при товарище… Вы – как, passez le mot[65], продулись-то – совсем или с запасом?
Я пред ним только портмоне открыла:
– До дна. Ни грошика.
– А счет в гостинице оплачен? А билет обратный куда-нибудь имеете?
– Ничего не заплачено и никуда я не еду… Пусто. Покачал головою.
– Эх, пускают же сюда младенцев подобных… Полез в карман, достал бумажник, вынул сто франков.
– Взаймы я не даю, это счастье отнимает, – просто, так, – на отъезд, – сделайте одолжение… Возьмите!.. И уезжайте, немедленно уезжайте, – хоть недалеко, покуда куда-нибудь, в Геную, что ли, только бы вон из Монте-Карло, а то пропадете… Вы не смотрите, что мы все здесь такие веселые… Это хороший тон – проигрываться, как ни в чем ни бывало, и faire bonnes mines au mauvais jeu…[66] ну, и нервы… А бывает, знаете… похохочет этак человек с недельку, поострит над собою, поиздевается, а потом – и находят его где-нибудь в парке на скамье с виском простреленным или просто с головою размозженною – там вон под террасою… Понимаете? Смех – хорошая штука, только уж очень дорогим риском человек его здесь покупает… Имею честь кланяться! До свиданья. Уезжайте же – очень вас о том прошу!
Повернулся и ушел, даже поблагодарить себя не дал. Согрел он тогда душу мою, – спасибо ему. Хороший, добрый человек!
Сто франков, которые он мне дал, мне решительно ни к чему, впрочем, оказались, потому что ждал меня в отеле счет на 475. Ну – что же тут будешь делать? Понятно, возвратилась в казино и попробовала счастье отыграться в trente-et-quarante…[67] Как будто повезло, – по крайней мере, целый день, правда, просидевши, после бесконечных приливов и отливов по мелочам, своих не потеряла и еще два золотых лишних оказалось в портмоне. Вот какое счастье! А поутру в гостинице счет уже 522!
Горничная, востроносая этакая стерлядь, швейцарская француженка, пришла убирать комнату. Вступает в разговоры:
– Pardon, madame… Мадам, кажется, немножко играет? Вздыхаю.
– Какое там немножко… К сожалению, очень…
– Мадам не везет?
– Очень не везет. В пух продулась…
– Быть может, мадам имеет нужду в деньгах для игры? всегда можно достать…
– Где же это? Какой тут у вас припасен благодетель?
– У мадам есть хорошие вещи. Если мадам угодно, то кое что даже я сама купила бы, а на остальное найду покупщиков за самый маленький процент в мою пользу.
Очень жаль было, но – пришлось устроить дешевую распродажу. Платья, за которые две недели тому назад в Вене сама по сту гульденов платила, за двадцать франков шли… Наколочу таким манером сотенку – и в казино. Что выиграю, отель в счет берет. Выбраться нет никакой возможности, потому что – сколько ни сколько, но все-таки сдуру плачу. Иначе – давно выгнали бы. И было бы это, вероятно, к большому моему счастью, как всякое безвыходное положение для людей моего характера. Если стена пред тобою, а жить хочется, так волею-неволею выход найдешь или уж и сам не заметишь, как об стену разобьешься до смерти.
Допродавалась я до того, что только и осталось у меня платьишко, что на мне, – хорошее, чтобы в казино войти было возможно. А игра все по-прежнему: сегодня шестьдесят франков взяла, завтра сорок проиграла, послезавтра восемьдесят взяла, дальше шестьдесят проиграла, на разницу день прожила, задень задолжала, – тянется какая-то канитель засасывающая: ни тебя не пришибет сразу, ни тебя не вытащит из трясины.
В отеле, конечно, немедленно стало известно, как я распродалась. Управляющий на меня уже едва смотрит. Швейцар не шевельнется двери открыть. Прислугу звонишь-звонишь, прежде чем удостоит явиться. Морды у всех чванные, надутые… Понятно: капиталисты ведь все они. Им-то ведь играть нельзя: строжайше запрещено. Ну и золотит их, невинных агнцев, понимаете, осадок этакий от казино – и от выигрышей, потому что тогда шальные деньги им летят от обезумевших счастливцев, и от проигрышей, потому что тогда, вот вы видели, можно покупать у безумного несчастья за двадцать франков вещи, которые стоят двести с лишним. Я потом одно свое собственное платье назад купила у этой же горничной – и заплатила за него 110… Девяносто разницы! Высчитайте-ка, каков это процент, и можно ли при нем нажиться? И – каково же, в самом деле, подобным капиталистам служить мне, нищей? Они покупают, я продаю, они люди порядочные, я бродячая дрянь, а между тем они этой дряни – подай, убери, поди, принеси!
Актера, покровителя своего, издали видала, но бегала от него: совестно… Все равно, что украла у человека сто франков – обманула, не послушала его. Ну да вскоре он уехал в Россию. И черненький этот тоже вместе с ним… совсем, говорят, налегке улетели оба! едва выбрались!
В один прекрасный вечер в отеле устроили мне из-за ванны такую прелестную сцену, что я, уходя, решила: если выиграю сегодня, расплачусь с ними, – и ноги моей больше здесь не будет, перееду; если не выиграю, – просто не вернусь, лучше на улице останусь, пусть подбирают, кто хочет и куда хочет.
Ну не выиграла, конечно. Чистая – без сантима ушла… Ночи короткие, весенние. До рассвета бродила я по парку. Состояния своего нравственного описывать вам не стану. Что же? Конец. И надежд уже никаких нету, потому что самый ключ к ним теперь потерян. Не на что войти завтра в казино. Платье с себя продать, будет на что пойти, так зато будет не в чем войти… Заря встала. Море сиреневое. Прошла на бульвар. Села на скамью. Смотрю и думаю: «Третью неделю я здесь, а – как странно – ведь я впервые море вижу…»
Бродит мимо меня какой-то мужчина – громадный, бородатый, не слишком хорошо одет, – однако «господин», хотя и ужасно разбойничьего вида. Остановился, посмотрел. Глаза под котелком дикие, красные… Боюсь: не пьяный ли? обидит?.. Еще остановился… еще и еще… Я струсила и хочу уйти. А он вдруг – глухим и хриплым басом по-русски:
– Это вы, – говорит, – в самом деле или моя галлюцинация?
– Нет, – говорю я, очень удивившись так, что сразу и страх прошел, – это – я, в самом деле…
– Фу, черт возьми! Вот необыкновенность! Неужели Люлюшка? Рюлинская Люлюшка? Если да, то по какому же высокоторжественному случаю ты, дрянь, здесь?
Очень жаль было, но – пришлось устроить дешевую распродажу. Платья, за которые две недели тому назад в Вене сама по сту гульденов платила, за двадцать франков шли… Наколочу таким манером сотенку – и в казино. Что выиграю, отель в счет берет. Выбраться нет никакой возможности, потому что – сколько ни сколько, но все-таки сдуру плачу. Иначе – давно выгнали бы. И было бы это, вероятно, к большому моему счастью, как всякое безвыходное положение для людей моего характера. Если стена пред тобою, а жить хочется, так волею-неволею выход найдешь или уж и сам не заметишь, как об стену разобьешься до смерти.
Допродавалась я до того, что только и осталось у меня платьишко, что на мне, – хорошее, чтобы в казино войти было возможно. А игра все по-прежнему: сегодня шестьдесят франков взяла, завтра сорок проиграла, послезавтра восемьдесят взяла, дальше шестьдесят проиграла, на разницу день прожила, за день задолжала, – тянется какая-то канитель засасывающая: ни тебя не пришибет сразу, ни тебя не вытащит из трясины.
В отеле, конечно, немедленно стало известно, как я распродалась. Управляющий на меня уже едва смотрит. Швейцар не шевельнется двери открыть. Прислугу звонишь-звонишь, прежде чем удостоит явиться. Морды у всех чванные, надутые… Понятно: капиталисты ведь все они. Им-то ведь играть нельзя: строжайше запрещено. Ну и золотит их, невинных агнцев, понимаете, осадок этакий от казино – и от выигрышей, потому что тогда шальные деньги им летят от обезумевших счастливцев, и от проигрышей, потому что тогда, вот вы видели, можно покупать у безумного несчастья за двадцать франков вещи, которые стоят двести с лишним. Я потом одно свое собственное платье назад купила у этой же горничной – и заплатила за него 110… Девяносто разницы! Высчитайте-ка, каков это процент, и можно ли при нем нажиться? И – каково же, в самом деле, подобным капиталистам служить мне, нищей? Они покупают, я продаю, они люди порядочные, я бродячая дрянь, а между тем они этой дряни – подай, убери, поди, принеси!
Актера, покровителя своего, издали видала, но бегала от него: совестно… Все равно, что украла у человека сто франков – обманула, не послушала его. Ну да вскоре он уехал в Россию. И черненький этот тоже вместе с ним… совсем, говорят, налегке улетели оба! едва выбрались!
В один прекрасный вечер в отеле устроили мне из-за ванны такую прелестную сцену, что я, уходя, решила: если выиграю сегодня, расплачусь с ними, – и ноги моей больше здесь не будет, перееду; если не выиграю, – просто не вернусь, лучше на улице останусь, пусть подбирают, кто хочет и куца хочет.
Ну не выиграла, конечно. Чистая – без сантима ушла… Ночи короткие, весенние. До рассвета бродила я по парку. Состояния своего нравственного описывать вам не стану. Что же? Конец. И надежд уже никаких нету, потому что самый ключ к ним теперь потерян. Не на что войти завтра в казино. Платье с себя продать, будет на что пойти, так зато будет не в чем войти… Заря встала. Море сиреневое. Прошла на бульвар. Села на скамью. Смотрю и думаю: «Третью неделю я здесь, а – как странно – ведь я впервые море вижу…»
Бродит мимо меня какой-то мужчина – громадный, бородатый, не слишком хорошо одет, – однако «господин», хотя и ужасно разбойничьего вида. Остановился, посмотрел. Глаза под котелком дикие, красные… Боюсь: не пьяный ли? обидит?.. Еще остановился… еще и еще… Я струсила и хочу уйти. А он вдруг – глухим и хриплым басом по-русски:
– Это вы, – говорит, – в самом деле или моя галлюцинация?
– Нет, – говорю я, очень удивившись так, что сразу и страх прошел, – это – я, в самом деле…
– Фу, черт возьми! Вот необыкновенность! Неужели Люлюшка? Рюлинская Люлюшка? Если да, то по какому же высокоторжественному случаю ты, дрянь, здесь?
Тут я его узнала. Господин Бастахов. Богатейший[68] барин, коммерсант, из компании Фоббеля и Смерчевского, но он много превосходил их капиталом… Налетал к нам изредка из Москвы или провинции, и тогда начинался у Рюлиной такой пир горой, такой шабаш безумный, что, проводив Бастахова из Петербурга, мы все с неделю никуда не годны бывали – головою маялись. Однажды всех нас, четверых, ближайших рюлинских, – меня, Адель, Жозю, Люську, – он выписал к себе на подмосковную дачу, – инженеров каких-то он чествовал, с которыми дорогу, что ли, строил или другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум – исполин – на сто ведер – стекла саженные, зеркальные. Вот – однажды, ради инженеров этих – какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачал, а налил его белым крымским вином, русским шабли. Сам он и трое гостей кругом сели с удочками, а мы – Жозя, Люська, Адель и я – по очереди в аквариуме за рыб плавали. Удочки настоящие, только на крючках, вместо червяков, сторублевки надеты… Натурально, боишься, чтобы сторублевка не размокла в вине, ловишь ее ртом-то, спешишь, – ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта, ну а Люську больно царапнуло, а Жозе – так насквозь губу и прошло – навсегда белый шрамик остался… Зато каждая по четыре сотенных схватила. И уж пьяны же мы выбрались из аквариума – вообразить нельзя. Удивительное дело. Вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались, глотнуть пришлось немного. А между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала… мало-мало не захлебнулась…
Бастахов же стоит, руки в карманы и хохочет: – Мне, – говорит, – это – наплевать! – что шабли? Его ведро десять рублей стоит. Сто ведер – тысяча рублей. Нет, вот я в другой раз купанье из pommery sec закачу…
Другие его поддерживают:
– Что же сразу-то не закатил? Поскупился?
– Ничего не поскупился. Из одной эстетики. Так как шабли цветом белее, то – для прозрачности… А коль скоро ты сомневаешься в широте моей души…
Насилу его удержали. Потому что уже скомандовал было молодцам своим:
– Выкачивай шабли! Тащи шампанского!
Только тем и отговорили, что «рыбки» уже совершенно пьяны – «заснули» – и пускать их в шампанское больше нельзя: «играть» не смогут. И только вино испортят, а удовольствия никакого. Согласился.
– Хорошо! Значит, верите мне на слово, что я это могу?
– Верим! Верим!
– Ну, так знайте же, что я и еще больше могу!
С этими словами берет в углу оранжереи заступ или лом какой-то да – как развернется, хватит…
Дзззинь – гррр! Дзззинь – грр!.. Стекло из аквариума к черту, и хлынул винопад… Сотня-то ведер!.. Все потопил… Самого его, дурака, чуть не залило.
Гости бегут, ругаются, вино – по колено, тысячные растения пропали, нижние стекла в оранжерее напором вина высадило, во двор каскады полились… Что этот Бастахов себе убытку в одну секунду наделал, многими тысячами считать надо. А он хохочет и рад:
– Понимаете ли вы теперь меня? Я – сверхчеловеческий человек белокурой расы!
Между тем у самого бородища черная-пречерная: Пугачев живой!..
Редко когда-либо я видала Адель такою веселою, как когда мы ехали от этого Бастахова назад в Питер. Значит, уж чисто ограбила человека, – отвалил, не пожалел!..[69]
Ну-с, и после таких-то радостных забав вот где и в какой момент привелось увидаться. Подлинно уж, гора с горою не столкнется, а человек с человеком всегда встретится… Смотрю я на господина Бастахова и – сразу надеждами ожила, а с другой стороны, что-то он как будто мне страшен немного и как-то необыкновенно весел уж очень… Хорошо, если только пьян, а, пожалуй, что и не совсем в своем уме.







