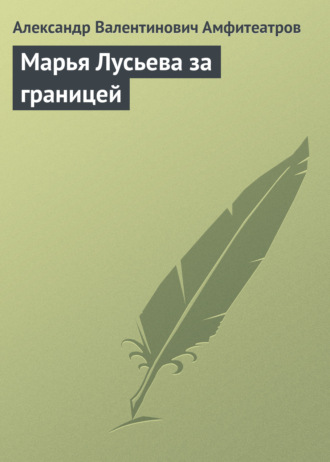
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
XV
– Как я вам уже говорила, я приехала в Константинополь большою барыней, с англичанином, которого я спасла от ножа своего рикоттара и который, в благодарность, едва на мне не женился, да я струсила и сбежала от него… Вот тогда-то Насто и подхватил меня, и пустил в оборот. Не думайте, что он был моим любовником. Для этого он был слишком восточный человек. В его clientelle[106], как это там у них, левантинцев, говорится, было до десятка женщин, и ни с одною из них он не состоял в близких отношениях. В Константинополе, как вообще в восточных городах, к которым в этом случае я отношу и Неаполь, самая выгодная на рынке живого товара, – торговля мальчиками. Однако Насто никогда этим делом не промышлял. Вы думаете: по совести? сознавал, что мерзость? Нет: ревнив очень был и влюбчив. Собственная супруга его, препротивная ханжа-гречанка, ставила ему рога чуть ли не со всеми монахами из Фанара, – он и глазом не вел. А тут не мог агентуру вести: сам влюбится и уже ревнует уступить клиенту. Все, что он с нас зарабатывал, уходило в Галате и Стамбуле в кофейнях-притонах с мальчишками-кофеджиями. В Пере наживется, в Галате спустит. Отобьет у Яни богатого клиента, а что с клиента выручит, – глядишь, – тому же Яни заплатит за знакомство с персияшкой каким-нибудь или сартенком с глазами черносливными. На этой страсти своей и пропал. Зарезал его матрос один, сириец, в ревнивой драке.
Для нас, женщин, Насто был очень приятный агент именно тем, что деловой. Он видел в нас только товар, который ему поручено продать, и относился к нам именно, как комиссионер к фирме, для товаров которой он ищет покупателей. Привел гостя, получил «валюту», отсчитал свой процент, получил по чести причитающееся и затем – никаких претензий. Был очень вежливый, исполнительный, позволял обращаться с собою немножко сверху вниз. Мы, знаете, это любим – барынями и хозяйками себя чувствовать, знать, что мы не на самом дне мира и есть еще в обществе люди, с которыми и мы можем поговорить повелительно, послать, приказать. Этим-то вот свобода хороша, от этого-то, бывало, и не идешь в закрытый дом даже в тяжелые дни, хотя там и сыто будет, и нарядно, и с полицией спокойно, и унижений уличной охоты за вашим братом, мужчиною, не испытываешь. Пока я на улице, я – какова ни есть – личность. На меня может фыркать лавочник, может строить мне злые рожи встречная ханжа, меня могут не пустить в хороший ресторан, могут бросить мне вслед грязное слово с трамвая, могут травлю на меня целую устроить… Со мною не бывало: у меня наружность не вызывающая, а из товарок кто не переживал! Есть целомудренные кварталы, куца мы, бедные, хоть не показывайся – не то, что для промысла, а даже просто случаем… Всегда найдется благочестивая дрянь, которая мальчишкам пальцем на тебя ткнет, и – полетели грязь и камни, а если струсят, то тянется за тобой длинный хвост детворы, и поет, и орет на все звериные голоса разные слова скверные… Еще недавно я Ольгу из такой переделки выручила. И – знаете: оскорбительно это безобразие бесконечно, но, право, еще больнее было видеть и слышать, как дети, невинными губками своими, в неведении, такую грязь изливают, что сутенера стошнит, – а взрослые буржуа и буржуазки хохочут и уськают: «Так ее! еще! еще! молодцы-ребята! Allaputana! Halloh! allaputana!»[107]
Но как бы то ни было, покуда я на свободе и сама по себе, я равна всем, и обидеть меня можно только в той мере, поскольку я имею бесхарактерность стыдиться своего промысла и считать себя в нем виноватой, – не умею защищаться и осадить нахалов. Но в закрытом доме я сразу – не человек. Добрые ли хозяева, злые ли, обращаются ли зверски, стараются ли вести дом ласково, это – все равно, в конце концов, для женщины, которой природа не отказала в способности думать о себе. Есть вещи там, которых ни нарядным платьем не завесишь, ни сладкою пищею не заешь, ни музыкой не заиграешь, ни ласковыми словами не заговоришь. Когда вы читаете романы о белых рабынях, особенно старые, хозяин или хозяйка – всегда дикие звери, их помощники – изверги и мучители, прислуга – палачи. Это предрассудок, устаревшее обобщение. Это и бывало, и бывает, и будет, но не это главное. Я знала такое чудовище, как Буластиха. Ей доставляло наслаждение хлестать нас, заключенниц ее, по щекам ни за что ни про что – так просто потому, что ладонь жесткая, а щека мягкая; она, издеваясь над виноватой «барышней», зернистую икру грязною ногою месила и есть заставляла. Но ведь это уже аномалия, тут распущенность и самодурство к психической болезни близки. Это – одичание от власти. Подобные чудовища не в одной этой профессии свирепствуют, а всюду, где полудикий человек получает неограниченную власть над ближними своими. Что в каторжных тюрьмах делается над заключенными, когда у начальства руки развязаны, – дескать, беречь очень не надо: выживут так выживут, а не выживут, туда и дорога?!
Я так давно из России, что уже не могу иметь своих впечатлений от ужасов, которые газеты рассказывают о тюрьмах в Сибири. Но я знала и знаю многих, прошедших французскую каторгу. Это – не жизнь, а страшный бред. Мне кажется, что человек, прошедший такую нравственную и физическую муку, по ее окончании, имеет только два исхода для своего самосознания: или он должен вообразить себя святым, или – что он за все свое дурное, что есть в нем, расплатился пред обществом с лихвою, расквитался, и теперь ему все позволено, и нет никакого преступления, никакого греха, которые перетянули бы на весах совести перебытую им муку… В мирке парижских девок тюремные птицы вообще, а бывшие каторжники в особенности – первые, так сказать, женихи, любимые мужчины. За ними гоняются, принадлежать им честью считают, даже и на лицо, и на возраст при этом не обращают внимания. Что ж это – развращенность, что ли, особая, охота романтическая побывать в объятиях человека, который видел кровь на руках своих и носил ядро на ноге? Нет. Бахвальство, которое создает между нами сутенерскую аристократию, тут разве что на втором плане. Видала я, как с бывшими каторжниками сходились женщины, к бахвальству этому положительно отвращение питавшие, преступление было для них ужасом, тюрьма – горем и позором, и идеалом сожителя имели они, далеко не апашей бродячих, а этак – рабочего хорошего, чтобы ровно и постепенно зарабатывал франков десять в день, умеренно пил, обладал вкусом к домашней обстановке, хоть и дешевенькой, и в обрез, но – en bon bourgeois[108]. И вдруг вместо того – заокеанская птица! Или алжирец из военной тюрьмы либо тулонский заключенник. Спросишь этакую неожиданную:
– Как это тебя угораздило?
– Ах, если бы ты знала… Это такой замечательный человек!
И, действительно, сколько ни знавала, сплошь – замечательные, исключительные люди. Злодей ли, святой ли – все равно: не такой, как все, какой-то особой породы, высшей, необыкновенной. Такой, что вынесла страдание, которого обыкновенный человек вынести не может, и не сломилась, не согнулась, осталась сама собой. И, если хотите, все ужасно друг на друга похожи. Когда я вертелась в Париже, у нас в Гренеле был в большой моде апаш один, – так и звали его le beau de Grenelle, Эмиль, Гренельский красавец. Любовниц у этого Эмиля было полквартала, слава о нем прямо-таки, как Сена, к морю текла. Дуэлей товарищеских – чуть не дюжина, и не без покойников, участвовал в разгроме виллы в Boulogne sur Seine[109], ходила легенда, что в вагоне Ceinture[110] он обобрал, удушил и выбросил на рельсы богатого «раста», а сам спокойно доехал до Gare Saint Lazare[111] в том же самом купе – еще через две остановки, и, как ни в чем не бывало, ушел, даже никем не заподозренный… Всеобщее поклонение! Кумир квартала! А моя подруга Адель жила тогда с Гильомом Вилье, поворотником из-за океана… И вот один он, дядя Вилье, от Эмиля этого совсем не был в восторге.
– Не настоящий парень.
Спросим, бывало:
– Помилуйте, дядя Гильом. Чего же вам еще? Неслыханной удали молодец…
– Что удаль! Молодость! ее у всех молодых, если не вошь, много… На свободе – кто не удал? Вот – как он в тюрьме будет, и что из него тюрьма сделает… Характеры тюрьма показывает, а не воля.
Так что решили мы даже:
– Завидует старый хрен Эмилю, а, может быть, и Адель свою к нему ревнует…
Однако что ж бы вы думали? Проходит с месяц времени, – попадается наш красавец Эмиль на пустой какой-то краже, – берутся за него молодцы мосье Лепина, распутывают по ниточке клубочек его прошлых прикосновеннос-тей… Определенного ничего нет еще, но впереди как-то начинают брезжить, вроде привидения, столбы гильотины и грациозная фигура мосье Дейблера… И вдруг – по Grenelle, в Бельвиле, Мальмениле ни с того ни с сего посыпались аресты, аресты… Что? Откуда? Ан – дело-то просто: струсил в тюрьме красавец Эмиль, шкуру свою чужими шкурами спасает, выдает…
Дядя Вилье спрашивает:
– Кто был прав? То-то. Я видел: глаза у него не те… А у самого глаза вот какие были.
Привязался к его Адели некий Арно Желтые Перчатки. Малый ростом косая сажень, сила страшная, характер дьявольский, фанаберия непомерная, репутация не хуже, чем у красавца Эмиля, и при этом еще сказать надо, что, не в пример Эмилю, дядя Вилье считал Арно настоящим парнем. Адель уж и не рада, что подобную победу одержала: и пред дядею Вилье неловко, и боится Арно обидеть, оттолкнув, – этакая сила во всем сутенерстве, шутка ли, какого врага наживешь… Так вот – однажды сидим мы компанией – Адель, я, мой тогдашний, дядя Вилье, еще двое-трое – под навесиком кафе у Бельфорского льва, пьем оранжад и очень все благодушны. Вдруг – Арно с двумя товарищами… К столику – и ну задирать Адель. Та – между двух огней – не знает, куда ей деваться, хоть сквозь землю провались. Мой – большой забияка! – нащупывает уже, на всякий случай, кастет в кармане и бурчит: «Этот свинья напрашивается, чтобы ему кровь пустили», – а те два апаша, – нарочно ведь Арно их как свидетелей привел, – хохочут, вызывают, подмигивают… А дядя Гильом один – будто дело его не касается – спокойненько сосет себе оранжад через соломинку… и, снизу вверх, от стакана-то, посматривает на Арно… И как увидала я, каким взглядом он на Арно посматривает, честное слово, говорю вам: жаркий июльский вечер был, тротуары раскаленные, а меня лихорадка ударила… Словно, знаете, он гробовщик и с покойника мерку снимает… Наругался Арно, набахвалился, отошел, наконец, с болванами своими. Вилье на прощанье очень вежливо шляпу свою приподнял… Посидели мы в кафе с полчаса и пошли себе парами, каждый к своему дому. Я тогда жила близехонько к тюрьме Santé… Мой – он был парень хороший, только глуп очень, – говорит мне:
– Ну, не ожидал я от дяди Гильома… Может быть, по-ихнему, заокеанскому, это почитается тактом, но у нас, в Париже, самый желторотый птенец назовет трусостью.
А я молчу, потому что видела и не могу забыть взгляда дяди Гильома.
Послезавтра утром, по обыкновению, беру от консьержки «Matin»[112]: здравствуйте! готово!.. Найден близ парка Монсури, под насыпью Ceinture, труп с свежими ножевыми ранами на груди, в котором полиция признала опасного апаша Артура Белэ, более известного под кличкою Арно Желтые Перчатки. Погиб, по-видимому, жертвою товарищеской дуэли. Производятся энергичные розыски.
Даю газету своему:
– Это как у вас называется? Трусость или такт? Побледнел.
– Вот старый черт! Теперь пойдет каша… Как бы и нам не влететь?..
Адель пришла. Как привидение.
– Слышали?
А мы изумляемся.
– Вы еще на свободе?.. А дядя Гильом?
– Спокойно сидит дома, чинит сапоги…
– Да он знает, что уже есть в газетах?
– Я показывала.
– Ну?
– Он прочитал и сказал…
– Ну?
– Сказал: «У этого молодого человека был дурной характер, но умер он молодцом». – «Откуда тебе знать, как он умер?» Показывает на газету: «Здесь же напечатано – с ножевыми ранами на груди…»
Так и исчез из мира сего бедняга Арно, а как исчез – о том знает дядя Гильом Вилье да четыре свидетеля. Дядю Гильома полиция даже не беспокоила по этому случаю, – настолько он был вне подозрений и окружен, как стеною каменною, прочным alibi. Сказать по правде, в подобных делах молодцы мосье Лепина не очень усердствуют. Потому что – если апаш апаша не будет уничтожать, то куда же их девать? Они множатся гораздо скорее, чем исчезают… У них там однажды на Бельвиле настоящая война была между двумя партиями. Три дня дрались, как черти. Полиция только с тротуаров смотрела, ухмылялась да подбирала убитых и раненых. Пусть, мол, зверь ест зверя, а то стало тесно в лесу. Так вот и между Гильомом и Арно. Адель после того ходила гордая, как царица какая-нибудь, потому что перед нею все шляпы снимали и глядели на нее во все глаза, будто на диво некое: еще бы – подруга такого человека! Между обидой и расплатой ножевой двадцати четырех часов не стерпел!
Так вот видите ли: каторга четырех уморит, троих сделает сумасшедшими, одного подлеца выработает, продажного труса, который целует руку, его секущую, зато уж остальной один, который ужасы ее железною волею и каменным телом, не поддавшись, умел выдержать, выходит в жизнь обратно существом, наверное, необыкновенным. И откуда только у него власть над средою своею берется? И не ищет он ее, а сама она к нему со всех сторон ползет… Вот тоже, когда я в Сицилии была. Все старики с репутацией maffioso – либо каторжники, отбывшие срок, либо разбойники, попавшие под амнистию. В их руках – правый самосуд сельский, и уважение к ним в народе такое, что пред самосудом этим патриархальным кодексу правительственному приходилось свои параграфы отстаивать штыками и пулями карабинеров…
Но дядя Вилье увлек меня в сторону от того, что я хотела вам сказать о закрытых домах, интернатах наших проклятых.
Можно вынести свою личность из тюрьмы, из солдатчины, из рабства, из лакейства, но нельзя вынести ее – не видала я примеров – из публичного дома, если, конечно, не скоро спохватятся о жертве его люди и не вырвут ее у него прежде, чем он положил на нее свою неизгладимую печать. Только редко это бывает, и печать быстро кладется. Проведите предо мною сто незнакомых проституток, и я берусь вам безошибочно пальцем указать, какая из них никогда не была в публичном доме, какая была в нем месяцы, какая – годы… И говорю вам: это безразлично – при хороших ли, применительно, при скверных ли условиях. Количество: сколько плюх дается и чем бьют – рукою, резиною или мокрым полотенцем, только придает оттенки общей физиономии, а все черты ее и господствующий тон создаются убийством личности, тем, что в женщине умирает «я», и она, не занумерованная, начинает сама себя считать номером, а не человеком. В публичном доме женщины все равны между собою, потому что вне своей среды они не равны там никому. Хозяин, хозяйка, экономка, лакей, горничная, швейцар, кухарка – все они, и господствующие, и служащие, – бесконечно выше ее. Она – не своя: вещь, товар, а горничная, которая будто бы ей служит, – своя, а кухарка, которая будто бы на нее обед готовит, – своя. Это все – сторожа, надсмотрщики, управители зверинца, а проститутка – зверь в его клетке. Когда сторож чистит клетку, зверь тоже, может быть, думает, что сторож ему, зверю, служит – так и проститутка в доме делает вид, что она барыня, а горничная – ее слуга. Но попробуй-ка она обратиться с слугою этою, как вольная женщина говорит, приказывает, распоряжается среди своей прислуги. Ей в глаза расхохочутся, ее позорно обругают. Пойди жаловаться к хозяевам, – тебя осмеют или еще прибавят, чтобы не привередничала. Не было такого примера, чтобы на хозяйском суде мало-мальски удовлетворительная горничная, – об экономках я уж и не говорю! – не была предпочтена, все равно, права ли, виновата ли, самой лучшей и полезнейшей из проституток. И нельзя иначе. Та вольная, своя, а эта – ручной зверь в клетке. Это все равно, что в зоологическом саду пума, зебра или лань стали бы жаловаться на сторожа, что он им не повинуется. Не где-нибудь в азиатской глуши, а в Вене, в самой Вене, хозяйки уполномочивают прислугу, если барышни лениво одеваются к вечеру и не торопятся в общий зал, выгонять их из комнат кулаком и коленом. В Кракове одной моей подруге немка-горничная рубашечку, узкую не по фигуре, сзади заколола булавкою французскою. Та потянулась – крах! булавка расскочилась, рубашечка расстегнулась… Так та – зверь – так рассвирепела, что снова приходится застегивать, что – чем в материю-то, булавку в тело воткнула. Ну за это, конечно, ее наказали. Так ведь и в зверинце сторожа наказывают, если он льву хвост железною дверью прищемит или, по небрежности его, орел без глаза останется. Не потому, что льва или орла жаль, а потому, что бесхвостый лев и безглазый орел – какой же это товар, какая это приманка для зверинца? В хороших заведениях принято, чтобы sous-maitresses[113] и женская прислуга, если даже набираются из старых проституток, то уже не работали бы, не принимали бы гостей. Иногда это только обычай, но в иных городах за этим и полиция следит. И вот оказываются они как бы монашенками – это среди нашей-то развратной, дразнящей атмосферы. Ну и разрешается эта корректность сдержанная, – извините за откровенность, – в однополую любовь. Это жесточайший бич всех подобных интернатов здесь на Европейском Западе. Странно, казалось бы, употреблять для отношений подобного порока слово «насилие», однако оно постоянно из насилия возникает, – из насилия над всею жизнью, всею обстановкою твоей, такого мелочного и донимающего насилия, что терпит-терпит девчонка несчастная, да и решает про себя, что уж лучше подчиниться насилию физическому, все будет легче и не так тошно жить. И никогда ни одна хозяйка за вас не заступится. Во-первых, – потому, что две трети из них сами такие же. «Madame a des passions!»[114] – это почти первое, о чем подруги в интернатах предупреждают новенькую. Во-вторых, все подобные связи им выгодны: девицы дома больше сидят, в буфете больше забирают и глубже лезут в долги. В-третьих, очень часто этакая sous-maitresse или привилегированная служанка прямо-таки выговаривает себе, поступая на место, права эти, иная даже идет на худшие условия, лишь бы хозяйка не вмешивалась в ее отношения с девицами и позволила бы ей пасти свое стадо, как она сама знает и желает. А вы знаете, что, где есть властный насильник, там сейчас же ему подражатели находятся, сортом пониже, в самой угнетаемой среде. Становится порок модою, бахвальством, признаком сильной, превосходящей подруг натуры. А жертвам стыдно своего унижения, и они также делаются развратительницами, втягивают в порок других, чтобы не быть в нем обособленными, чтобы все в одном стыде барахтались и ни одна не была бы лучше другой. А потом – вы этому едва поверите, как нашей сестре, мужскою грубостью измученной, нежности хочется, ласковой привязанности, душевных любовных отношений, которые бы сердце твое грели… Ну и сочиняем, фантазируем, грезим… играем в сны наяву!.. Письма сами себе пишем, мальчиками рядимся, приятельниц мужскими именами зовем… Если не вырвали проститутку из промысла в ранние первые годы, как она пала, – то к тридцати годам, а то и к двадцати пяти, это будет, как почти непременный закон… Разве проститутка может сохранить веру, уважение и нежность к мужчине после вот хотя бы моего опыта? Все, которых мы видим, – скоты, огромное большинство – негодяи, а маленькое число не негодяев – значит, дураки, юродивые болтуны, слюнтяи, кривляки. Что к ним можно чувствовать? Хорошо, коли у женщины характер легкий, и возможно ей равнодушием оградиться. А много из нас беспокойных, которые день и ночь горят ненавистью и презрением, – ну и сгорают… Иные долгое время мальчишек жалеют. Потом и это проходит. Все равно ведь: не книзу растет, а кверху, – значит, год-другой, и такой же скот из него будет, как батька и дядька! И вот мужчина вычеркивается из души – отставляется в тень промысла, он – чужой, мы смеемся над теми, которые сохранили способность увлекаться новыми интересными гостями и охоту играть с ними в любовь. Мужчина опостылел, а место, с которого он ушел, в жизни пусто осталось и требует заполнения, – и, понятное дело, ровня ищет ровню, – и приходит на пустое место подруга, и тогда не одинокой себя чувствуешь, и легче жить… Но, само собою разумеется, что отношения, которые скрашивают жизнь в любви и дружбе, – становятся ужасом и страданием, когда обращаются в обязательства рабства. А в интернатах это – из дома в дом и каждый день! Разве что, счастьем, у хозяйки супруг в торговое дело вмешивается: мужчины, обыкновенно, к порокам этим суровы и преследуют их с жестокостью… Так вот вам, в коротких словах, что готовит женщине интернат со стороны своего же пола. О мужском персонале я уже и не говорю. Для всех мужчин, причастных к интернату, его женщины – безотказный даровой гарем. А главное: дерутся эти скоты безжалостно. Смею вас уверить, что, когда эти несчастные, опуца вырвавшиеся, говорят между собою о своем прошлом, то все их воспоминания сводятся к тому, что вот там-то больно дерется муж хозяйки, а там бы и ничего жить, да у швейцара рука тяжелая, а там хозяйка – ехидна, держит за лакея любовника своего, и от ревности наущает его драться походя… А повторяю вам: в европейских городах эти учреждения держат совсем не обязательно изверги рода человеческого, но очень часто – обыкновеннейшие буржуа, рассчитывающие обернуть свой сравнительно небольшой капитал скорее, чем в другой коммерции. Моя подруга Мальвина, полька из Познани, попала в Лейпциг в дом, хозяйкою которого была вдова очень известного пастора. Другая, Эльга, хорватка, мучилась в Франкфурте-на-Майне в доме госпожи, супруг которой был доктор философии и спился с горя, что не получил кафедры в университете. Эльга говорит, что он по воскресеньям читал девицам свои лекции, которым они все от души предпочли бы, чтобы уж лучше их секли или запирали в карцер. Примеров, что торговать нашею сестрою не брезгают люди интеллигентных классов, я наберу вам, сколько угодно. За это грязное дело только мы, бывшие проститутки, сравнительно редко беремся. А вообще-то хозяев и хозяек – уж каких только не насчитаю. Особенно во Франции и в Австрии. Читали «Набоба» Додэ? Там Жансулэ затравлен был Парижем и умер от позора, что его брат держал где-то на востоке веселый дом. Или это давние нравы, или Додэ целомудрию парижан польстил очень. В десятках, а то и в сотнях французских состояний найдете вы такое начало, и не скажу, чтобы я слыхала про отказы от подобных наследств. Выгнанный провинциальный чиновник, отставной неудачник-военный, провалившийся адвокат, ошельмованный купец, вывернувшийся из банкротства с крохами состояния, а главное, – вдовы с капитальцем приданного или наследственного, от мужа, происхождения, который им хочется пристроить выгодно и верно, – всей этой саранчи вряд ли много меньше на нашем печальном рынке, чем грубых темных промышленников и промышленниц, выброшенных корыстною алчностью, как пена, из недр народа, из глубины городского мещанства или – как в Австрии, как у вас в России – из невежественных слоев местечкового еврейства. И у кого из двух сортов эксплуататоров женщинам приходится хуже, это – мудреная задача. Мещанка, крестьянка, еврейка выбрасывается в хозяйки со дна, выпираемая алчностью бедности, соблазненной наглядностями легкого и постоянно прибыльного торга. Бедность, конечно, забывается по мере обогащения и растления души позорными прибылями, но все же – остались в душе язвы от старого голода, безработиц, тяжелых дней. Люди забыли, что они люди, но они были когда-то людьми, и человечность нет-нет да и всплывет инстинктивно сквозь муть прожитого омута на поверхность души. На что уж лютая медведица была Буластиха, но и с тою иногда можно было по-человечески поговорить и было о чем поговорить. К беременным она была снисходительна, периодические болезни наши принимала в расчет. Свое тело когда-то страдало неволями и, хотя, найдя власть и силу, она измывается теперь над чужим телом, но, не ровен час, прикинет его страдания примерно к себе самой да сквозь самое-то себя, глядь, и пожалеет. Но какой жалости я могу ждать от образованного промышленника, который берется торговать мною не по невежественной корысти, не потому, чтобы он не ведал, что творит, а по спокойному логическому и математическому расчету, что из моего тела он выколотит 25 % на свой капитал, тогда как торговля кофе принесла бы ему только 12 %, а частные бумаги – 6–8 %, а казенное их помещение всего – 2 %? Он не может и не хочет видеть во мне человека, потому что иначе и не посмел бы открыть свою лавочку. Ведь, открывая ее, должен же он был доказать себе как-нибудь правоту-то свою, – что он не против нравственности и общества действует, торгуя развратом, а только-де переступает через общественный предрассудок. Из невежественных хозяев я не видала ни одного и ни одной, которые втайне, про себя, не понимали бы, что они, по существу, мерзавцы и едва-едва терпимы человечеством по греховной его слабости. Из тех интеллигентных отбросов ни одного и ни одной, которые не окружались бы такими искусными самоизвинениями, что в подлости их выходили решительно все виноваты, – до продаваемых ими женщин включительно, – за исключением их самих.







