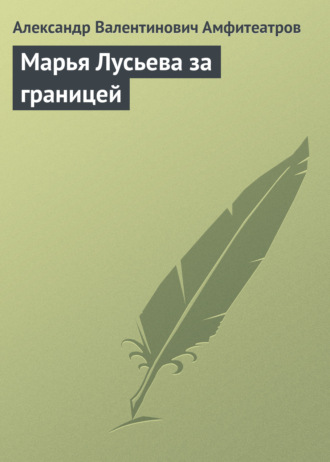
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
VIII
Было двенадцать часов, и все колокола Милана ревели, когда Тесемкин и Вельский вышли из вертепа Фузинати, сопровождаемые нижайшими поклонами, за которые пришлось бросить этому почтенному старичку еще две лиры.
– Какой тут у вас есть ресторан Кова, – обратился к нему Тесемкин, – и как к нему пройти?
Фузинати мгновенно изъявил желание проводить. Вельский сделал гримасу: идти по людному кварталу в сопровождении господина, содержащего – если и не открытый публичный дом, то нечто в этом роде, представлялось ему не очень-то соблазнительным. Но Фузинати уже успел переменить ермолку на шляпу и прытко побежал вперед. Тесемкин махнул рукою.
– Э! Кто нас тут знает! Сегодня уедем…
– Да уедем ли?
– Мне, по крайней мере, делать в Милане больше нечего. Синьорина Ольга далеко не так очаровательна, чтобы приковать меня. Тринадцать таких на дюжину. И – черт ли вас, Матвей Ильич, дернул пригласить их завтракать!
– Да – вам-то что? Ведь Ольга отказалась.
– Зато ваша согласилась, как говорится, «с лапочками»… А я было думал уже – великолепнейше распроститься с нашими красавицами, позавтракать вдвоем, да и в поезд. Хорошенького, знаете, понемножку.
– Нет, меня эта встреча очень заинтересовала. Я вчера не успел вам объяснить толком, кто она такая эта моя мадемуазель Фиорина… В ресторане будет время, расскажу.
– Послушаем… А интересно все-таки знать, почему Ольга не пошла? Послушайте-ка вы, синьор Фузинати!
Старик подскочил, с рукою у шляпы, согнувшись в три погибели и в ряде почтительнейших ужимок и сожалительных гримас объяснил, что ресторан Кова – слишком аристократический, чтобы Ольга могла в нем сделать компанию таким замечательным иностранцам. Она девица, хотя молчаливая и вялая, но не глупая и гордая, – знает свое место.
– Что же – ее не пустят, что ли, в этот ваш знаменитый ресторан?
– О нет! как можно не пустить? В Италии все люди равны, и ресторан, – как торговое место, – всем открыт и доступен.
– Так – впустят, но потом выгонят, что ли?
– Нет, и не выгонят, но будут вам так служить, что вы сами уйдете. Сделают неприятнейшим ваше пребывание. Они, знаете, с своей точки зрения правы. Бывает семейная публика, офицеры с женами. Военные в этих случаях щекотливы. Сейчас выйдет история. Скандал, дуэль, газеты… Мы все рабы гласности, мосье.
– Почему же мадемуазель Фиорина не боится того же?
– О! мадемуазель Фиорина! – с уважением щелкнул языком желтолицый Фузинати, слагая лицо улыбкою в сотню морщин, – мадемуазель Фиорина и во дворце сумеет сойти за свою, будто там и есть ее природное место. А на этой бедняжке Ольге, к сожалению, слишком ярко лежит, так сказать, профессиональный отпечаток. Вечером она великолепна, но днем – слишком бросается в глаза… Знаете ли, – засмеялся он старческим хрипом, – ночные птицы и бабочки не любят показываться днем. Их перья и краски хороши только при искусственном свете.
Однако сам Фузинати, несмотря на свою типическую наружность несомненного ночного хищника, по-видимому, нисколько не боялся дневного света. Опасения Вельского оказались излишними: никто на улице на иностранцев, за странного проводника их, пальцами не показывал и головою не покивал, а, напротив, квартал свой Фузинати проходил с прегордо поднятою головою, точно собственник его или начальник какой-нибудь, и из мясных, фруктовых, бакалейных лавок с ним весьма почтительно раскланивались черномазые владельцы и толстые владелицы. «Гвардии» – полицейские ему козыряли. С встречными патерами Фузинати обменивался самыми дружелюбными улыбками, а с одним, старым, беловолосым и белобровым, в очках, даже – извинившись пред иностранцами – остановился поговорить, и долго стояли они на виду всего народа, посреди тротуара, похлопывая друг друга, то по плечу, то по животику.
– Странные нравы! – заметил Вельский, – можете ли вы вообразить себе подобную сцену на улице русского города? Чтобы кафедральный протопоп, скажем, в Харькове или Воронеже, публично, средь бела дня, обнаружил фамильярнейшую дружбу с каким-либо местным Фузинати? Как будто мы, россияне, все-таки еще не дошли до такой милой культуры.
– Буржуа, батюшка. Маленькие, самодовольные буржуа. В правильной буржуазии человек есть ходячая рента, а как и с чего она получается, – это, в общем обороте доходов, безразлично, лишь бы терпел закон. Ренту, поди, Фузинати олицетворяет собою изряднейшую. Вы слышали, как он девиц-то стрижет: четыре пятых дохода! Да и, наверное, нужнейший человек для квартала. Владеет бойким местом, населенным публикою безалаберною – нищею, но прихотливою. Самый выгодный народ для торгового человека. Нигде так быстро не богатеет мелкий купец, как рядом с ночлежными и публичными домами, на Хитровом рынке, на Сенной площади, в портах либо на ярмарках, близ приисков, когда рабочий с деньгами и пьет. Вон дамы наши сегодня с утра нам какой кофе подали – и печенья, и масло, и мед, сандвичи… А между тем капотик-то у Саломеи видели? Лет десять носит! Салотопенный завод! Всегда босые, голые и ни гроша за душой, но вкусы избалованные и спрос капризный, – разыгрывается при первой же возможности в нервную прихоть. Такому дому поставщики нужны, близкие, розничные, которые всегда под рукою. А поставщики, конечно, от этого господина зависят и им гарантируются в кредитах. Как же им не ломать шляпы пред синьором Фузинати? Поди, весь квартал только его гнездом и живет…
А к церкви, – продолжал он, – эта публика весьма прилежна и страстна во всех странах без исключения. Наш Гоголь, за пятьдесят лет до Мопассана, рассказал, как благоговейно служатся молебны в российских Maisons Tellier, для начатия дел, для поездки на нижегородскую ярмарку. В Москве у нас спросите по приходам, где гнездятся подобные учреждения: усерднейшие жертвователи на храм и церковные нужды, первые богомольцы и богомолки, непременные говельщики и говельщицы. Да и понятно: понимает же совесть-то человеческая, как ни глуши ее деньгой, что уж очень пакостным делом хозяин промышляет, – ну и трусит она смерти в грехе, страшится ада, чертей, раскаленных сковород, нуждается в прощении, льготах, ходатайстве, защите. Только у нас все это тайно, по секрету, крадучись, впотьмах и по закоулкам, с задних крылец. Московская, блаженной памяти, «Александринка» в своем приходе все образа в золотые и серебряные ризы заковала, таких облачений нашила, такие утвари жертвовала, что подобных и в соборах не бывало. Но сама она, жертвовательница, в эту церковь, ею обогащенную, буквально, кралась по стенке – молясь, пряталась в самые темные углы, отстаивала целиком только вечерни и всенощные, не смея сесть даже во время кафизм, а в обедни – уходила, как недостойная, после литургии оглашенных. Русский капитал, знаете, еще конфузлив и родовым гамлетизмом одержим; с происхождением своим считается. А здесь, где капитал есть капитал наголо, и идея его от всяких наследственных психологии эмансипирована вполне, – вы видите, – господин Фузинати чуть не обнимается с седовласым каноником воочию всей улицы и средь бела дня. Фузинати, конечно, счастливее Александринки: он, когда платит, уже знает – установлено это и высчитано, что каноник обязан выручать его из грехов, – и насколько. Ведь они же здесь до сих пор откровеннейше индульгенциями торгуют. Ну, а российской Александринке еще приходится ползать в сомнениях, унижаться и молить. Знаете ли, поразителен этот страх греха, которым они живут, в подобных промышленниках, за исключением, конечно, совершенно уж оголтелых. Оттого, что он трусит, он промышленности своей, конечно, не бросит, но промышляет в трусости и с отчаянием. И это повсеместно и международно. Боятся не только того, что сами грешат, но и именно того, что других, рабынь-то своих, заставляют «на себя» грешить, и ужасно волнуются, если их девушки оказываются не набожны, и, стало быть, не замаливают своего образа жизни. Боятся принять на совесть, и без того черную и слабую, тяжесть чужого греха. Этот страх порождает пресмешные трагедии и претрагические комедии. В Харькове я знал хозяйку-еврейку, которая отчаянно ссорилась и даже дралась со своими русскими девушками за то, что они лениво ходили ко всенощной по субботам и не зажигали лампадок пред образами. «Сура Яковлевна! Да вам-то что? Ведь это их счеты со своим Богом!» – «А як же, – говорит, – помилуйте, пане Тесемкин, чи то справедливо: дивчата своему Богу грешат, а молиться не хотят, – надо же Ему с кого-нибудь грех их спросить, – ну, Он с меня, бедной еврейки, и спросит…» Здесь подобная наивность уже невозможна. У господина Фузинати, поди, счетец-то с Богом разработан, как детальнейший контракт.
Распрощавшись, наконец, с своим каноником, Фузинати догнал русских с прыткостью, необыкновенною в таком старом и больном человеке, и довел их до монумента Леонардо да Винчи, показал им издали, через площадь, вход к Кова и, рассыпавшись в тысяче комплиментов и благодарностей, исчез в галерее Виктора Эммануила, не забыв все-таки схватить из щедрой руки Тесемкина еще лиру.
– Я уверен, что этот Фузинати впятеро богаче меня, – говорил Иван Терентьевич, – но это-то и приятно. Нищему на чай дать естественно, но есть нечто гордое в том, что даешь на чай, в некотором роде, барону из «Скупого рыцаря»…
– Ну, положим, он скорее на Плюшкина похож.
– Все равно… Плюшкина от «Скупого рыцаря» только учителя словесности различают.
– А вы заметили, что он не осмелился подвести нас к самому ресторану?
– Очевидно, знают здесь его, филина ночного, – побоялся компрометировать нас пред швейцаром.
– Или, вернее, Фиорину, которая должна к нам прийти. Раз, мол, швейцар заметил, что господ привел Фузинати, то сообразит, что и дама, которая затем будет искать господ, тоже не дама, а девица от Фузинати…
– Удивительный все-таки оборот общественной морали, при котором разврат стыдливо прячется от швейцара в ресторане, и, как ни в чем не бывало, обменивается любезностями с попом!
Великолепный зал Кова производит впечатление даже и на русских, привычных в отечестве своем к грандиозным размерам подобных капищ. Тесемкин огляделся и сразу стал в духе:
– Хоть бы в Москву! – воскликнул он. – Эка – свету-то! Приятное учреждение… Водку бы тут пить. Да, поди, нету?
– Ну, слава Богу, расшевелился, – москвич! А то я, идя сюда, боялся, что вы Леонардо да Винчи проглотите… так зевали!
– Батюшка, да ведь мы же с вами почти не спали. Я в седьмом часу заснул, а в половине одиннадцатого проснулся с кошмаром, ибо стало нестерпимо: до того итальяшки выли и орали во дворе и по галерее… Я думал: в ад попал, или японцы город берут; или бомба взорвалась. А это они белье по перилам развешивали…
– Я меньше вашего спал.
– Ну, положим, будил-то я вас, а не вы меня.
– Да, но мы с Фиориною проговорили именно до тех пор, что уже весь дом проснулся и поднялся на ноги… Действительно, адский гвалт у них по утрам. Словно каждый и каждая, просыпаясь, обрадовались, что не умерли за ночь, и пробуют глотку, живы ли, слышны ли… Надо было так устать, как мы вчера, чтобы задремать под этот крик. Я совершенно не помню, как потерял сознание… Проснулся от вашего стука: Фиорина упала головою на подушку, спит, не раздетая, а Саломея сидит на стуле, бессонная, и глазищами ворочает, как сова. С места всю ночь не сошла, бумажник мой стерегла. Руки на груди скрестила, – совершенно кавас черногорский или албанский. Надо расспросить о ней Фиорину. Оригинальное существо.
– Да! – перебил Тесемкин. – Кстати о Фиорине, покуда ее нет еще… Вы хотели рассказать, кто она такая и откуда вы ее знаете.
– Вы слышали, что она знала меня в К. Я тогда еще служил и был прикомандирован к – скому губернатору в качестве чиновника по особым поручениям. Если вы были в К., то, конечно, помните и тамошнее городское гулянье. Единственная достопримечательность! Однажды там, на музыке, я заметил двух новых, очевидно, приезжих, – в К., конечно, свет весь наперечет, – весьма элегантных дам.
Блуждают, никому не знакомые и с видом туристок. Одна – пожилая, другая – молоденькая и редкостной красоты… Осведомляюсь у дежурного полицейского: «Кто такие?» – «Из Петербурга, баронесса Ландио с племянницею, проездом в Одессу, по собственным делам, остановилась в гостинице „Феникс“…» Я сейчас же представился и был принят весьма благосклонно, – сделал визит; начал бывать и немножко ухаживать за m-lle Лусьевой, – я вам забыл сказать, что фамилия красивой племянницы оказалась Лусьева, Марья Ивановна Лусьева… Очень милое было существо, неглубокое, но живое, веселое, резвушка, хохотушка, грациозная черная кошечка, отличные манеры, недурной французский язык… Спутницы ее – баронесса Ландио и старуха-прислуга – были довольно вульгарны и противны, – баронесса, положительно, приживалкою выглядела, – но сама Марья Ивановна была очаровательна и притом, повторяю вам, писаная же красавица!.. детская какая-то, чистая, цветковая, мурильовская красота!.. Хорошо-с. Приблизительно неделею спустя после нашего знакомства, завтракал я у большого приятеля моего, нашего полицеймейстера, – милейший, к слову сказать, был человек – и умный. Впоследствии, как революцией запахло, сейчас же в отставку подал: «Заметил я, – говорит, – что желудок мой осколки бомб трудно переваривает…» Вдруг из первого участка дают знать, по телефону, что пришла какая-то сумасшедшая барышня, вне себя, и просит – ни больше ни меньше, как выдать ей книжку, то есть так называемый желтый билет – записать ее в явные проститутки… «Как звать?» – «Марья Ивановна Лусьева…» Меня это известие, понятное дело, ужасно изумило. Что за чудо? Как? Почему? Отправились мы с полицеймейстером в первый участок и, действительно, нашли там ее, Марью Ивановну Лусьеву, ужасно расстроенную, в состоянии, близком к сумасшествию. В страшном возбуждении, она кричит нам, что она – тайная проститутка, давно уже торгует собою в Петербурге, а теперь с той же целью приехала в К., что спутницы ее совсем не баронесса Ландио и «няня» Анна Тихоновна, но торговки живым товаром, что эти женщины эксплуатируют ее и жестоко с нею обращаются и что – чем терпеть обиды и зверства от подобных тварей, она предпочитает получить «книжку» и работать уже начисто, на самое себя: из тайных проституток обратиться в явную. Все это показалось нам с полицеймейстером совершенным сумбуром, хотя несколько странным было, что баронесса Ландио и другая старуха стремительно исчезли из «Феникса» и города К. в это же самое утро, оставив племянницу в таком безумном состоянии. А Марья Ивановна тем временем, замечая, что мы ей плохо верим, рассказала нам всю свою жизнь. Как она, «дочь бедных, но благородных родителей», была втянута, через шантаж и задолжание, в тайный великосветский «дом свиданий» некой «генеральши» Рюлиной, как ее потом госпожаэта проиграла в карты другой хозяйке, и как наконец она очутилась во власти тех двух ведьм, в обществе которых я ее застал и от которых она сегодня утром сбежала. Разоблачила целую систему торговли живым товаром, назвала множество имен, указала нити и пути, по которым все это дело можно распутать. Приходилось поверить, – начали верить… У полицеймейстера уже глаза разгорались, какое наклевывается ему славное дельце. Но вдруг является к губернатору самая что ни есть великолепная наша дама-патронесса Софья Александровна Леневская и требует Марью Ивановну к себе, потому что они-де близкая родня. Вот тебе раз! Все, что случилось, оказывается сплошным недоразумением, так как Марья Ивановна – психически ненормальный человек. Каждый месяц бывают с нею, в известные периоды, припадки, сопровождаемые эротическим бредом, в котором она несет невесть что. Баронесса эта, сбежавшая, и спутница ее тоже оказываются опять в городе, – плачут, воют – подтверждают слова Леневской. Находится у них и медицинское свидетельство какого-то петербургского светилы, подтверждающее болезненные аномалии Марьи Ивановны.
Отъезд свой эти госпожи объясняют тем обстоятельством, будто было условленно между ними и Марьей Ивановной, что, покуда они съездят в Одессу, она погостит несколько дней у неких Карговичей. Эта семейка – довольно темная, надо сознаться – показывает, что Марья Ивановна уже провела у них предшествующую ночь и исчезла только утром – когда именно и объявилась она в участок. Софье Александровне мы, естественно, не можем не верить: конечно, она у нас жох-баба и аферистка страшная, но губернская аристократка, в благотворительных комитетах разных первая деятельница, председательница – между прочим – общества борьбы с проституцией. Сверх того, сама Марья Ивановна, после разговора с госпожою Леневскою наедине, категорически взяла обратно все свои показания и объяснила, будто не помнит ничего, что говорила нам в участке. Ей читают, – она приходит в ужас, кричит, что оклеветала людей, ни в чем подобном неповинных, что она была сумасшедшая, что ее нужно посадить на цепь… Наш к – ский чудотворец, психиатр Тигульский, – жулик, к слову сказать, каких мало, но великий дела своего знаток и мастер, – исследует девушку, признает ее больною и… истории конец. Какая-то старушенция забрала Марью Ивановну и повезла ее в Вену к покойному Краффт Эбингу, который в то время был авторитетом из авторитетов. Ну-с… говорят, будто все хорошо, что хорошо кончается. Так-то оно так, но признаюсь, и у меня, и у полицеймейстера остался от истории этой прескверный осадок на душе, – что-то смутное и неясное, – как будто нас очень ловко надули, да еще потом и рот законопатили, чтобы мы не протестовали. Действительно, от баронессы Ландио мы, через Леневскую, получили – и сдуру, по дружбе с Леневскою, взяли – такие подарки, что если бы предложили их нам перед делом, а не после дела, то и принять нельзя было бы ни под каким видом: прямой подкуп, под суд попадешь. И именно эта роскошь подарков очень нашего полицеймейстера смутила: если все чисто, то – за что же так пышно дарить? Что-то замазывают! Ну, успокоились на большом аристократизме Леневской и баронессы Ландио, – что, дескать, спасли несколько хороших фамилий от большого срама, который чуть не накликала на них ни за что ни про что полоумная истеричка.
Хорошо-с. Пропускаю три года. На сцене китайская война. Я уже с губернатором своим и службою распростился. Нахожусь в Харбине, с «Красным Крестом», в качестве, как теперь говорят, «героя тыла». Деньжищ у меня уйма, скука страшная, пьем, играем, скучаем без хороших женщин. В одну прекрасную ночь, в весьма интендантской компании, играю в «железку» и обрабатываю господ интендантов ни много, ни мало – на двадцать три тысячи золотом-с! Молва людская на другой день превращает их в двести тысяч… Герой дня!.. Вечером является ко мне фактор, – джентльмен благороднейшей наружности, – боюсь, не служил ли он даже у нас раньше. Там ведь, в тылу, самые невероятные метаморфозы с людьми происходят. Предлагает, не желаю ли я познакомиться с приезжею польскою графинею?.. «Почему же нет… Сколько?» – «Это уж вы с ее тетушкой условитесь, а мне сто за знакомство…» – «Ого?..» – «Да ведь не вперед прошу, а только в том случае, если сговоритесь с тетушкой… Не поладите, – довольно золотого! Да как не поладить? Увидите, каков товарец! Не жаль тысячу дать!..» – «Что же? – думаю, – самому двадцать три тысячи даром достались, без женского общества душа завяла, шансонеток и откровенно грубой проституции я, грешный человек, не выношу, ибо романтик и искатель иллюзий, – почему не разгуляться? Тысяча – это чушь, таких цен ныне даже на графинь и даже в Харбине нет, а до двух-трех сотен пойду…» Устроили знакомство в театре – как бы смотрины. Пышная особа, не весьма первой молодости, видно, что когда-то была совсем безукоризненная красавица, но теперь уже в том неопределенном возрасте, когда полька-блондинка обязательно расплывается. Туалет пестроват, но со вкусом, – не перворазборный, но все же Петербург сказывается. Глупа страшно, но превеселая, все хохочет и так неугомонно трещит, что даже спектакля смотреть не может, – все ей болтать надо. «Ну, – думаю, – голубок мой, что ты полька, тому я верю, но графинею ты никогда не бывала». Не так держат себя и не так говорят польские графини, хотя бы судьба и сбила их с пути истинного. Так – шляхтяночка с Литвы, да и вдобавок обрусевшая в петербургском обороте. Но мне это, конечно, безразлично. Я не из тех, кто влюбляется в женщину за титул. У меня у самого предков с дюжину наберется. Тетка, при графине состоящая, тоже сомнительный тип какой-то… На Старом месте в Варшаве за лотком с бубликами встретить ее я не удивился бы, ну а под графскою короною – не того и весьма не того. После спектакля отправились мы к графине пить чай. Открыла нам двери почтенная нянюшка: как взглянула на меня – дернулась и сделалась какая-то странная в лице. Поглядел: ба-ба-ба! да ведь это та самая нянюшка Анна Тихоновна, которая была в К. при Марье Ивановне Лусьевой?.. Я не подал вида, что узнал ее, – именно потому, что стало мне ужасно любопытно: очевидно, я стою около тайны, которая меня вот уже три года интересовала, время от времени всплывая в памяти. Начинаю припоминать тогдашние якобы «бреды» Марьи Ивановны: что-то мерещится, – как будто и про польскую графиню какую-то речь была. Ага! Так, значит, «сумасшедшая» – то правду говорила? Вот вы какие, голубчики? Ну, это дело надо исследовать!.. И пожалел же я тут, – впервые пожалел, что не состою более на прежней службе.
С тетушкой мы объяснились по секрету – оказалась сводня вульгарнейшая, – и сторговались великолепно. Остались с графинею вдвоем. Тогда я сперва убедился, что нас никто не подслушивает, а затем – прямо к ней с вопросом.
– Графиня, не упростим ли мы с вами отношения, – не позволите ли вы мне называть вас по-настоящему – просто и коротко – Жозей?
Ее немножко вскинуло.
– Я вас не понимаю. Меня зовут Аврора.
– Очень верю, графиня. Но прежде, когда вы работали у генеральши Рюлиной, вас звали Жозей.
Ужасно переполошилась.
– Вы меня знаете? Откуда вы меня знаете? Я никогда вас не видала. Не помню.
– Ну, а подругу свою – Марью Ивановну Лусьеву, по вашей кличке, Люлюшку – помните?..
– Погодите, Матвей Ильич! – перебил Тесемкин, указывая глазами на изящную, темную фигуру дамы, выросшую во входной арке. Вот, кажется, и мадемуазель Фиорина ищет нас…
– Она… о, да ее, в сравнении со вчерашним, не узвдть!
– Черт возьми! Действительно, почтенный Фузинати не солгал вам: très distinguée[57], как у нас, русских французов, говорится…
Вельский встал из-за стола и поспешил навстречу Фиорине.







