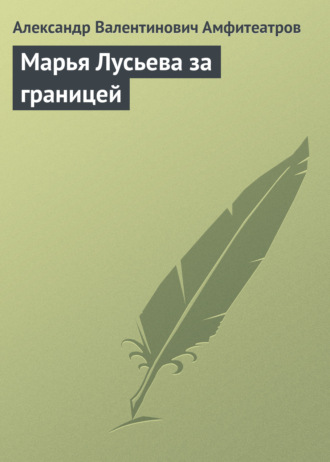
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
– Однако за нами как будто кто-то следит? – заметил Вельский Фиорине.
Она быстро обернулась и закричала резко и сердито на миланском наречии:
– Фузинати! Опять комедии? Что вы ползете сзади, как убийца? Неужели вы воображаете, будто мы вас не видали, старый бездельник?
Кривой человек подкатился, как мячик, и униженно закланялся под фонарями, держа на отлет круглую шляпу.
– Я ждал лишь, чтобы спросить вас, синьорина, в котором часу вы разрешите завтра…
– Оставьте кривляться, вечный комедиант. Синьор форестьер – мой старый друг, и мне нет никакой надобности скрывать от него, что вы за птица. Говорите по-французски! Я совсем не хочу, чтобы он подумал, что мы сговариваемся его убить или обобрать…
Фузинати еще раз смиренно поклонился Матвею Ильичу и произнес на очень хорошем французском языке, почти совершенно без звенящего и жужжащего итальянского акцента:
– Мосье, очень рад счастью вашего знакомства. Мадемуазель Фиорина несколько строга ко мне, но я прошу вас не выводить из ее слов дурных для меня заключений. Что делать? Мы все знали лучшие дни и не хотим принять уроков от судьбы – смириться соответственно нашему новому положению, которое требует, чтобы мы были скромнее, да, скромнее…
– Особенно ваше положение, Фузинати, – проворчала почти с угрозою Фиорина, – который дом воздвигаете вы теперь на пустырях за Porta Venezia?[34] Мы пришли. Давайте ключ, старый Риголетто!
– Мадемуазель Фиорина, – кротко, но, в свою очередь, с насмешкою возразил Фузинати, буравя огромным и толстым, как коротенький лом, ключом, – показалось Вельскому, – прямо-таки стену в громадном черном доме, чрезвычайно старинном, если судить по силуэтам нависшего над окнами скульптурного орнамента и по фигурности решеток, гнутыми выступами облегавших самые окна. – Мадемуазель Фиорина! Вы же так не любите, когда я – по вашему мнению – говорю лишние слова, хотя, по-моему, я стараюсь быть только вежлив… да-да, любезен и вежлив…
– А, черт ли мне в вашей вежливости? Лучше говорите мне «ты» и зовите меня девкой, да не дерите с меня четыре пятых заработка.
– Я позволю себе возвратить вам ваш обычный упрек, – продолжал Фузинати, словно и не слыхал возражения, – зачем же вы спрашиваете у меня ваш ключ здесь на улице, когда очень хорошо знаете, вот уже пятый год, что он, по обыкновению, ждет вас, вися у камина под номером девятым?.. Проклятая дверь! Ага! Сколько лет мучит она меня – и каждый день забываю послать за слесарем. Наконец-то! Прошу вас, messieurs-dames[35], сделайте одолжение, войдите… Мадемуазель Фиорина, мадемуазель Ольга…
– Черт знает, – проворчал Иван Терентьевич, шагая через порог открывшейся в стене железной двери, – оперная декорация какая-то.
В слабом мерцании ночника, в нише пред терракотовою раскрашенною мадонною, открылось, в самом деле, нечто красивое, смутное и, в полутьме, как бы зловещее: колоннада старого-престарого дворца, – когда-то, должно быть, весьма великолепные и величественные сени, открытые громадною круглою аркою в обставленный колоннами, обведенный портиком cortile[36].
– Это было когда-то дворцом, господа, – говорил Фузинати, учтиво пропуская Вельского и Тесемкина с дамами из сеней в маленькую стеклянную дверь нижнего этажа направо.
Вошли в крохотную каморку – будто фонарь – во времена оны, несомненно, дворницкую или привратническую. Комнатка была заставлена разнокалиберною мебелью, завалена сборною старою домашнею утварью и завешана всякою пестрою, ветхою рухлядью, так что походила не то на берлогу мелкого ростовщика, не то на лавку старьевщика. Прежде всего бросалось в глаза огромное кресло, обшитое когда-то дорогою, штофною материей, – вещь не моложе XVII века. На нем лежало пестрым комком нечто, по первому взгляду, Вельским принятое за одеяло, но – заслышав людей – оно зашевелилось и оказалось маленькою девочкою, лет десяти, худою, истощенною и злого, дерзкого вида. На желтом личике, под мохнатою шапкою спутанных волос, надменно сверкали большие черные глаза, обведенные широкими темными кругами.
– Э, Аличе! – кивнула ей Фиорина, – ты еще не спишь?
– Я уже не сплю, – недружелюбно оскалилась девочка, показывая большие не по возрасту, звериные зубы. Голос ее был хриплый, звериный. Говорила она на грубом, лающем наречии пьемонтских горцев.
Ольга сказала:
– Эта обезьянка всегда ждет вашего возвращения, Фузинати, – вы, должно быть, приносите ей хорошие конфекты.
– Дождешься от него! – захохотала девочка, садясь на ручку кресла и болтая в воздухе босыми ножками, бледными в смуглоте своей, как лилии, и тощими, как палки. – Не желаю вам, синьорина Ольга, конфект, которыми он меня кормит… Ха-ха-ха!.. Ну-ну! нечего делать мне страшные рожи, старый орангутанг! Не очень-то здесь тебя боятся…
Фузинати, оказавшийся при свете весьма скромным на вид, должно быть, болезненным, желтолицым стариком лет под шестьдесят, но с черными еще усами, и почти черными волосами на голове, и с яркою синевою чисто выбритых, впалых щек, делал вид, будто не слышит, что о нем говорят, и объяснял Вельскому:
– Да, это было дворцом. Дом устарел и запущен, но это исторический дом, мосье. В шестнадцатом веке воздвигнуты эти колонны, государи мои. Еще сто лет тому назад здесь обитали, когда наезжали в Милан из своих вотчин под Мадридом, герцоги Медина Сели, могущественнейшие из вельмож испанского двора…
– А теперь, – с сердитым смехом перебила Фиорина, – все шесть этажей этого дурацкого, вонючего сундука битком набиты девками, две из которых почтительнейше ожидают, когда вы соблаговолите выдать им их ключи.
– Вы всегда спешите, мадемуазель Фиорина! – уж с сердцем огрызнулся Фузинати. – Вы ведете себя сегодня так, словно мы с вами первый день знакомы. Вы же знаете, что я не могу дать вам ключа прежде, чем не получил с вас моей доли за прокат вашего туалета.
Фиорина покраснела.
– Мосье Бельский, – обратилась она к кавалеру по-русски, – я весьма совестный…
– Вероятно, старик желает получить вперед? – оборвал Тесемкин. – Это возможно. Voila, старинушка, или по вашему будет – ессо![37] Один, два, три, четыре, пять – получайте с обоих, за меня и за приятеля, – пять золотых… великолепнейших, круглых, новых, французских, петухом украшенных золотых.
– Один наш! – быстро воскликнула Фиорина, – накрывая монету рукою и кивая Ольге, которая тоже ответила ей флегматическим кивком.
Фузинати покосился на них весьма недружелюбным взглядом, но ничего не сказал и со вздохом повернулся к вешалке ключей у своего камина:
– Номер девятый, мадемуазель Фиорина, номер тридцать первый, мадемуазель Ольга… Две женщины и только пять золотых. Ужасные времена, мужчины в Милане потеряли последнюю тень щедрости… Мосье! – обратился он к Вельскому. – Я прошу вас быть великодушным и прибавить мне какую-нибудь маленькую, самую крохотную безделицу. Ведь деньги, которые платят мне эти дамы, – я ничего тут не зарабатываю! Клянусь св. Амвросием, ничего! – это лишь маленькое погашение их долга по нашим взаимным дружеским обязательствам.
– Уж истинно дружеским! – проворчала Фиорина, – вы, смотрите, без шуток! не забудьте отметить эти сорок франков в вашей толстой книге, – вы, старый Гарпагон!
– Кажется, я никогда не бывал недобросовестным кредитором ни в отношении вас, мадемуазель Фиорина, ни вас, мадемуазель Ольга, ни кого-либо из дам, квартирующих в арендуемом мною дворце…
– Слышать я не могу, когда вы называете дворцом эту вашу глупую развалину, подлую вонючую лачугу! Господи! Вот сегодня несет со двора! Можно подумать, что околели все кошки в Милане.
– Да, воздух довольно ужасный, – согласился Вельский. – Не слишком то вы, г. Фузинати, заботитесь о своем дворце.
– Что делать, сударь? Я человек бедный. Плачу высокую аренду, а имущество совершенно бездоходно. Мадемуазель Фиорина улыбается. У нее веселый нрав. Я не пользуюсь расположением мадемуазель Фиорины. Но я готов поклясться гробницею св. Амвросия, что квартирный доход не покрывает аренды и, если бы я не занимался маленькими комиссиями по торговле мод и готового платья, то давно был бы банкрот, несчастный, жалкий, разоренный нищий. Как же я могу поддерживать чистоту дворца? Вы видите: у меня нет средств даже нанять привратника, и я сам должен исполнять его обязанности, и не спать по ночам, ютясь, как собака, в этой конуре, потому что квартирантки мои возвращаются поздно… Я уверен, мосье, что вы поймете меня, войдете в мое положение и, пожалев бедного больного старика, прибавите безделицу…
Матвей Ильич дал ему еще золотой. Фузинати схватил монету тощею, скелетною лапою, синею, со вздутыми жилами, под густыми волосами, почти шерстью, и, спрятав монету в жилетный карман, подал ключи Фиорине и Ольге.
– Очень вам благодарен, мосье… Мадемуазель Фиорина, если вам понадобится вино или бисквиты, вам стоит только крикнуть из вашего окна. Старик Фузинати не ложится в постель всю ночь и всегда весь к вашим услугам…
– А, в самом деле, недурно бы… – начал было Матвей Ильич, но Фиорина быстро дернула его за рукав.
– Идем! Поздно! Какое там вино!
– Вы для меня дорогой гость, – говорила она, – проводя его через cortile, действительно, напоминавший скорее мусорную яму, чем атриум палаццо, – мне и то уже совестно, что вам пришлось заплатить несколько денег за знакомство со мною… Сохрани Бог, чтобы я еще заставила вас платить, по пяти франков бутылка, за кислое монферрато из погребов Фузинати. Черт его, знает, чего он туда мешает…
IV
Поднимались высоко, по лестнице, обвивающей cortile, как во всех дворцах итальянского Возрождения, под портиком, четырехколенным ходом.
– Господи! – вздыхал Иван Терентьевич. – Куда только мы идем? а? Матвей Ильич! Неужели еще выше? Ну так и есть! Я вас спрашиваю, куда мы ползем?
– Не знаю, – смеялся тот, – но, по счету ступенек, мы уже в небе и недалеко от рая.
– Сразу видно, что вы русские, – говорила Фиорина. – Из всех иностранцев русские самые ленивые. Им всегда все лестницы кажутся высоки. Между тем мы прошли только два этажа, а нам надо подняться на пятый.
Иван Терентьевич даже взвыл.
– Мадемуазель Фиорина! У меня сердце лопнет. Вы бы хоть предупредили меня раньше. Я бы прямо на пороге лег и умер во славу вашу. Ведь это же для нашего брата, толстяка, каторжные работы.
Вельский утешал его:
– Ну что вы расплакались? Поднимались же вы вчера в Венеции на собор, к коням св. Марка, – любоваться венецианскими трубами.
– Потому-то сейчас и трудно. Колени отломились. Болят мои скоры ноженьки со походушки. И – хорошо вам разговаривать, когда ваша легкокрылая дама летит вверх по уступам, подобно лани или серне быстроногой, и вас же еще влечет за собою на буксире. А моя душка, прах ее побери, повисла на локте шестипудовым мешком и столь на мою силу полагается, что даже уж и ногами двигать труда себе не дает. Лестно, но тяжеловесно. Вы, впрочем, мадемуазель Фиорина, всего этого ей не переводите. Желаю быть не ненавидимым, но любимым.
– Не переведу, – смеясь, обещала Фиорина, но прикрикнула-таки на Ольгу:
– Не спи раньше постели! шевелись ты! альпийская корова!
Ольга лениво покосилась через толстую щеку, пошевелила толстыми губами и ничего не сказала. Она, в самом деле, покорялась старшей и шикарной подруге беспрекословно, как хороший, безвольный автомат.
Иван Терентьевич рассуждал:
– Вы говорите, мы в небе и около рая, – сомневаюсь, потому что вонь все еще чудовищная, – в раю помойных ям, это уже в десятом веке монахи доказали, – быть не может, – да и темь, как в аду…
Фиорина извинилась:
– Скряга Фузинати не держит фонарей на лестнице. Впрочем, это здесь вообще не очень-то в обычае. Предполагается, что у каждого мужчины должен быть в кармане клубок восковых свечей. Я не сообразила, что у русских это не принято. Погодите, я сейчас добуду. Мы будем проходить мимо Мафальды. Помилуй мя, Господи. Она, наверное, не спит. Я вижу огонь в щелях ставень.
– А как же вы сами-то обходитесь без фонаря?
– Да ведь, обыкновенно, поднимаешься не одна. Да и привычка. Я легка на ногу. В ночи вижу, как кошка, и одышки у меня еще нет.
– Что вам за охота жить так высоко? Дешевле что ли?
– Напротив, дороже. Четвертый и пятый этажи вдут у Фузинати по самой высокой расценке. Нет комнаты дешевле ста франков в месяц, а я за три свои, – вот вы увидите, – плачу триста семьдесят пять. Верхние этажи, кроме шестого, это наш аристократический квартал. В шестом жить нельзя: слишком низкие потолки и зимою холодно, а летом знойно от крыши. Но, вообще, наверху, знаете, воздух чище и солнца больше. Здесь без этого нельзя. Солнце – все. Если небо ясно, то никто печей не топит. Поэтому и платим Фузинати лишнее – за экономию на угле и дровах. Вот здесь живет Мафальда. Помилуй мя, Господи…
Она постучала в решетчатую дверь.
– Помилуй мя, Господи! Кто там? – окликнул басистый женский голос.
– Рина.
– Кой черт, помилуй мя, Господи, носит тебя так поздно?
Фиорина объяснила.
– Помилуй мя, Господи! Подожди.
Загремели внутренние деревянные сплошные ставни, звякнули стекольные створы, решетчатый свет испестрил галерею. Внешние ставни Мафальда медлила отворять. Фиорина злилась.
– Долго ли будешь ты копаться, чертова котлета? Подумаешь, на костер тебя, ведьму, приглашают!
– Помилуй мя, Господи! Я слышу, ты не одна?
– Со мною Ольга Блондинка и два синьора, иностранцы.
– Помилуй мя, Господи! Ты не обманываешь меня? В самом деле, эти господа, которые с тобою, помилуй мя, Господи, не из наших, здешних, но иностранцы?
– Выгляни, так и сама увидишь. Отворяй, бефана![38]
– В таком случае, дочь моя, помилуй мя, Господи, – пройдись, пожалуйста, немного по галерее, посмотри, не прячется ли где-нибудь за колоннами, помилуй мя, Господи, этот наш адский скандалист, Ульпиан с Пятном? Он уже дважды приходил ко мне искать свою Розиту, но я узнала его подлый голос и притворилась, помилуй мя, Господи, будто я пьяна и сплю. Ты понимаешь, если ко мне ворвется этот выкидыш, которого чертова мать родила от собственного своего сына, то мне, слабой женщине, помилуй мя, Господи, ничего не останется, как, помилуй мя, Господи, взяться за нож.
– Отворяй, пожалуйста. Никого здесь нет, кроме нас, четверых, и котов, которые поют кошкам свои серенады.
Верхние ставни двери, составленной из четырех решеток, распахнулись. В световом квадрате обрисовалась черным силуэтом приземистая фигура женщины, необычайно широкоплечей и плотной, с растрепанною, косматою, будто каждый волос дыбом поднялся, курчавой головой.
– Эге, девки, – помилуй мя, Господи, – да вы с удачею! – пробасила Мафальда, оглядев мужчин, сопровождающих Фиорину и Ольгу. – Каких пушистых захватили, помилуй мя, Господи! Ну-ну! Знай нашу мышеловку! Ха-ха-ха! Помилуй мя, Господи! Ах, вы, бесовы дочери, целуй вас палач!
Голою толстою рукою, совсем серою в тусклом свете лампочки, протянула она Фиорине восковой клубок и спички.
– Помилуй мя, Господи! Вот так дельфинов словили… Ха-ха! Удивительно! Сегодня, помилуй мя, Господи, не везет никому из всей мышеловки. С кавалерами возвратились только вы да тощая Иола из третьего этажа… Ну и моя Клавдия, – помилуй мя, Господи! – тоже поймала какого-то англичанина. Увез ее на два дня в Комо…
Ольга расхохоталась.
– Ах, так Клавдии дома нет? Теперь я понимаю, почему ты боишься Ульпиана с Пятном… Значит, Розита уже у тебя? Недурно! Ах вы, подлые дряни!
Мафальда повертела пальцем пред лицом своим и равнодушно сказала:
– Дура! помилуй мя, Господи! Эта Ольга – всесовершенная дура! И у нее, помилуй мя, Господи, всегда скверные мысли в голове.
Ольга настаивала:
– Но Розита-то все-таки у тебя?
– Куда же еще деваться бедной девочке, которой любовник, помилуй мя, Господи, хочет ни за что ни про что перерезать горло? Конечно, она у меня, помилуй мя, Господи. Она знает, что я, помилуй мя, Господи, женщина с характером, и на нож у меня найдется нож, и на револьвер, помилуй мя, Господи, – револьвер. Но даю тебе честное слово, что несчастное дитя пришло ко мне пьяное, как Млечный Путь, и сейчас же брякнулось в постель, как клопик. Помилуй мя, Господи, если это не так! Клянусь тебе могилою моей матери и, если будут спрашивать, засвидетельствуй, что она, как ввалилась ко мне, так и ткнулась, помилуй мя, Господи, в подушки и заснула, и вот спит мертвым сном, ни разу не пошевельнувшись с девяти часов вечера… Да, да, да, душки мои. Сегодня только немногим весело в мышеловке Фузинати. Повсюду – пусто. Давно – темнота и сон.
– То-то так тихо… даже удивительно! Словно монастырь…
– Святой Магдалины, помилуй мя, Господи! – захохотала Мафальда. – Вы опоздали; было много шума. Сперва скандалил Ульпиан с Розитой. Помилуй мя, Господи, с каким удовольствием послала бы я этого мерзавца на галеры! Потом пришел пьяный Пеппино Долгий Нос и бил свою неаполитанку, помилуй мя, Господи, до того, что она, бедняжка, выла, как волчица, получившая пулю в ляжку, и, наконец, прыгнула от него в окно. Счастливо скачут эти твари, помилуй мя, Господи! Как блохи… Другая не сосчитала бы костей.
– Ну из нижнего-то этажа!
– Все-таки будет метра три, если не с лишком, помилуй мя, Господи. Я прыткая, но, помилуй мя, Господи, в трезвом виде не прыгну.
Назло холоду и сырости ночи Мафальда стояла в двери полуголая, лишь до пояса закрытая решетками нижних ставень, в одной рубашке, да и та ползла с нее, обнажая тучные плечи и жирную, повислую, как коровье вымя, грудь.
– Ты простудишься, – заметила ей Ольга, – накройся.
– Вот ерунда! Сейчас февраль. Когда я была девчонкою – немножко моложе тебя – то в декабре, босая, помилуй мя, Господи, пасла коз на скалах Монте-Розы. Простуживаются только барышни, как вот эта душка Фиорина, воспитанная на взбитых сливках и французском вине. Девки иногда сдуру кашляют, помилуй мя, Господи, но вообще всегда здоровы. Это наша привилегия.
– Все-таки стыдно! – сказала Фиорина. – Женщина же ты… здесь двое мужчин.
Мафальда равнодушно свистнула.
– Велика важность! Пусть каждый из них бросит мне по два франка и – помилуй мя, Господи, – я, пожалуй, растворю ставни во все окно.
– Безобразно, Мафальда! Спиваешься ты.
– Помилуй мя, Господи! Скажи лучше, что ты ревнуешь и боишься, что я, на старости лет, отобью у тебя этих господ… Эй, молодчики! – закричала она русским, страшно и бесстыдно, ведьмовски, сотрясая свое старое жирное тело, – эй, молодчики! Бросьте вы, помилуй мя, Господи, этих жеманных девчонок, которые трусят быть девками и строят из себя барышень! Идите к старой бабе Мафальде, помилуй мя, Господи! Конечно, я не так нарядна, как эти беспутные цесарки, эти мохнатые овечки, которых – помилуй мя, Господи, щиплет, стрижет, бреет в свою пользу старый подлец Фузинати. Зато я, помилуй мя, Господи, знаю сто шестьдесят три позы для любовных живых картин. И у меня есть рисунки. Да! из Парижа! Ого! Выбирайте любую по альбому.
Фиорина засмеялась:
– Твое красноречие пропадает даром. Ты проповедуешь перед глухими. Эти иностранцы русские и не понимают ни единого слова из того, что ты им плетешь и чем их соблазняешь.
– Русские? помилуй мя, Господи! Это то же, что китайцы, или еще дальше?
– Нет, несколько ближе, но так же глупы.
– Помилуй мя, Господи! Во всяком случае, язычники?
– Нет, только еретики. В папу не верят.
– Помилуй мя, Господи! Это хуже язычников. О, девки! Вот проклятая наша профессия, помилуй мя, Господи! О, девки, прострели дьявол вашу душу, какие же вы бесстрашные, что, помилуй мя, Господи, идете спать с еретиками, которые не верят в папу! Вам потом не отмыться от поганых грехов ваших даже, помилуй мя, Господи, если вы возьмете ванну из святой воды, благословленной самим архиепископом миланским.
Фиорина отступила из светового квадрата в мрак тени.
– Не читай дурацких наставлений, куча! Ступай, ложись спать и целуйся с своей Розитой. Пользуйся случаем. Клавдии не всегда нет дома.
Мафальда оскалила зубы не то злобно, не то смешливо.
– Рина! А ты-то – какими судьбами сегодня, помилуй мя, Господи, – ты-то – почему в компании с Ольгою? Что скажет, помилуй мя, Господи, Саломея?
Фиорина возразила сухо:
– Саломея не выходила сегодня.
– Ах – да?
– Она нездорова.
– Ну еще бы!
– Это случай, что мы столкнулись с Ольгою на одном деле.
– Ну, конечно, помилуй мя, Господи! Однако вы – куда сейчас? К Ольге или к тебе?
– Ко мне. Ты видишь, что нас четверо. У Ольги – каморка.
Мафальда дико захохотала.
– Рина! помилуй мя, Господи! Саломея разобьет тебе рожу! Она ревнивая и Ольгу терпеть не может.
– Ну, уж, пожалуйста, следи за своими собственными похождениями, а мои оставь в покое.
Ольга отозвалась раздраженно:
– Все это – потому, что ты сплетничаешь Саломее черт знает что про нас обеих!
Мафальда злорадно хохотала.
– Ха-ха! А вы не играйте в двойную игру. Завела тетя дядю, так не зарься на других, не воруй чужого. Не ловите вперед друг дружку по всем закоулкам и глухим углам дома, чтобы целоваться, как любовники!
Ольга грубо прикрикнула:
– Мы в твою дружбу с Клавдией не вмешиваемся… А если порассказать ей завтра, как ты приютила пьяную Розиту…
– Ладно! – вдруг сухо оборвала Мафальда, – вы получили, что вам надо. Идите себе с вашими голубками. А я хочу спать.
– Прощай! Спасибо…
– Доброй ночи.
– Утра, хочешь ты сказать?
– Рина! – услыхала Фиорина, уже вдогонку, крикливый и насмешливый голос Мафальды.
– Ну?
– А, может быть, твои иностранцы закутят, разойдутся и захотят живых картин?
– Не думаю… Да если бы даже, тебе-то что?
– Не забудь тогда обо мне, помилуй мя, Господи! Я приду с Розитою, и мы, помилуй мя, Господи, покажем им, как прыгают дрессированные блохи.
– Хорошо уж, хорошо. Спи, старая бесстыдница! Ты пьяна.
– Что значит – пьяна? Не ты угощала. Когда женщина имеет достаточно силы, чтобы стоять на ногах, а во сне, помилуй мя, Господи, не падает с постели, – это выходит, она трезвая, как святая ладанка, а не пьяна. Не имеешь права, и подлость с твоей стороны называть подругу пьяницей. Помилуй мя, Господи. Конечно, вы модные барышни, а я простая девка с маисовых полей, но в мышеловке все мыши равны, помилуй мя, Господи. Право, Рина, скажи-ка своим ослам, чтобы они позвали нас с Розитою. Помилуй мя, Господи, – не раскаются, я чувствую себя в ударе быть забавной.
– Не такие синьоры, Мафальда. Не пройдет.
– Врешь, – врешь! Какие это бывают не такие синьоры? Все синьоры такие, помилуй мя, Господи. Если нет, то зачем бы им шляться в своих хороших пальто по нашим, помилуй мя, Господи, распутным ямам? Ты просто плохая подруга и не хочешь помочь бедной девке, помилуй мя, Господи, схватить десяток лир на хлеб и вино. Дай мне заработать, Рина. За это я не скажу Саломее, что вчера застала тебя с Ольгою, вон там, за углом, когда вы, помилуй мя, Господи, целовались, – сущие голуби.
Рина вспыхнула и выпрямилась.
– Ты стоишь, чтобы я надавала тебе пощечин!
Ольга тоже замахала руками, быстро залопотала что-то и начала хныкать и визжать.
Мафальда грохотала, подбоченясь и трясясь тучным туловищем.
– О-го-го! Суньтесь-ка! Даром, что вас две, а я одна, помилуй мя, Господи! Управлюсь в лучшем виде, обе будете разрисованы, как радуги, нарядные мои красавицы в бархате и шелку! Мне-то в рубахе – наплевать, помилуй мя, Господи, а что я с вашими шляпами сделаю, так вам обоим Фузинати по месяцу работы накинет…
– Безумная дура! Тряпка уличная! Девка за пять сольдо!
– Вот – как примусь орать, помилуй мя, Господи, подниму на ноги весь дом. Посмотрим, много ли останется от ваших мужчинок, как полезут из щелей наши молодцы. Я уже слышу, как за стеною, помилуй мя, Господи, ворочается Рыжий Антонино…
– Послушайте, – не без тревоги обратился Иван Терентьевич к Вельскому, – я не понимаю ни слова из того, что трещат эти прекрасные дамы, но мне сдается, что они ссорятся. У этой старой голой ведьмы рожа стала, как у бульдога. Смотрите, как она ворочает глазищами в нашу сторону. Кажется, мы попали в свидетели надвигающегося скандала.
– Э! В Италии все делают сильные жесты и даже закурить папиросу просят с трагической интонацией.
– Ну нет, здесь пахнет рукопашною. Поверьте опыту. И как они сыпят словами: словно из пулемета! Я уверен, что каждая из них за те три минуты, что мы здесь ждем, успела рассказать всю свою биографию – до родословия бабушки и дедушки с обеих сторон включительно… Однако, смотрите, смотрите: теперь и наши две – обе окрысились… да как люто! Моя-то булка рыжая уже руки в боки взялась… Скажите, пожалуйста! Туда же! темперамент! Я думал, что она только есть да спать, да висеть на локте умеет. Ох! Ох, Матвей Ильич! придется их разнимать. Ох, влетели мы в историю! Визга-то! писка-то! Вот уже, слышите, соседи ругаются и ставнями хлопают… Придется разнимать.
Но тут Фиорина, выкрикнув резкую короткую миланскую брань, сразу оборвала и быстро зашагала от окна, в котором кривлялась, строила рожи, хлопала себя по бедрам и злобно хохотала Мафальда. Ольга тоже тотчас же смолкла, будто по команде, и апатично последовала за подругою, мелькающей по галерее крохотным огоньком свечи, точно летит одинокая светящаяся муха. Мафальда кричала и ругалась им вслед, но, когда все четверо готовились исчезнуть за поворотом галереи, то и она сразу же стихла, переменила тон и, почесываясь и зевая, послала им самым дружелюбным голосом:
– Желаю вам покоя, мои кошечки. Помилуй вас, Господи! Дай Бог обеим золота на камине и удовольствия в постели!
На что обе женщины, тоже – словно никогда и не ссорились и не собирались только что вцепиться этой Мафальде в волосы, – отвечали также в самых ласковых тонах:
– Покойной ночи, милая Мафальда! Спасибо за огонь!
– Ты всегда так добра! Счастливых снов и приятных сновидений!
– Поцелуй от нас Розиту, когда она проспится.
– Если завтра захочешь освежить голову, зайди после полдня: у меня найдется стаканчик хорошего коньяку – Мартель с тремя звездочками…
Вельский спросил Фиорину:
– Из-за чего была эта драма? Она возразила с недоумением:
– Какая драма? Никакой драмы не было… Все в порядке.
– Однако вы порядочно шумели.
– Ах это!.. Пустяки… Наши домашние бабьи счеты. Вам совсем не надо знать, да и ничего не поймете. А у Мафальды такой уже характер. Она не может хорошо уснуть, если не поругается с кем-нибудь всласть на сон грядущий. Добрейшая женщина, но язык ей выковали черти на шабаше. Даром, что не может словечка сказать без «помилуй мя, Господи!» Мы все ее крепко любим и уважаем, потому что она очень справедливый человек и хороший товарищ, но говорить с нею полчаса, не поругавшись, решительно невозможно. У мраморной статуи язык развяжется. Манекен из модного магазина – и тот заговорит… Такие гадости она вам в лицо преподносит! Осторожнее, мосье Вельский, здесь кто-то лежит… Ага! Пьяница Пеппино Долгий Нос! Вот где его сегодня свалило, негодяя!.. Ничего, господа, не стесняйтесь: переступайте через него смело. Завтра с похмелья он будет весьма свиреп и всех будет задирать, покуда кто-нибудь не пустит ему кровь кулаком из мурла или ножом из-под ребра, но, пьяный, он дрыхнет, как старый слон, и ничего не чувствует… Сюда налево, господа! Еще раз осторожнее: порог. Вот мы и дома. Милости просим, дорогие гости.







