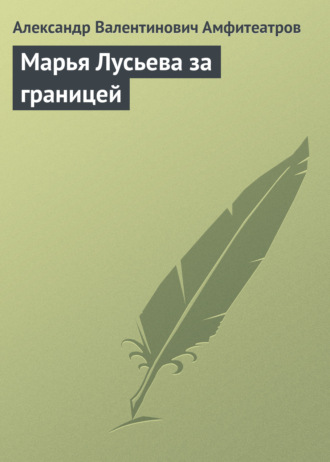
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
VI
– Вот угол, где я – до известной степени хозяйка, и, значит, могу иногда чувствовать себя хоть немного самою собою. Вы видите, что это не столько помещение, сколько логовище.
Действительно, в узкой и короткой комнатушке втиснутая туда, конечно, по частям и собранная на месте громадная кровать, под балдахином, типическое итальянское letto matrimoniale[42], оставляло места ровно настолько, чтобы вдавить в узкие проходы между одром этим и тумбочку, и соломенный стул. В стене было выдолблено маленькое углубление, в котором мигал ночник, – лампочка с оливковым маслом.
– Если вы не любите запаха olio[43], то это можно унести, – сказала Фиорина. – На дворе уже светает, и какие-нибудь полчаса спустя, здесь будет совершенно светло, потому что есть окно в потолке. Вы его не видите в полумраке, – оно замаскировано пологом. Ложитесь, мосье Вельский, и отдыхайте спокойно. Если бы вы заснули, то мы с Саломеей будем оберегать ваш сон. Я бессонная птица, а Саломея выспалась до нашего прихода. Разденьтесь, не стесняйтесь, – вам будет удобнее.
Вельский с удовольствием последовал бы этому последнему приглашению, потому что спать он почитал из всех потребностей организма наименьшею и – во всех прежних отраслях своего быта, как офицер, чиновник, светский человек, танцор и игрок – мог обходиться без сна суток по двое, даже до трех, – за игрою ли, за делами ли, по дежурству ли, в походе ли, на балах ли, – без особого труда и заметного утомления. Но сейчас раздеться ему – значило. Непременно обнаружить бумажник с довольно крупною суммою денег. Оставить его в снятом пиджаке – все равно, что отдать в руки этим двум госпожам; спрятать куда-нибудь под подушку или тюфяк – бесполезно, потому что, конечно, обе они знают свои постели очень хорошо, и штука эта давно известная и испробованная. Следовательно, стоит ему заснуть, и будет он обыскан и выпотрошен в лучшем виде. С другой стороны, повалиться на довольно-таки пышное и нарядное ложе Фиорины вот так прямо – в грязных сапогах и напитанном железнодорожною пылью платье – было и неловко, и обидно для женщины, и даже подозрительно: боится раздеваться, – значит, на нем какие-нибудь сокровища скрыты?! Да и хотелось-таки дать ногам отдых от стеснения обуви, телу от жилета, подтяжек и крахмальных воротничков.
«А, черт! – решил он про себя, – была не была, куда ни шло, попробуем апеллировать к каторжной совести и сыграть на добрых чувствах. Обыкновенно, в подобных местах это у меня выходило».
– Вот что, m-lle Фиорина, – сказал он, как умел, дружелюбно, – я должен вам признаться откровенно. Что вам и подруге вашей я доверяю безусловно, об этом не стоит и говорить, это само собою подразумевается. Но дом ваш, – вы сами говорите и мы уже имели случаи видеть, – весьма подозрительный дом, и соседи у вас темные. Между тем, при мне несколько тысяч лир билетами, также кредитивы на Ниццу и Париж. Часть принадлежит мне, часть – моему товарищу. Я человек мнительный и вечно опасаюсь, не потерять бы эти деньги или не случилось бы с ними какой-нибудь беды…
– Так что же? – перебила Фиорина, с видом гордым и очень довольным. – Дайте мне ваш бумажник на сбережение. Поутру, то есть когда вы проснетесь и пожелаете уйти, я возвращу вам его в совершенной сохранности.
– Это именно то, о чем я хотел вас просить.
– Вы знаете точно сумму денег, которая имеется при вас?
– Около шести тысяч франков.
– Нет, – точно?
– Должен сознаться, что нет.
– Надо сосчитать.
– Это долго и скучно, – мы истратим время, которое можем использовать гораздо веселее.
Фиорина засмеялась и приятельски хлопнула его ладонью по лысине, но настаивала:
– Нет, уж вы потрудитесь. Если я беру на себя ответственность, то желаю знать, за что отвечаю.
Считать Матвею Ильичу очень не хотелось, не потому, чтобы он, в самом деле, уж так берег время свое, но потому, что он по опыту знал, что в мирке Фиорин и Саломей денежный соблазн – по преимуществу, не умозрительный, а непосредственный, по наглядной приманке и видимости того, что плохо лежит. Между проститутками воровки вообще менее часты, чем это воображают добрые буржуа, а встречаются прямо-таки идеально честные бессребреницы. Но бывают и такие странности, что, вот проститутка, теоретически, честнее честного. До того, что уговорить ее на предумышленную кражу совершенно невозможно, какие бы тысячные перспективы ни рисовал ей соблазнитель. Однако в глубине своей и по существу, это – оказывается – не столько честность, сколько отсутствие, так сказать, финансового воображения. Потому что, на практике, нередко: вдруг та же самая честнейшая проститутка, ко всеобщему удивлению и даже, пожалуй, к своему собственному, глупейшим образом, срывается на тощем кошелечке со звонкою монетою или на некрупном кредитном билете, который небрежно торчал ухом из жилетного кармана гостя. Это – кражи по зрительному гипнозу, порыв инстинкта жадности, вспыхнувшего в мгновенный, неудержимый аппетит, – ответом на провокацию нечаянной приманки; но аппетит этот очень мирно и невинно погаснет, как скоро скроется из вида предмет, его пробудивший. Это – пережитки первобытного хищничества, отголоски доисторического дикарства.
– Впрочем, – подумав, согласилась Фиорина, – если вы не хотите, то мы устроим по-другому. Саломея, дай сюда шнурок и сургуч.
И она заставила Вельского собственноручно обвязать бумажник шнурком и опечатать узел при помощи именного перстня, который он имел на руке.
– Теперь, – продолжала Фиорина, передавая бумажник Саломее, а та очень бережно и аккуратно, как бы с благоговением, упокоила его, как младенца какого-нибудь, под капотом, где-то в дебрях своей необъятной груди, – теперь ваши деньги так же безопасны, как в кассе Creditoltaliano[44]. Через Саломею к ним никому не добраться.
Саломея скалила огромные белые зубы, и успокоительно мигала, и кивала колоссальною головою, видимо, польщенная доверием. А Фиорина, садясь в головах у Вельского, расположившегося на постели, говорила:
– Пять лет тому назад, когда я не перестала еще быть дурою и содержала дружка, я не могла бы предложить вам такой гарантии. Я ненавижу наших мужчин. С тех пор, как я выехала из России, я имела семь любовников, то есть сутенеров, как говорите вы, господа из общества, а по-парижски marlou, и хоть бы один из них удался – не был бы бессовестным драчуном и вором. Пьянствовали не все. Двое даже в рот ничего не брали, заболевали от полуфиаски кьянти, от рюмки коньяку. Ни один игроком не был. Но воры были все без исключения, и все хотели, чтобы я тоже была воровкою, и дрались, как черти, за то, что я не хочу. Последний мой, – тот самый, который теперь, я говорила вам, отбывает наказание в Монтелупо, – был настоящий дьявол. Когда здесь станет светлее, я покажу вам на стене его портрет. Очень достопримечательное существо. В Турине был профессор Ломброзо. Конечно, слыхали? Очень знаменитый человек, первый в мире по исследованию всяких преступников и нашей сестры, злополучной проститутки. Так, когда Джанни судили во Флоренции, он нарочно приезжал из Турина изучать мое сокровище: что за бес такой уродился? В конце концов, Джанни усахарил-таки меня – в газеты, а себя – в келью уголовно-психиатрической тюрьмы. Я вам расскажу, как было дело. Жили мы во Флоренции, в заречье, на набережной, близ Ponte delle Grazie[45], дом прямо над рекою висел. Заманила я к себе с прогулки в Cascine[46] англичанина одного, посольского. Парень молодой, крепко выпил, да и бахвал. Вот он на беду и сверкни своими золотыми. Я умоляю спрятать, потому что знаю: если Джанни увидит, то с ума сойдет. Он на золоте прямо помешан. Трясет его при виде золота. Влезет ему желтый дьявол в мозги, и, покуда он золота этого не получит, у него будет сердце дрожать и распаляться, как у влюбленного, и он ни минуты не будет спокоен. Всякое золото для него – свое. И у кого оно есть – его кровный враг. Но этот лондонский дурак оказался фарсун ужаснейший. В ус себе не дует. Знай, гогочет в ответ да гоняет кругляки свои ребром по столу, – щелкнет пальцем, и колесико катится, как детский обруч. Ну и доигрался до того, что Джанни, – на галерее, вот такой же, как здесь, притаясь, – все видел. Как только он вошел, я – взглянула, поняла: дело плохо. Уже влюблен в гинеи английские, и почитает их своею собственностью, и кипит ревнивою тоскою по ним и жадностью. Потому что Джанни пришел веселый-превеселый, ласковый-преласковый, а усы ходят, а левая бровь на половину лба поднялась.
«Вина, – кричит, – вина, Рина! милорд! очень рад с вами познакомиться, позвольте угостить вас вином! Вам нравится моя ganza?[47] Тем лучше! Почитаю за честь! Что-то у вас? Chianti?[48] Рина! Как тебе не стыдно поить такого высокого гостя дрянью? Милорд! В знак международной симпатии двух наций, разрешите предложить вам бутылку шампанского…»
А мы, тем временем, надо вам сказать, уже фиаску старого кианти вдвоем усидели, и намок мой англичанин весьма основательно. Но они, англичане, – знаете – либо вовсе не пьют, либо уж, если пьют, то как губка; что ни лей жидкое, все в себя примет, только пухнет. «Очень рад!..» Покуда Джанни ходил за бутылкою, я этого милорда честью прошу: «Не пейте вы больше, ради Бога!..» – «Почему? Я хочу!» – «Ну, так, по крайней мере, пейте только кианти, а шампанского не надо». – «Почему? Я хочу!..» Ну не могу же я Джанни выдавать, – так вот и открыть Джон Булю этому, что, мол, с шампанского, которым вас угостит Джанни, вы очутитесь – хорошо еще, если только голый на мостовой, а то, может быть, и покойником в волнах Арно… Говорю: «Вредно мешать кьянти с шампанским». – «Почему? Я хочу!..» Заладил свое. Такой дурак! Тьфу! Принес Джанни шампанское. Бутылка – ух! не закупоривают так в погребах. Пьяному, конечно, не в примету, а трезвый сразу разглядел бы. Откупорил, – пробка и не хлопнула. Чокнулись. Англичанин – свой стакан в глотку, Джанни – свой через плечо. Я свой на столе оставила. Как сверкнет на меня глазами Джанни: «Ты что же, Рина? моим угощением брезгуешь? Пей!..» Я смотрю на него во все глаза: ошалел он, что ли? стану я заведомо сонное пойло вливать в себя? «Пей!» «Эге! – думаю, – надо быть трезвою. Джанни готовит себя в каторжную тюрьму. Если меня споить хочет, – стало быть, затеял что-нибудь посерьезнее простой кражи – чтобы быть совсем без свидетелей…» А он улучил минутку, шепчет мне: «Пей, не бойся, вино чистое, я просто веселюсь, потому что здорово выиграл сегодня, могу угостить…» По голосу слышу: врет, и глаза – подлые. «В таком случае, – говорю, – с удовольствием, ты знаешь, как я люблю шампанское…» Была я в платье с низким вырезом, – ну, стало быть, вино за корсет. «Наливай еще!» – «С величайшим наслаждением, моя овечка, моя Фиорина!.. Ах, что это за сокровище – вот игрушка, милорд, эта Фиорина!.. Пей, детка моя, соловей мой, пей!..» Зло меня разбирает страшное, потому что знаю же я вино-то: без жалости, разбойник, дурманом угощает свою «ганцу», а ведь от этого пойла и окочуриться недолго. Соображаю: «Так-с! Это, значит, он уже до того на деньги англичанина разъярился, что меня на карту ставит; мы заснем, он придет – обработает нас, как ему заблагорассудится, два трупа оставит, а сам в Америку пропадет… Ну, врешь. Не на таковскую напал». Так и пошло: англичанин – в глотку, Джанни – через плечо на пол, а я – за корсет! Заерундила я, притворилась пьяною. Кончили бутылку. Джанни для вида ушел. После, на следствии, оказалось: за час, что он назад не бывал, в четырех квартирах успел показаться, – все alibi себе готовил.
Англичанин скис, я его едва до постели дотащила. Влила ему, на всякий случай, нашатырного спирта в пасть. Это средство у нас всегда имеется – на случай очень пьяных гостей. Авось очухается! Бухнулся и захрапел. А я сижу – жду, что будет. Лампа горит. Трр… закрутил ключом. Вот он, душка, негодяй-то мой! Милости просим… Вошел босой, только maglia[49] на теле, – значит, готовится на опасную работу, платье жалеет, пятен боится, – а рожа бронзовая, злая, – черт чертом… Увидал, что сижу и – трезвая, – так его всего и перекосило, ошалел.
– Ты почему не спишь?
– Потому что, – говорю, – вино расплескивать я получше тебя умею.
Заскрипел зубами.
– Вот как? – говорит. – Ну, в этом мы с тобою сочтемся.
– Сосчитаться – отчего же нет? Но только на каторгу идти по твоей милости я не согласна: в этом счете вместе с тобою быть не хочу.
– Так против меня идешь? Предать хочешь, подлая?
– Если бы я хотела тебя предать, то давно бы на весь дом кричала. А я только честью прошу тебя: уходи ты, пожалуйста, опамятуйся, пока не поздно, не губи себя. Англичанина этого я тебе не выдам. Уходи.
Совсем озверился.
– Ну, уж это, – шипит, – скорее я из вас обоих кровь выпущу, как из свиней к Рождеству. Не говори глупостей. Другого такого случая десять лет ждать не дождемся. Ты меня не поняла. Я хотел напоить тебя – лишь затем, чтобы из свидетельниц вывести и в сообщницы ты не попала бы, а ты, по подлости твоих мыслей, невесть что обо мне вообразила… Ну теперь, – конечно, – нечего делать: сама виновата, что врюхалась, – я назад от задуманного не отступлю, помогай.
– Что же я должна делать?
– Возьми подушку у него из-под головы да брось ему на пьяную харю! Только и всего. А я придержу.
– Почему же ты сам этою милою операцией заняться не хочешь?
– А потому что, если ты со мною работы не разделишь, то, стало быть, ты не сообщница, – донесешь.
– Доносить я не хочу и не буду, но можешь быть твердо уверен: ни ограбить, ни убить англичанина я тебе не позволю, и разве через тело мое ты к нему подойдешь.
Как бросится он на меня с кулачищами, а я его бутылкою по морде. Он взвизгнул этак потихоньку, как котенок, утер лицо рукою, и – откуда только у него нож взялся?.. Пропасть бы мне, если бы сам же он меня не надоумил – насчет подушки-то… Выхватила я у англичанина из-под головы подушку и подставила вроде щита: нож-то в ней и увяз, – только сено посыпалось. Ну и пофехтовали мы тут немало. Джанни – с ножом – как кот, ловок, а я с подушкою, как мышь, увертлива… И так он рассвирепел, что даже об англичанине уже забыл: только бы меня-то ему достать и погладить ножом своим. А мне того и надо: за себя не боюсь, увертлива, а ведь того-то – душу сонную, беззащитную – долго ли ему порешить? Чуть Джанни к англичанину, я на него сзади прыг, как леопард какой-нибудь, – и опять пошла кружиться возня наша по комнате. Раза три меня он ткнул, однако… легко, не вглубь, а порезом полоснул по коже. Пустяки бы, да – кровь течет, и оттого слабею, понимаете… Кричать стыжусь и жалею дурака: все равно, что человека прямо в тюрьму сдать, – стараюсь только шуметь, стулья роняю, топаю, в стены посуду бросаю, кулаками, каблуками стучу, чтобы соседи – свои же люди, отличнейшие товарищи, догадались, что деремся, – пришли бы, выручили меня, покуда не убил… Характерец-то его по всей набережной был известен… не раз уж меня отнимали, полуживую, из нежных его рук. Бросаю все, что в руки попадет под ноги ему, все надеюсь, что споткнется, грохнется, – ну, тут уж я с ним, голубчиком, лежачим-то, справилась бы, – пусть бы избил, как собаку, хоть кожу сдери, но ножа в ход пустить не успел бы, – нет, не дала бы!.. Но – ловок, собака! так и прыгает через вещи… шляпу мою растоптал… Добилась я, однако, своего: выиграла время, – загудели соседи за стенами с обеих сторон. Слышу: бегут по галерее. Стучат в двери… Остановилась я и говорю: «Слышишь, Джанни? Моя взяла. Брось, не выгорело твое дело…» А он – уж так распалился, аж пена у рта – воспользовался, что я больше не защищаюсь, – как хватит: едва успела согнуться, чтобы – не в сердце, в плечо угодил. Я, чувства потеряв, трах – упала – прямо головою в двери, стекла вдребезги, лицо себе изрезала, ставню телом вышибла, – подхватили меня соседи эти, которые стучались… Я им еще успела крикнуть: «Спасайте англичанина. Там Джанни!..»
Очнулась в госпитале, вся в перевязках. «Что Джанни?» – «Ну, о нем лучше вам не спрашивать. Он в тюрьме». – «Значит, англичанин…» – «Что англичанину делается! Целехонек, только рвет его ежеминутно так, что он ревет, как гренландский кит». – «Позвольте же! – говорю, – если англичанин жив и невредим, за что же Джанни в тюрьму взяли? Неужто за то, что мы с ним повздорили? Это несправедливо. Конечно, он вел себя против меня, как ужасная свинья, но то наше дело, семейное… мы подрались, мы и помиримся».
Но мне объясняют: «Во-первых, – ваши поранения признаны серьезными, и, значит, если бы не только вас, но даже лошадь он этак изрезал, то было бы за что отправить его в тюрьму. Гражданский иск предъявлять или нет – ваше дело, а полосовать женщину ножом никакое государство не дозволяет, хотя бы даже вам это и нравилось. А, во-вторых, в его деле вы теперь – уже на заднем плане. Он из этих людей, что к вам на помощь пришли, соседу и соседке кишки выпустил, – муж уже в мертвецкой покоится, а жена еще мучится, к вечеру ждут, что умрет. Из карабинеров одному глаз вышиб, другому нос откусил, – уже хотели пристрелить вашего Джанни, как бешеную собаку, да он покатился в падучей… тут его и взяли, как дитя малое…»
Как же! Дело гремело на всю Италию. Говорю вам: Ломброзо приезжал. Все старались сделать Джанни, по крайней мере, сумасшедшим, чтобы, знаете, тюремный режим был легче, отбывать бы одиночку не на тюремном, а на больничном положении: ведь его, знаете, закатали на двадцать лет!.. И то падучая выручила, – иначе угодил бы пожизненно.
– Вы, конечно, выступали свидетельницею?
– Ну еще бы, – с гордостью сказала Фиорина. – Мои портреты во всех журналах были, – вот как теперь Тарновская. Сперва-то меня заподозрили в соучастии, потому что вино анализировали и нашли, что отравлено. Да меня англичанин выручил; вспомнил, как я его уговаривала не пить шампанского, – а кьянти мое, в анализе, конечно, оказало себя чистым. Ну и соседка, умирая, успела показать, с какими словами я из двери выпала… Джанни сперва рассчитывал на ревности отвертеться, и хотя мудрено было ему поверить, потому что – сколько же было свидетелей, что он торговал мною, как скотиною какою-нибудь, и тем только и жил, что я от мужчин получала! – но, черт с ним, я его поддержала бы, помогла бы ему эту комедию разыграть. Да – узнала стороною, что он-то, негодяй, в первых своих показаниях без жалости меня топил и оговаривал. А из тюрьмы – другие вести были, через подруг, у которых тоже дружки там сидели, будто Джанни грозится и святым своим клянется: «Только дайте мне сойтись с Фиориною – в тюрьме ли, на воле ли, – я ее заставлю съесть свои собственные груди!..» Эге? Вот как?.. Не имею аппетита!.. Ну и перестала его щадить, – показала следователю все, как на самом деле происходило: что совсем не по ревности он меня искромсал, но – зачем я англичанина защищаю и не даю ограбить? И опять меня англичанин поддержал. «Представьте, – говорит следователю, – я теперь припоминаю: ведь я всю эту сцену слышал сквозь беспамятство мое, но – принимал за страшный кошмар, и очень страдал во сне оттого, что никак не мог сделать усилие и проснуться… а, когда очнулся, все забыл… все, что было до ухода Джанни, помню, но затем – темно. А теперь, когда вы мне это рассказываете, воскресло ясно и целиком: совершенная правда. Это, в точности, весь мой тогдашний кошмар». Врачей запросили: может ли быть такое состояние, как показывает англичанин?.. Говорят: «Очень может, – это его белладонною опоили…» Ну, тут меня из обвиняемых – сразу в героини. Публика мне на суде такую ли овацию сделала!..
Англичанин этот был хороший человек, – продолжала она, помолчав в воспоминаниях, – не даром я его пожалела. Я потом с ним два месяца жила и даже в Афины с ним уехала, потому что его, от скандала, в Афины на службу перевели, в наказание, что нанес срам посольству. Влюблен он был в меня, как лунатик в луну. Если бы я хотела, то легко могла бы даже и оженить его на себе, – даром, что он капиталист и знатного рода. Ну – женить не женить… пожалуй, родня вступилась бы, на дыбы поднялась бы… а, во всяком случае, каким-нибудь способом связать себя с ним на всю жизнь – были шансы. Ведь и теперь, если мне уж очень плохо приходится, то стоит лишь телеграфировать: «Пришлите денег!» – сейчас же выручает… Я этим редко пользуюсь, потому что имею совесть и достаточно горда – не хочу никому быть обязанною, покуда я в состоянии работать. Но – что он помнит и хорошие чувства ко мне сохранил – это факт.
– Отчего же, все-таки, вы не вышли за него, если могли? Не нравился, что ли?
– Нет, не то, чтобы не нравился, хотя – разумеется – влюблена в него я не была ни чуточки… Но, знаете, совестно было: правда, он пьяница, но все же хороший человек, из общества, с карьерою, семья у него родовитая и прекраснейшая, – что же мне, проститутке, губить его и вешаться ему камнем на шею? Ведь я же знаю себя: надолго я в порядочной жизни удержаться не могу – потянет меня назад, в вертепы-то наши… Испробовала не раз. Помните нашу встречу в К.? Ожидали ли вы после того встретить меня под гостеприимным кровом Фузинати?
– Да! Удивили вы меня вчера немало!
– Когда стряслась вся эта флорентийская драма моя с Джанни, мне было двадцать восемь лет. В эти годы женщина должна понимать себя, потому что жизнь ее исполнилась: подержится еще несколько годков на уровне, которого достигла, а потом пойдет не вверх, но вниз, не на приход, а на убыль. И вот еще там, во Флоренции, лежа в больнице, надумалась я о себе и дала себе две клятвы: первую – что никогда у меня больше не будет этого проклятия нашего профессионального – сутенера, а вторую – что, если кто меня начнет сбивать к возврату в так называемую честную жизнь, то пошлю я его ко всем чертям-дьяволам, и уши запсну, и слушать не стану. Потому что – уже довольно! И возвращалась, и возвращали! И – что людям жизни на этом пустом деле я испортила! И сколько раз самое себя видела на краю смертной гибели! Соблазн – насчет англичанина – был самый сильный: понимаете, какова возможность, – из девок-то да, черт возьми, в леди! Однако устояла: чуть стали мне мутить голову перспективы эти, – сбежала из отеля, села в Пирее на пароход и – в Константинополе – закабалилась фактору… Так-то вернее! А в Константинополе я встретилась и подружилась вот с нею, – кивнула она на Саломею, – и она помогла мне сдержать первую мою клятву. С ее характером и кулаком сутенеры нам не нужны.







