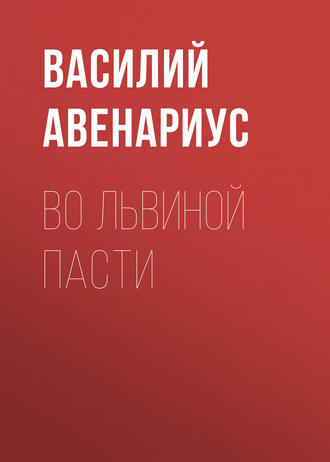
Василий Авенариус
Во львиной пасти
Глава седьмая
Нет, нам пора!.. Открой мне жилы!
О, величайшее из благ –
Смерть! ты теперь в моих руках!..
Майков
Что не золотая трубушка вострубила,
Не серебряна сиповочка взыграла –
Что возговорит наш батюшка православный царь:
«Ах вы, гой еси, все князья и бояре!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
Еще как нам Азов город взяти?»
«Петровская солдатская песня»
Вечером того же дня царь Петр отбыл на шестидесяти карбасах с семью гвардейскими ротами на взморье. Вернулся он оттуда в Шлотбург (как был прозван русский лагерь под Ниеншанцем) уже на следующее утро, 29 апреля, оставив в засаде на Васильевском (Лосином) острову (которому было теперь возвращено его прежнее русское название) три роты в ожидании появления с моря неприятельского флота. Из ниеншанцской цитадели хотя и было пущено по плывущим мимо русским несколько ядер, но без какого-либо вреда. Зато со «стрелки» Васильевского острова сделано было серьезное покушение, и именно на Меншикова, карбас которого плыл саженей двадцать впереди всего отряда и которого поэтому шведы, должно быть, приняли за самого царя.
Подробности об этом покушении Лукашка узнал непосредственно от одного из участников экспедиции – Преображенского сержанта. Как только передовой карбас поравнялся со «стрелкой», из прикрытой кустами береговой бухточки вылетели два восьмивесельных баркаса и одновременно с двух бортов причалили к лодке Меншикова, чтобы взять ее на абордаж. Но дружным залпом русских была тут же перебита половина нападающих, в том числе и сам командир их, бесноватый какой-то старичок-офицер.
– Майор де ла Гарди! – воскликнул Лукашка.
– Так называли его нам, – подтвердил сержант.
– Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость его! На вышке у старичины обстояло ведь неблагополучно.
– Подлинно, что так: противу шестидесяти царских карбасов на двух лодчонках со своими ледащими чухнами идти!
– Ну, те, конечно, без командира-то тотчас пардону запросили?
– Знамое дело. А мызу майорскую государь тут же Меншикову пожаловал: вот, мол, тебе, Данилыч, и место для новых палат твоих. Поклонился тот в ножки государю и с одной ротой высадился у мызы – якобы для того, чтобы обеспечить государя с тылу.
– А то еще для чего же?
Сержант ухмыльнулся и подмигнул лукаво.
– Да почивать-то на майорских пуховиках куда, поди, мягче и теплее, чем в лодке на голых досках либо на голой земле, особливо под утро, когда этак дюже посвежеет. Он у нас, что греха таить, хоть и из простых вышел, а вдвое роскошней и привередливей самого государя.
– Так государь, стало быть, заночевал на взморье?
– Как и подобает на походе. Сколько ночей, бывало, провел он так на Ладоге да под Шлюшеном на палубе рядом с нашим братом. Подстелют ему разве дорожный коврик, да заместо изголовья себе денщика возьмет – Ягужинского Павла Иваныча али кто как раз на дежурстве.
– То есть как же так заместо изголовья?
– А так, вишь, что приляжет ему головой, значит, на спину, а тот не моги уже ворохнуться, чтобы, Боже упаси, не разбудить царя.
– Нелегкая тоже служба… А де ла Гарди там же, на Васильевском, и зарыли?
– Нет, осталась после него старушка-сестрица, упросила, слышь, Меншикова схоронить братца тихомолком на городском кладбище, в семейном склепе.
– Вы про кого это, братцы? Про горемычного нашего фенрика? – спросил подошедший тут к разговаривающим фельдшер из походного лазарета.
– Про какого фенрика? Про Ливена? – всполошился Лукашка. – Что с ним?
– Аль не слышал разве, то отошел он тоже от сей жизни в вечную?
– Бог ты мой! Царство ему небесное! Но ведь государь поручил его особливому попечению лейб-медика…
– И пеклися; лечение шло своим ходом. Да вот но-нешною ночью, Господь его ведает, что ему попритчилось: как малыш несмышленый, самовольно развязал себе бинт на руке. Как хватились мы под утро – ан больной уж кровью истек.
– Сраму, знать, не мог снести, что в плен добровольно отдался. И никого-то из своих даже при нем не было, чтобы закрыть глаза бедняге на вечный покой!
– Ты-то, Лука, чего об нем терзаешься? Родня он тебе, что ли?
– Родня не родня, а все якобы по моей милости под свое же шведское ядро угодил.
– На том свете, авось, сквитаетесь, – философски заметил сержант. – Знать, ему такое уже предопределение вышло. Промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.
Если сердобольный калмык раз-другой вздохнул еще от горькой участи бездольного шведского фенрика, то другим в лагере было уже решительно не до него, потому что в это самое время прибыла наконец на барках запоздавшая артиллерия из Шлиссельбурга. К вечеру поспели и подводимые к крепости траншеи, так что не медля могло быть приступлено к самой установке мортир и пушек. Целую ночь напролет, с 29-го на 30 апреля, на траншеях кипела неустанная работа, а к полудню 30-го все батареи были уже в порядке, орудия заряжены; оставалось начать бомбардировку.
Но на собранном государем военном совете было решено – не громить цитадели и беззащитного города, не испытав предварительно всех мер к миролюбивому соглашению.
От имени генерал-фельдмаршала Шереметева к коменданту цитадели, полковнику Опалеву, был отряжен трубач с «увещательным» письмом о сдаче крепости и города «на акорд».
Махая белым платком, трубач подошел к подъемному мосту и громко затрубил. Мост был опущен, и трубач скрылся в воротах цитадели. Вслед затем батареи на крепостном валу смолкли; в цитадели, очевидно, началось совещание о сдаче.
Весь русский лагерь был в лихорадочном возбуждении, особенно фейерверкеры, которые с фитилями в руках беспокойно расхаживали около своих орудий. Ужели же им и выстрела сделать не придется в ответ на эту денную и нощную воркотню вражьих пушек? Из-за чего же столько хлопотали?
Но вот прошел час, и другой, и третий, а господа шведы все еще совещались. Общее нетерпение лагеря с часа на час возрастало, заразило, знать, и самого царя. С нахмуренным челом неожиданно появлялся он то тут, то там на траншеях, то меж солдатских шатров, то на берегу Невы у карбасов, словно нигде ему не было покоя, и зычный голос его разносился далеко в окружности, заставляя невольно вздрагивать и озираться всех и каждого.
– Серчает батюшка-царь на шведа, ух как серчает! – перешептывались солдаты. – За обеденный стол, слышь, даже садиться заклялся, доколе отписки не дадут. А мундкох на кухне инда плачет, волосы на себе рвет, все кушанья, мол, перепреют, перегорят.
Но не царь один и старший повар его негодовали на медленность шведов: большинство приближенных государя разделяло их нетерпение, поглядывало то и дело на свои карманные луковицы, – некоторые, правда, по одной причине с мундкохом, потому что «адмиральский» час давно пробил.
– Вот уже и пятый час на исходе, – вполголоса передавали они друг другу.
– Пятый час? – расслышав, подхватил Петр и топнул ногою. – Что мы, на смех им дались, что ли? Сказано же было, что дается два часа сроку! А вот с полудня ждем да ждем…
– Долгонько, точно, – заметил рассудительный Шереметев. – Но у них тоже, полагать надо, свой воинский онор, и в превеликой конфузии зело тяжко им без единого выстрела с нашей стороны оружие сложить.
– Так одолжим их: дадим генеральный залп!
– Час времени еще подарим им, государь; обождем до шести.
– Так и быть, – нехотя уступил Петр. – Но коли до шести не дождемся нашего трубача…
– Тогда отправим за ним еще барабанщика, – досказал Меншиков.
– Ты что, Данилыч? – гневно вскинулся на него государь. – Шутить еще вздумал?
– Какие шутки, ваше величество! Чем же посланец наш повинен, что те замешкались? А ему наверняка бы не сдобровать, ежели бы мы, не упредив, открыли огонь. Так ли я говорю, господа генералитет?
«Господа генералитет», переглянувшись, нерешительно присоединились к мнению всесильного фаворита.
– Ну, будь по-вашему, – сдался Петр, но глаза его зловеще сверкнули, а могучая дубинка в руке его на четверть врылась в рыхлую землю.
Глава восьмая
Возьми барабан и не бойся!
Вот смысл философии всей.
Гейне
Смойте с лиц вы краски брани,
С ваших пальцев – пятна крови,
Закурите дружно вместе
Эти трубки – трубки мира.
Лонгфелло
Слух о решении государя потерпеть еще до шести часов и затем послать за трубачом барабанщика живо распространился по всему лагерю. Дошел он, таким образом, и до Лукашки. За четверть часа до урочного срока калмык начал слоняться около царской палатки, знай, поглядывая с озабоченным лицом на видневшиеся вдали башенные часы цитадели. Стрелка на них подвигалась все ближе к шести, а подъемный мост все еще оставался поднятым, и о трубаче не было ни слуху ни духу.
Минут семь до срока полотняный край палатки внезапно распахнулся, и оттуда выскочил Павлуша Ягужинский. За короткое время своего пребывания в лагере Лукашка успел уже заслужить доброе расположение молоденького царского денщика, между прочим, благодаря своим любопытным россказням о пышной столице французов, куда государь обещался свезти и Павлушу. Теперь ловкий калмык решился воспользоваться благожелательством последнего.
– Куда, Павел Иваныч? – спросил он, заслоняя Ягужинскому дорогу.
Тот только рукой отмахнулся: не до тебя, мол отвяжись.
– За барабанщиком к господам шведам? – не отставал Лукашка.
– Да, да.
– Так он здесь.
Ягужинский, недоумевая, обвел кругом взором.
– Где?
Калмык с самосознание ткнул себя указательным перстом в грудь:
– Voila, monsieur!
– Ты? Лукашка?
– Oui, monsieur.
– Мундир-то на тебе, точно, барабанщика, да требуется, брат, и уменье.
– А у нас его разве нет? Отбарабаним всякую штуку так, что любо. Не даром в науке у французов побывали. Право же, голубчик Павел Иваныч, усерднейшая к тебе просьба: пошли ты меня к ним барабанщиком!
– А на что тебе, чудак ты этакий?
– На то, чтобы господина моего там проведать. Ведь он, сердечный, по дурацкой своей фанаберии, сидит сиднем еще в своей волчьей яме не только что без парного молока, но и без капельки воды пресной, без крошки хлеба черствого. Ну, а у меня тоже, слава Богу, не деревянная душа, надо же вызнать: жив ли он еще там, здоров ли?
Молил слуга о своем господине так умильно, что тронул молодое сердце царского денщика.
– Да ты, Лукашка, не врешь? – спросил тот. – Ты и вправду барабанить обучен?
– Вот те крест! Зря соваться не стал бы. Хоть сейчас экзамен учини.
– Хорошо, учиним, а там, коли правда, доложим, пожалуй, его величеству.
До шатра царских музыкантов была добрая сотня шагов. Но издали еще доносились оттуда нестройные звуки разных духовых инструментов, так как каждый музыкант, упражняясь сам по себе, старался заглушить других. При появлении любимого государева денщика звуковой хаос разом стих. А когда Ягужинский потребовал барабан и затем передал его вместе с палочками Лукашке, все присутствующие музыканты обступили калмыка, который своей обходительностью и невозмутимым балагурством успел уже приобрести себе в лагере некоторого рода популярность и теперь, по-видимому, собирался показать опять одну из своих диковинных заморских штучек. Ожидание их не обмануло.
Перебросив через плечо ремень от барабана и молодецки выставив правую ногу, Лукашка с каким-то особенным вывертом вооружился барабанными палочками и стал отбивать мелкую дробь.
– Ровно горох пересыпает! Аль дождичек в стекла бьет! – толковали меж собой слушатели.
Но вот дробь становится все крупней и крупней и сама собой переходит в парадный марш.
– Экой штукарь ведь! Чтоб тя мухи съели! – не могли уже скрыть своего изумления компетентные судьи.
Тут сквозь торжественный темп марша прорвалась игривая трель. В то же время и губы барабанщика затрелили в такт.
– Жаворонок, братцы, как есть жаворонок!
Но это что же? Трели барабана и жаворонка все слышней, все явственней переходят в стародавний народный мотивец.
– «Ты такой-сякой комаринский мужик!» – замурлыкал один из музыкантов, сосед тотчас подтянул, и вот вся ватага, точно ожидала только этого условного знака, хором подхватила излюбленную песню.
Павлуша Ягужинский сперва было также невольно заслушался, но оглушивший его теперь хор напомнил ему, что послан он сюда государем вовсе не затем, чтобы отвлекать музыкантов от дела.
– Это еще что?! – крикнул он и остановил рукою не в меру расходившиеся палочки барабанщика. – Будет, брат, будет!
– Так что же, Павел Иваныч, – спросил Лукашка, – как, по-твоему, обучен я по-малости барабанному делу?
– Не токмо обучен, а переучен. Коли ты забарабанишь перед его величеством таким же шальным аллюром…
– Да что я – очумел или юродивый, что ли, что не знал бы, как держать себя перед царем? И неужто ж я тебя, протектора моего, в конфузию введу?
– Ну, то-то.
Они возвратились к царской палатке.
– Обожди-ка тут, – сказал Ягужинский и вошел один в палатку. Вслед затем он вышел опять оттуда и кивнул калмыку: – Я доложил государю твою просьбу. Смотри же, не плошай.
– Не бойсь, постоим за себя.
Несмотря на такое уверение, на душе у Лукашки было далеко не покойно: «А ну, как все же оплошаю?» Когда же он ступил в палатку и очутился перед государем, глаза которого, как и взоры нескольких бывших тут генералов, тотчас же устремились на него, сердце в нем застучало еще сильнее.
– Так ты, Лука, просишься в мои парламентеры? – заговорил Петр.
– Коли будет такая твоя государева милость, – отвечал Лукашка, смело выдерживая блестящий взгляд царя. – По-ихнему хоть не гораздо разумею, но по-французски, по-немецки маракую.
– И барабанить знаешь, удостоверяет Павлуша.
– На всякий лад, ваше величество, – вновь подтвердил Ягужинский.
– Так пробарабань-ка, послушаем.
Не раз уже доводилось Лукашке как в Москве, так и здесь, в Шлотбурге, слышать полковой барабанный бой. Не задумываясь, он бойко забарабанил.
– Изрядно, – сказал Петр, – но все же не то.
И, взяв у калмыка обе палочки, он мощно ударил по барабану. Да, это подлинно было не то, совсем не то!
– Что, уразумел? – спросил царь, возвращая палочки.
– Уразумел, кажись.
– Так повтори.
С врожденной ему переимчивостью и сметкой Лукашка повторил сейчас слышанное, да так поразительно-схоже, что Петр переглянулся с приближенными и одобрительно кивнул головой.
– Сойдет. Так вот, Лука, твоя задача, значит: вели доложить о себе господину коменданту – человек он, слышно, резонабельный – и объяви ему со всей аттенцией, что накалякались они вдоволь – заместо двух, целых шесть часов, и что долее ждать я не намерен. Говернаменту его, так ли, сяк ли, конец. Пусть же беспромедлительно отпустит моего трубача – с ответом или без оного, как его милости угодно будет, но коли-де вернет его без ответа, то диспозиции у нас приняты и просим не пенять!
Металлически-звонкий тон голоса Петра и сверкнувший из глаз его огненный луч красноречиво досказали нешуточную угрозу.
– Понял?
– Понял-с и приложу всемерное старание к благополучному исходу.
– Добро. Ступай.
Вряд ли в целом лагере русских нашелся бы служивый, не знавший шведского полоненника Лукашку хотя бы с виду. Когда он теперь, с перевешенным через плечо барабаном, ровным солдатским шагом бесстрашно двинулся за русские траншеи к подъемному мосту цитадели, сотня любопытных усатых голов высунулась из траншей поглазеть ему вслед.
– Ишь ты, поди ж ты! – слышалось за его спиной. – Вчерась Макар огороды копал, а ноне Макар в воеводы попал.
С неменьшим интересом наблюдали за ним и шведские канониры с крепостных бастионов.
Подойдя к крепостному рву против подъемного моста, калмык забарабанил. На валу, по ту сторону рва, появился офицер, в котором Лукашка узнал одного из виденных им еще прошлой осенью приятелей майора фон Конова. И тот, казалось, признал в барабанщике продувного камердинера мнимого маркиза Ламбаля, потому что, насупясь, тотчас крикнул ему по-французски: что ему нужно?
– Меня командировал всемилостивейший государь мой парламентером к господину коменданту цитадели, – с достоинством отвечал наш барабанщик. – Благоволите впустить.
Офицер скрылся с вала, чтобы заручиться разрешением начальства. Немного погодя, он возвратился и отдал приказ часовому опустить подъемный мост. Тяжелые цепи загремели, и мост с грохотом перекинулся через ров.
С такими ли чувствами Лукашка переходил в последний раз этот самый ров! Тогда он прокрался в неприятельскую крепость с тайным умыслом, «аки тать в нощи», которого могли тут же без суда пристрелить, как бешенную собаку. Теперь лично для него, Лукашки, по особому распоряжению крепостного начальства опустили мост, раскрыли настежь крепостные ворота, и вступал он туда уполномоченным царским, на котором ни один из неприятелей, ни сам грозный комендант и волоса не посмеет тронуть!
На нижней площадке в комендантском подъезде им попался вместе с дневальным царский трубач, дожидавшийся еще «отписки». Офицер предложил было и нашему барабанщику обождать здесь, но тот категорически заявил, что обождет в прихожей господина коменданта, и офицеру волей-неволей пришлось взять его с собой во второй этаж.
По-видимому, еще на дворе он был усмотрен из окошка зорким женским глазом, потому что едва только закрылась дверь за офицером, как скрипнула противоположная дверь и оттуда к калмыку выглянула молоденькая белокурая головка.
– Bonjour, m-lle! – приветствовал он ее, отдавая по-солдатски честь. – Вы, верно, не узнаете меня?
– Ах, это вы, Люсьен? – словно обрадовалась комендантская дочка и вся показалась из дверей.
Да, это была она, фрекен Хильда, но уже не прежний подросточек с косичками и в коротеньком платьице, а подлинная барышня-невеста с высоко взбитой модной прической и хотя в домашней робе, но со шлейфом и на фижменах.
– Как жаль, мадемуазель, что господин мой не может вас видеть такою! – заметил Лукашка.
– Какою? – удивилась фрекен Хильда.
– А такою, простите, пышною розой, какою вы за зиму распустились из бутона.
Свежий румянец на щеках барышни проступил еще ярче от вовсе уже неожиданного комплимента.
– Видно, что вы, Люсьен, побывали тоже в Париже, – прощебетала она, принимая серьезную мину. – Господину маркизу нет никакого дела до меня…
– Напротив, у меня есть от него к вам не только нижайший поклон…
– Ах, вот что, Люсьен! – поторопилась перебить его фрёкен Хильда. – Вы ведь теперь из русского лагеря?
– Да, с поручением от моего государя к господину коменданту.
– В таком случае вы, конечно, можете сказать мне… Она запнулась, как бы не решаясь выдать, что ее так интересует.
– Что прикажете? – спросил калмык.
– Фенрик Ливен – там, у вас?..
– А вы, мадемуазель, принимаете участие в судьбе бедного фенрика? К сожалению, могу сообщить вам об нем только самую грустную весть…
Фрёкен Хильда расширенными от испуга глазами уставилась в лицо барабанщика.
– Что вы с ним сделали? Говорите!
– Мы-то ничего, но ядром с ваших здешних бастионов ему, изволите видеть, раздробило руку…
Барышня ахнула, и розы на щеках ее уступили место бледности лилий.
– И руку ему отняли? – досказала она шепотом, как бы страшась своих собственных слов.
– Это бы еще ничего, но он сам потом оторвал бинт и – истек кровью.
Лукашка тотчас уже раскаялся в том, что ляпнул так сплеча. Из-под ресниц фрёкен Хильды брызнули следы, и она неудержимо разрыдалась. Не зная, чем ее успокоить, калмык стоял перед нею неподвижно, как виноватый. Из взрослой барышни она обратилась в прежнюю девочку, которая совсем отдалась своему горю и плакала безутешно, навзрыд. Лукашке наконец стало невмочь слышать, и он решился пойти позвать кого-нибудь. Но когда он тронулся с места, фрёкен Хильда пришла разом в себя и быстро повернулась к двери.
– Одно слово еще, мадемуазель! – остановил он ее, а когда она, сдерживая всхлипы, в пол-оборота к нему обернулась, он настоятельно продолжал: – Убедите, Бога ради, вашего батюшку – не проливать даром крови своих людей. Царь наш Петр великодушен, но при упорстве неприятеля не дает пардону.
– Отец мой и без того, кажется, предлагает сдаться, – обрывающимся голосом пробормотала молодая девушка, – но большинство против сдачи, особенно фон Конов…
И она скрылась.
«Эхма! А благодарности-то барина так вот и не поспел передать, – спохватился тут Лукашка. – Да до того ли ей было? Однако что ж эти господа шведы, забыли, что ли, про меня? Государь меня небось тоже по головке не погладит».
Он тихонько приотворил дверь в комендантскую гостиную. Рядом из хозяйского кабинета долетал смешанный гул спорящих голосов, из которых особенно выделялись бесстрастный голос самого полковника Опалева и прямодушно-вспыльчивый – майора фон Конова. Последний явно горячился, и Лукашка понял одно только, чаще других повторяемое слово «fosterland».
«О фостерланде – отечестве своем убивается. Трагедия!»
И, переступив порог, он громко кашлянул, чтобы обратить внимание спорящих. Комендант тотчас же вышел к нему в гостиную с озабоченно-мрачной миной; увидев же калмыка, он гордо приосанился, черты его приняли еще более горькое, жесткое выражение, и вопрос его прозвучал холодно и резко:
– По какому праву ты вошел сюда?
– По праву уполномоченного моего царя, – был такой же холодный, но спокойный ответ. – Государь еще в двенадцать часов дня прислал вам предложение об акорде…
– Мы совещаемся!
– Его величество велел сказать вам, что шести часов вам было более чем достаточно для определенного ответа и что долее он ждать не намерен.
– Но коли мы не пришли еще к окончательному решению!
– А не пришли, так не изволите ли без промедления отпустить нашего трубача, хотя бы и без письма. Но осмелюсь доложить, что орудия наши заряжены и наставлены, бомбардиры наши ждут только приказа разгромить в пепел и цитадель, и город. Пожалели бы вы хоть мирных горожан, пожалели бы и себя с красавицей-дочкой…
– Прошу без советов! – оборвал советчика комендант. – Ответ будет через пять минут.
И он повелительно указал на выходную дверь в прихожую. «Уполномоченный» с поклоном отретировался.
Прошло, действительно, не более пяти минут, как к нему вышел дежурный офицер с запечатанным письмом в руке. Оба спустились вниз, и офицер вручил письмо царскому трубачу.
– Будьте любезны, monsieur, сказать мне, – обратился тут Лукашка к офицеру, – что делает у вас господин мой, мистер Спафариев?
Офицер с нескрываемой враждебностью свысока покосился на вопрошающего и коротко отрезал.
– Сидит!
– Стало быть, жив. А что сказано в этом письме? Вы поймете, monsieur, что мне тоже крайне любопытно…
– Не твое дело. Марш!
Тем же порядком трубач и барабанщик были выпровожены за подъемный мост, который тотчас же был опять поднят за ними.
– Ну, плохо дело! – проворчал Лукашка, почесывая за ухом. – Наверняка отказ. Будет нам на орехи!
– Мне-то за что же? – встревожился трубач.
– Про тебя, милый человек, не ведаю, а что мне-то достанется – это уж как пить дать.
– Но за что?
– За то, что сам в полномочные посланники напросился, а на поверку дурак писаный вышел. И оправиться-то нечем.
Предчувствие его не обмануло. Когда Петр, приняв от трубача письмо, сорвал конверт и пробежал ответ коменданта, лицо его вдруг побагровело, судорожно передернулось.
– И ради этакой-то отповеди от какого-то полковника шведского ждать еще шесть часов слишком! – вскричал он и, скомкав письмо, бросил его оземь и затоптал ногою.
Перепуганные царедворцы кругом безмолвствовали. Атмосфера в палатке, казалось, была насыщена электричеством, которое вот-вот должно было сейчас разрядиться на кого-нибудь из них громовым ударом. Самый бесстрашный из присутствующих, вновь назначенный комендант шлиссельбургский Меншиков, первый решился затронуть занимавший всех вопрос:
– А что же пишет вашему величеству этот Опалев?
– Что он пишет, бездельник? В начале хоть и благодарит за сходную пропозицию…
– Значит, все же благодарит?
– Ну да, для проформы! Но о полюбовной сдаче фортеции и слышать не хочет: вручена-де она ему королем Карлом для обороны, и патриотизм же ему повелевает оборонять ее до последней капли крови.
– Но можно ли, государь, со всем решпектом сказать, можно ль поставить ему патриотизм его в столь великую вину?
– Как солдату – нет, но как человеку – да: упорство его будет стоить жизни многим и многим ни в чем неповинным! Ну что ж! Пускай же на его голову! Генерал-фельдмаршал! Делай свое дело, открывай бомбардировку!
Об отмене такого распоряжения не могло быть уже и речи. Шереметев, а за ним и вся остальная свита, подобострастно склонясь, поспешили выбраться вон из грозной атмосферы. Трубач, доставивший злополучную «отповедь» шведского коменданта, за спинами вельмож также ускользнул незаметно. Остались на своем месте только двое: царский денщик Ягужинский и временный барабанщик Лукашка.
– А! Ты еще здесь? Тебя-то мне и нужно! – заметил последнему Петр, сверкнув глазами и стукнув по полу своей дубовой палкой.
– И рад бы в землю уйти – да не расступается, – отвечал калмык, покорно подставляя спину.
– Не троньте его, ваше величество! – вступился тут Ягужинский. – Вы употчевали его ведь намедни уж в счет будущей вины.
Занесенная над виновным дубинка царская застыла в воздухе.
– Спасибо, что напомнил, Павлуша, – промолвил Петр. – С одного вола двух шкур не дерут. Но тебе, Лука, впредь ни за что не трогать уже барабан: ты навеки вечные разжалован из наших барабанщиков.
Хотя это и было произнесено уже с оттенком шутливости, однако Лукашка был рад-радехонек, когда очутился снова на вольном воздухе. Но тут он был ошеломлен громовым грохотом, от которого земля под ногами его дрогнула: разом заговорили молчавшие до сей поры русские пушки и мортиры, дружным залпом приступив в бомбардировке Ниеншанца.







