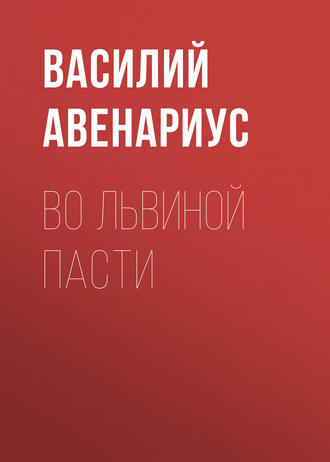
Василий Авенариус
Во львиной пасти
– Поди-ка ты теперь сюда.
Тот подошел и замер, ни жив, ни мертв.
– С ума ты, сударь мой, спятил или младенец ты неповитый? – продолжал государь, видимо сдерживая новый прилив гнева. – Не слыхал ты, что ли, что отнять силою оружие у солдата при исполнении им служебного долга – такая продерзость, за которую военному человеку один конец – пуля, а вашей братье – петля, при особой же милости – ссылка туда, куда ворон костей не заносил?
– Виноват, ваше величество… но все от необоримого желания сделать вам угодное, – пробормотал молодой человек, растерянно потупясь перед искрометным взором царским. – Я стреляю без промаха.
– Особливо ж ручных лосей? – досказал Петр.
В строгом голосе его можно было уже расслышать игривую ноту, и бывший тут же Меншиков счел момент наиболее удобным, чтобы ввернуть свое веское слово.
– Не одних лосей, государь, – сказал он, – а и врагов для спасения ваших верных слуг: без его меткой пули меня, вернейшего вашего слуги, не было б в живых. Коли молодчик давеча проштрафился, так истинно, как говорит он, от излишнего, не по разуму усердия.
– А за усердие, думаешь ты, не казнят, кольми паче в столь радостный для нас час? – добавил Петр, окончательно умиротворенный заступничеством любимого вельможи. – Ну, что ж, мусье, поклонись ходатаю твоему Александру Данилычу в ноги, а ввечеру, так и быть, за твое отменное усердие пожалуй к нашему столу: и про тебя, может, еще куверт найдется.
Вместо ожидаемого громового удара – да полное солнце! Ослепленный, ошеломленный, Иван Петрович не нашелся даже поблагодарить государя, который предложил теперь владыке начать литию. По окончании же литии и освящении временных ворот Петр, впереди всех, с орлом на руке, прошел через ворота, чтобы направиться обратно к своей яхте.
– Что же ты меня, братец, не поздравишь? – говорит Спафариев своему калмыку, которого от избытка чувств придал бы к сердцу.
– С чем поздравить-то? – отозвался тот со вздохом. – Что закружишься снова в вихре всяческих веселий?
– А тебе жаль, дурак, что после бочки дегтя перепадет барину ложка меда?
– Не меда жаль, а дегтя, которого скоро вдвое еще подбавится.
– Ты об экзамене опять? Небось! Авось, тоже увильнем.
– Авось да небось – хоть вовсе брось. От экзамена царского, как от страшного суда, ни крестом, ни пестом не отмолишься.
– Silencium! Сиречь, цыц! Ни гугу!
Глава шестнацатая
Корова наконец под седоком свалилась.
Не мудрено: скакать корова не училась.
Хемицер
Карету мне, карету!
Грибоедов
Опасение Лукашки, к сожалению, вполне оправдалось. Допущенный к парадному царскому столу, господин его хотя и занял место в конце стола между самыми юными придворными чинами, но своею остроумною болтовнею и неисчерпаемыми анекдотами из парижской бульварной жизни так очаровал их, что к концу пиршества, затянувшегося до двух часов ночи, каждый из собеседников выпил с ним «брудершафт» – на «ты». Последствием этого было то, что предвидел калмык: день за днем барин его проводил уж с своими новыми друзьями, а когда камердинер позволял себе намекать на предстоящий «страшный суд», Иван Петрович делал вид, что не слышит или же, не взглядывая, ворчал себе под нос:
– Надоел, право, хуже горькой редьки! У меня теперь есть что и поважнее.
– Что же такое?
– А хоть бы постройка дворца государева.
– Да ведь не тебе же, сударь, поручена?
– Не мне лично, так добрым приятелям моим, а поспеть работа должна к сроку. Так как же не пособить им?
– Елейными речами умаслить машину?
– Ну, да, да! Отстань.
На Березовом острове, действительно, шла самая спешная работа: весь берег острова по Большой и Малой Неве был выровнен и очищен от леса, который тут же тесался на бревна и доски для нового царского дворца. 26 мая строение было уже под крышей. По малым своим размерам и незатейливости совершенно во вкусе Петра, оно, правда, гораздо более походило на простой обывательский дом, чем на царские палаты, причем теряло еще от соседства раскинутых по сторонам его двух больших нарядных шатров, предназначенных для генералитета и сделанных из персидского шелка, а внутри устланных дорогими коврами.
28 мая могло состояться и самое освящение нового дворца, наименованного «Петровым домом» – «Петергофом». По окроплении здания святою водою государю были поднесены: духовенством – образ Живоначальной Троицы, а царедворцами, с Меншиковым во главе, – хлеб-соль на золотых и серебряных блюдах, а также разные драгоценные подарки; после чего произведена была троекратная пальба: палила стоявшая «в параде» около дворца гвардия, палила подвезенная сюда же артиллерия, палили боевые суда на берегу, палили наконец с Заячьего острова крепостные орудия, установленные на новых раскатах.
«Царское величество в великом был обрадовании (докладывает современный хроникер), всех поздравлявших благодарил, жаловал к руке, а потом приказною водкою, и изволил сесть кушать с ликом святительским в новом дворце, потом изволил выйти и кушать в шатре с генералитетом и статскими знатными чинами».
В третьем часу дня столующих неожиданно салютовали троекратными же выстрелами две шнявы и яхта, нарочно прибывшие из Шлиссельбурга по распоряжению тамошнего губернатора Меншикова. Петр был видимо тронут.
– Спасибо, мейн герц! – сказал он, целуя своего фаворита. – Идем-ка сейчас, осмотрим твои кораблики.
И, переправясь на шлюпке на один из «корабликов», он со всею флотилией проплыли мимо вновь заложенной крепости, откуда их приветствовали громом орудий. С флотилии, разумеется, отвечали тем же. По возвращении же во дворец Меншиков от лица всего русского народа принес поздравление царю с русским флотом на Балтийском море; после чего пир возобновился с новым оживлением и продолжался до глубокой ночи.
Увы! Для Ивана Петровича то был последний безоблачный день на берегах Невы.
На следующее утро он был поднят с постели двумя часами ранее обыкновенного: царь неожиданно потребовал его к себе со всеми его учебными книжками, планами и ландкартами.
– Ah, mon Dieu, топ Dieu! – бормотал про себя совсем упавший духом Иван Петрович, наскоро одеваясь при помощи своего камердинера. – Как же это так вдруг? Меншиков обещал же мне шесть недель сроку, а тут не прошло и трех недель…
– А вот поди-ка-сь, поторгуйся с царем! – отозвался Лукашка. – Да все равно, ведь и остальное время даром прогулял бы.
– Ну, что же, головы с плеч не снимет! Только вот что, брат Лукашка: ты меня не выдай, ты войди со мной, да так и не отходи ни на шаг, и чуть что – подскажи.
– Ну, уж не поскорби на меня, батюшка-барин, но я тоже не о двух головах, и сделать этого не посмею.
– Как не посмеешь, болван?! Если я тебе приказываю?
– Приказывай, не приказывай, но коли приказ твой идет против воли Божьей и царской…
– Ты еще разговаривать! – вспылил барин. – По воле Божьей и царской ты бессловесный раб мой. Так или нет?
– Так-то так…
– А коли так, то я тебя, раба, как вот этот башмак свой, могу не токмо что отдать первому встречному, но и исковеркать!
– Воля твоя, сударь…
– А моя, так, что прикажу, то ты за долг святой полагать должен. Перед Богом и царем не ты, а я ответчик. Sapienti sat! – как говорит Фризиус, punctum, точка!
Что оставалось «бессловесному рабу» после такого категорического разъяснения, как не поставить точку и делать по приказу? Поэтому, когда он вслед за своим господином был впущен в государеву палатку (Петр ночевал еще по-прежнему в шлотбургском лагере), чтобы сложить там свой научный груз, калмык не торопился отойти от стола, на котором развернул принесенные с собою планы и ландкарты.
– Что, не выспался еще с вечорошнего? – спросил царь Ивана Петровича, заметив его распухшие веки и красные глаза. – И вельможи мои еще прохлаждаются. Но покамест я свободен и хочу вот вызнать на досуге, чему ты за морем доподлинно обучен. Ну-с, чем можешь похвастать?
Номенклатуру предметов, которые преподавались в тулонской навигационной школе, Иван Петрович еще помнил и бойко пересчитал их по пальцам.
– Многонько, – сказал Петр. – И все равно знаешь?
– Почти равно, ваше величество.
– Равно хорошо или равно дурно? Ну, да это мы сейчас выведем на чистую воду. Начнем с азов: с рангоута и такелажа[14], а там виднее будет. Что это у тебя? План корабельный? Его-то нам и нужно.
С свойственной ему нервной быстротою царь указывал пальцем на плане то на ту, то на другую часть корабельного вооруженья и, к немалому его удивлению, испытуемый, не задумываясь, без ошибки называл ему каждую жердочку, каждую веревочку. «Гротмарсалисельспирт», «формарсато-пенант», «крюсбомбрамбрас», «стеньвын-треп», «гротбомбрамстеньга», «форбомбрамфал» и иные столь же мудреные корабельные термины, от которых непривычный человек сразу бы поперхнулся, так и сыпались без запинки с языка Ивана Петровича. Первая неделя с Лукашкой пошла ему, видно, на пользу.
– Букварь-то корабельный ты твердо знаешь, – не мог не признать государь. – Но умеешь ли буквы и в слова слагать? Скажи-ка мне, как перебрасопить[15] грот-марсарей[16] по ветру на другой фокагалс[17]?
Спафариев стал в тупик.
– Ну, что же?
– Сей момент, государь. Общим образом сказать… Он замялся и украдкой покосился на стоявшего еще около стола калмыка. Но тот в ответ на вопросительный взгляд барина лукаво только подмигнул и повел плечом, точно царь отпустил презабавную шутку. «Что бы это значило?.. Ага!»
– Задача нестаточная! – произнес он вслух, сам иронически улыбнувшись.
– Почему так?
– Потому: как же перебрасопить рей одной мачты на галсе другой мачты?
– Сообразил! На простой этакой штуке тебя, я вижу, не поймаешь. Спросим же тебя прямо без экивоков: ежели бы ты вышел в море и ветер посвежел, то в каком порядке ты стал бы убирать паруса?
«Гм! как бы не перепутать…»
Иван Петрович неуверенно начал перечислять паруса, растягивая каждое название и невольно поглядывая при этом на Лукашку.
– Ты чего тут еще торчишь! – вскинулся на последнего Петр, от зоркого глаза которого не ускользнул этот ищущий взгляд. – Отойди вон, не мешай! Ну, далее! – обратился он опять к господину.
Тот продолжал свой перечень, но по недовольному тону, с которым государь торопил его: «Далее, далее», он понял, что завирается, и примолк.
– Кончил? – спросил Петр. – М-да, не важно. Пусти тебя командовать в шторме, так от всех парусов у тебя, того гляди, остались бы одни клочья. Ну, а потеряй ты середи моря намеченный курс, как бы ты, научи-ка меня, узнал курс судна?
Лукашка, незаметно отретировавшийся за кресло царя, дал оттуда барину наглядный ответ: сперва развел руками поперек палатки, потом вдоль ее.
– Я определил бы широту и долготу места, – громко отвечал Иван Петрович.
– Хорошо. Вот тебе карандаш, вот бумага. Высчитай-ка мне…
– Простите, государь, – счел за лучшее вперед уже повиниться допрашиваемый, – математика мне не особенно далась; расчетов этих я не знаю еще во всей точности…
– Ну, а в мореплавании точность – первое дело. Как раз корабль свой на подводный риф либо на мель посадил бы. Дальше букваря и складов по этой части ты, стало быть, еще не пошел. Может, ты сильней в кораблестроении? Скажи-ка, чем главнейше различествуют суда французские от голландских?
Калмык из-за царской спины столь же образно изобразил руками сперва корпус длинного и остроносого судна, а потом короткого и пузатого.
– У французов суда длиннее и острее, – отвечал его господин государю, – а у голландцев короче и круглее.
– Так ли? Поразмысли-ка хорошенько.
– Виноват, наоборот! – поспешил поправиться молодой человек, – у французов короче и длиннее, а у голландцев…
– Со здравия да на упокой! – строго и нахмурясь перебил Петр. – Сначала-то совершенно правильно сказал, да, словно флюгер по ветру, сейчас фронт повернул. В голове у тебя, мусье, сумятица неразборная. Тебе ли суда строить, коли и с виду их отличить не умеешь? Ведь видел же ты, слава Богу, в Тулоне и Бресте всякие суда: и французские и голландские?
– Видел, но…
– Но не разглядел? По сторонам зевал, ворон считал? А в истории мореплавания ты столь же силен?
– Изучал по малости… – отвечал Спафариев совсем уже в минорном тоне.
– Вижу, что по малости: мозги себе познаниями не чрезмерно отягчил. Кого же, по-твоему, из мореплавателей надо превыше всех чтить? Ну, что же ты? Аль не слышал про Колумба, про Васко-де-Гаму?
– Слышал: Колумб Америку открыл.
– Жаль: тебя упредил. Ну, а тот?
– Васька де-Гама?
– Да, именно Васька! – сердито усмехнулся царь. – А чести ему еще больше, чем Колумбу: тот зря Индию искал, да в Новый Свет попал; этот же заведомо объехал Африку и первый в Индию морской путь открыл. А давно ль это было? Скоро ли после Колумба?
Лукашка поднял на воздух три пальца.
– Три… года, – отвечал Иван Петрович.
– Ой ли? Не три века ли?
– Ах, да, конечно!
– Конечно! Что так, то так! Когда жил Колумб? 200 лет назад? Стало быть, по-твоему, Васко-де-Гаме через 100 лет еще после нас с тобой народиться? В новой истории, надо признаться, ты умудрен. Каково-то в древней? Что ты мне расскажешь о древних понтонах?
– Бонтонах? – переспросил Иван Петрович. – Первым бонтоном у древних греков почитался Алкивиад…
– Не о бонтонах и шаматонах, тебе подобных, спрашиваю я тебя! – резко оборвал его Петр, – а о понтонах, о мостах понтонных. Или те для тебя премудрость Соломонова за семью печатями? Что такое по-гречески понт, ну?
Окончательно потеряв почву под ногами, молодой человек ничего уже не помнил и, как к единственному якорю спасения, обратил взоры опять на Лукашку.
– Что ты это все за спину мою засматриваешься? – заметил царь. – Э! Да ты что там, Лука?
– Я ничего, ваше величество, отвечал калмык, быстро опуская по швам руки, которые приставил было рупором ко рту.
– Выходи-ка оттуда и стань вот здесь к сторонке. Ну-с, сударь мой, что же такое понт?
Иван Петрович в виде последнего средства уронил на пол платок, который мял до сих пор в руках. Камердинер понял барина и мигом подскочил, чтобы поднять платок и шепнуть при этом:
– Море.
Но подозрительность государя была уже возбуждена, тонкий слух его уловил подсказанное слово, и все лицо его вспыхнуло гневным заревом.
– Так вот как? – вскричал он. – Коня куют, а жабы лапы подставляет? Ты, простой слуга, хочешь быть ученее своего господина? Добро же. Говори, что тебе известно о древних понтонах?
– Первымна понтонах переправил свое войско через Геллеспонт Ксеркс, царь персидский, – начал калмык.
– Так! Ну, и как же он сделал это?
– А связал корабли свои канатами в два моста с одного берега до другого, якорями же с них на дно морское опустил корзины с каменьями.
– И много пошл у него на то кораблей?
– Для одного моста 360, а для другого 300. Петр даже руками развел.
– Откуда у тебя, мошенник, эти ученый крохи?
– С барского стола еще мальчонкой подбирал, а в Тулоне и Бресте и от других перепадало.
– Он, ваше величество, на моем житейском корабле стоячий и бегущий такелаж[18], – пояснил Иван Петрович.
– А может, и такелажмейстер? Ну-ка, такелажмейстер, вывози своего шкипера.
И «такелажмейстер» был подвигнут обстоятельному перекрестному допросу по всем статьям морской науки. Ответы его были кратки, точны, ясны, и ни разу он не запнулся, ни прикусил языка.
– Иноземные крохи ты изрядно подбирал, – с видимою уже благосклонностью сказал Петр. – Но мы – люди русские, и доселе главный морской порт наш – на Белом море. Как же ты повел бы себя на беломорской судне? Ведь там свои румбы[19].
– А называл бы их по-тамошнему.
– Да разве и их ты знаешь тоже?
– Спрашивай, государь.
– Ну, как там зовется нордост?
– Полуночник.
– Верно. А остнордост?[20]
– Меж-востока-полуночник.
– Гм! А зюдвестен-зюд?[21]
– Стрик-шалоника к лету.
– А нордвестен-норд?[22]
– Стрик-побережника к северу.
– Эге! Да ты сам, верно, из беломорцев? Или живал в Архангельске?
– Никак нет. Отродясь там не бывал. Но коли царь мой троекратно плавал по Белому морю, коли сам был там и лоцманом, и кораблестроителем…
– Так заправскому моряку грех не знать нашего Белого моря? – с оживлением подхватил Петр. – А ведомо ли тебе, кто там первый кораблестроитель?
– Баженин Осип. И великий государь наш Петр Алексеевич был им таково удоволен, что взойдя с ним на высокую гору, а на той горе на превысокую колокольню, сказал Баженину: «Вот все, Осип, что ты видишь отсюда: села, земли и воды – все твое, все тебе жалую в ознаменование моего царского благоволения за твою верную службу, за острый ум и за честную душу».
– А что же ответствовал на то царю Баженин?
– «Не след мне, ответствовал он, – быть господином себе подобных», и не принял щедрой награды.
Сверкнув глазами, Петр повернулся к безмолство-вавшему Ивану Петровичу.
– А тебе, мусье, все сие равномерно тоже известно было?
– Нет, ваше величество, – должен был сознаться тот. – В тулонской навигационной школе об архангельском порте словом даже не поминали…
– Откуда ж человек твой слышал?
– А он, ваше величество, болтун, пускается в разговоры со всяким встречным…
– У кого может чему-нибудь да поучиться? То-то вот, сударь мой, что зачастую два человека живут бок о бок, видят и слышат одно и то же, да один ко всему слеп и глух, другой же всякую малость себе занотует и усвоит. Называл ты себя сейчас шкипером своего судна; а на поверку, по научному конкурсу, ты не более, как вымпел на флагштоке, слуга же твой – не такелаж и не такелажмейстер, а штурман, коли не сам шкипер. Кто ж из вас двоих в таком разе, скажи, господин и кто слуга?
Что мог возразить на это Иван Петрович? И то ведь Лукашка, как подлинный штурман, безотлучный при нем на житейском океане, вел так сказать его «корабельный журнал», вносил туда и направления ветра, и скорость хода, и глубину моря, и астрономические исчисления. Если утлое суденышко его, Ивана Петровича, дотоле не потерпело еще аварии, то лишь благодаря ловкости своего искусного штурмана, Лукашки.
– Ты молчишь, потому что не имеешь оправданий? – продолжал царственный экзаменатор. – Дальше азбуки в морском деле ты не пошел, хоть было дано тебе на то полных три года. На что же ты после сего годен? Может, в кухари судовые? Да знаешь ли ты хоть сухари-то корабельные заготовлять впрок?
Как под проливным дождем, хлещущим беспощадно из грозовой тучи, молодой человек низко понурил свою победную голову и безнадежно прошептал:
– Не знаю…
– А чего, кажись, проще? Хлеб ржаной крепко испекают, а потом, изрезав на куски, пропекают вдругорядь в хлебной печи. Ну, вот точно так же, изволишь видеть, вас, недопеченных моряков, впрок заготовляют – вдругорядь пропекают. Офицерского чина ты ведь, по совести, не заслужил?
– Не заслужил…
– И начать тебе, значит, с нижнего, матросского чина. А тебя, друг любезный, – милостиво обратился Петр к калмыку, – за толь благоуспешную, прехвальную ревность твою к вящему усовершенствованию и за рачение об истинной славе отечества жалую в мичманы, и быть ему, матросу, под твоей, мичмана, командой, дабы наставил ты его, ветрогона и пустельгу, уму-разуму.
– На колени, сударь! Винись, проси! – шепнул сзади разжалованного в матросы его слуга-начальник.
Но тот, морально вконец хоть уничтоженный тяжелым царским приговором, стоял как вкопанный: мог ли он, дворянин, при возвеличенном рабе своем еще более принижаться?
Тут сам раб неожиданно повалился в ноги царю.
– Прости ты его, великий государь! Яви над ним свое монаршее милосердие и благость! Повинен ли он в том, что в родительском доме сызмала, с самых пеленок взращен в холе и неге, к безделью приучен? А душою, клянусь всемогущим Богом, он чист, бодр, жалостлив, умом светел и остер, лишь бы подалей ему от городских соблазнов. Удали же его в деревню, чтобы выжил он там до более зрелых лет, и выйдет из него, поверь моему слову доблестный гражданин и оберегатель твоих царских предначертаний. Меня же, недостойного, низкорожденного, – не возьми во гнев, государь, – уволь от офицерского чина: не по корове седло.
По мере того, как говорил вновь пожалованный мичман, нависшее на челе государя темное облако стало разрежаться.
– За тебя, мингер мичман, я не опасаюсь, – промолвил он, – и правая рука моя, Меншиков Александр Данилыч, вышел не из вельможной знати до первых шаржей. Не место красит человека, а человек место. За барина же твоего меня, точно, опаска берет: из этакого матушкина сынка и под твоей командой, пожалуй, пути не будет. Пеший конному не товарищ. Я у тебя, Лука, и без того еще в долгу. Много ль помог мне план твой при взятии Ниеншанца, нет ли, не в том дело. Дело в доброй воле твоей – для царя нести голову на плаху. Так вот тебе в угоду прощаю твоего господина.
Окаменелость Спафариева не устояла перед такою незаслуженною благодатью, гордость его была сломлена, и он без слов упал также к ногам государя.
– Не мне кланяйся, а вот кому ударь семь раз челом! – с мягкою уже строгостью говорил Петр, указывая на калмыка. – Сейчас только он был твоим господином и великодушно выпросил тебе вольную из крепостной кабалы. Понимаешь ли ты, в чем теперь первый долг твой?
– Ты свободен, Лукашка, – тихо промолвил Иван Петрович, приподнимаясь с пола. – Ты был мне всегда не столько слугою, сколько братом.
– А теперь вы и перед людьми братья, только он – старший брат, а ты – младший, – сказал государь. – Так дай же ему братский поцелуй.
И бывший господин с бывшим слугою побратались троекратным поцелуем; после чего, однако, калмык припал еще гулами к руке Ивана Петровича. Тот поспешил отдернуть руку.
– Ну, ну, что ты, Лукашка…
– С сей минуты мичман мой для тебя, сударь, уже не Лукашка, а Лука… – внушительно заметил царь. – Как тебя, братец, по отчеству?
– Артемьевич.
– Стало быть, Лука Артемьевич. Иначе, мусье, его, слышишь, и не называй. А родовая фамилия твоя как? – отнесся Петр снова к бывшему слуге.
– Особой фамилии, государь, в нашем роде нету. На барской же усадьбе звали меня либо Лукашкой, либо просто калмык, по отцу, который был калмык родом.
– Так зваться тебе отныне мичманом Калмыковым.
И, взяв с угла стола, из пачки разного формата бумаги и бланок, большой пергаментный лист, Петр окунул лебяжье перо в чернила и вписал в пробел меж печатных строк: «мичман Лука Артемьев сын Калмыков», потом внизу: «Шлотбург, мая 29 дня 1703 году», и наконец расчеркнулся своим излюбленным голландским именем: «Рitеr».
– Вот тебе твой офицерский патент, – сказал он молодому мичману. – С нынешнего же дня ты по чину на казанном коште, а на дальнейшем ристалище отличий я – твой главный куратор. Тебе же, мусье маркиз, дорога скатертью, и въезд как сюда, в Петербург, так равно и в Москву, заказан вперед до истечения десятилетней давности от твоих прегрешений.
Мичман Калмыков преклонил колена, чтобы принять неожиданно заслуженный патент и с благоговением приложиться к руке государя. Когда же он затем приподнялся и оглянулся на своего господина, того и след простыл. Как гонимый бурным ветром, Иван Петрович летел без оглядки из царского лагеря обратно в город. Нагнал его Лукашка только на городском мосту и начал было изливать свою благодарность за данную ему вольную, но барин остановил его рукою.
– Об этом ни слово, Лукаш… или, pardon, monsieur, – прибавил он с горечью, – как прикажете величать отныне вашу милость?
– Полно, сударь! – с мягким укором сказал калмык. – На меня-то за что ты серчаешь? Называй меня, сделай милость, по-прежнему Люсьеном, Лукашем или Лукашкой, как Бог на душу положит.
– Нет, уж по меньшей мере Лукой Артемьевичем. А для тебя, Лука Артемьевич, я тоже не сударь уж, а просто-напросто Иван Петрович. Что же до твоей вольной, то ты ее по праву заслужил, как и я мою десятилетнюю опалу.
– Бог милостив, Иван Петрович, царь тоже, и верно до срока снимет с тебя опалу.
– Хоть бы и снял, я из трущобы моей ни ногой, ежели сам того не заслужу. Либо под щитом, либо на щите! А теперь, друг и брат Люсьен, окажи мне последнюю братскую услугу: разыщи мне на дорогу удобный дормез или хотя бы колымагу.
Под вечер того же дня, несмотря на все упрашивания калмыка, герой наш пустился в путь – уже без него, своего верного личарды, увозя с собой в родовую калужскую трущобу единственным трофеем всех своих подвигов на берегах Невы приснопамятную рассоху заповедного лося майора де ла Гарди, великодушно уступленную ему Меншиковым.







