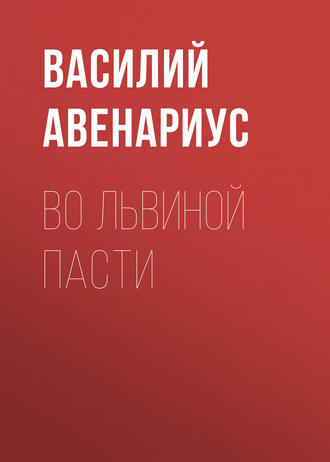
Василий Авенариус
Во львиной пасти
Глава восьмая
Арина Пантелеймоновна.
А позвольте узнать, по какой причине?
Анучкин.
По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве…
Агафья Тихоновна.
Мне стыдно, право, стыдно; я уйду, право, уйду. Тетушка, посидите за меня.
Гоголь
На следующее утро Иван Петрович, действительно, встал спозаранку, то есть часом ранее обыкновенного; но многосложный туалет его потребовал столько времени, что, когда он вышел в столовую, хозяина уже и след простыл. Прислуживавший гостю за утренней закуской слуга, знавший немного по-немецки, доложил ему, что господин майор изволил отбыть на утреннее учение и вернется только к обеду, но что ему, слуге, поручено проводить господина маркиза в цитадель к господину коменданту.
Прибыв к цитадели, они от стоявшего на часах у подъемного моста солдата-шведа узнали, что господин полковник также на учении в артиллерийском парке, но вскоре должен вернуться.
– Так я обожду, – сказал Иван Петрович и вместе с провожатым вошел в крепостные ворота.
Герой наш, как знают уже читатели, при всей верноподданности своей престолу и отечеству, ни мало не задавался целью своего личарды – «вышпионить» шведов; а теперь к тому же мысли его были еще заняты предстоявшим щекотливым объяснением с комендантом. Поэтому, не удостаивая никакого внимания крепостные сооружения, он с подъемного моста направился прямо к главному входу цитадели и поднялся за проводником во второй этаж, где помещалась квартира коменданта.
Толмач-слуга пригодился ему и тут при объяснении с финкой служанкой, впустившей их в прихожую.
– А фрёкен Хильда дома? – спросил Иван Петрович.
– Обе фрёкен дома.
– Обе?
– Да-с: фрёкен Хульда и фрёкен Хильда.
– Вот как, их две? Доложите же, что им желал бы засвидетельствовать свое почтение французский маркиз Ламбаль.
Маркизу, однако, пришлось раза три повторить свое мудреное звание и свою не менее мудреную фамилию, пока те не поддались непослушному языку финки. Недолго погодя посланная вернулась в прихожую и, низко приседая, распахнула перед гостем дверь в горницу:
– Tulka sissa. (Войдите).
Здесь его заставили прождать значительно долее (обе фрёкен, как можно было догадаться, сочли нужным принарядиться для редкостного гостя), и он имел полное время оглядеться. Если то была парадная гостиная, то она никак не имела ничего общего с теми великосветскими салонами, в которых он еще так недавно проводил целые вечера или, вернее сказать, ночи у своих парижских знакомых. Там высокие, часто в два света, помещения, обитые драгоценными гобеленами, были уставлены пышной, шелковой мебелью в изящном стиле ренессанс, начинавшем переходить в вычурно-причудливый рококо. Гостиная ниеншанцского коменданта, при всей своей просторности, была несоразмерно низка и казалась еще ниже потому, что по потолку из конца в конец были проложены толстые полированные балки. Стены кругом были выложены полированными же, симметрично расположенными дощечками; причем и балки, и стены были изукрашены довольно искусно вырезанными изображениями из священного писания и благочестивыми изречениями. Рука времени, а может быть, и рука художника наложила на все однообразный темный колорит, придававший горнице несколько мрачный, но замечательно уютный вид. Уютности этой способствовала и вся обстановка: громадная, но не лишенная своего рода монументальной красоты муравленая печь из глазированных изразцов; массивные диван и кресла с могучими, крутыми спинками и ручками; палисандрового дерева клавесин; особенно же окна: последние были увешаны прозрачными кисейными занавесками и уставлены горшками гортензий, гиацинтов, тюльпанов и махровых роз; по бокам окон вился плющ, цепкие ветки которого, сплетаясь вверху, густой зеленью своей даже затемнили верхние стекла. Среди этой зелени в одном окне качалась в деревянной клетке канарейка, в другом – кардинал, в третьем – горихвостка. Перед средним окном на небольшом возвышении стояли друг против друга, со столиком посредине, два потертых кожаных кресла, а на столике лежал большой фолиант в толстом деревянном переплете, обтянутом свиною кожей, с медными застежками. Вытисненный на переплете золотой крест показывал, что это – священное писание. Тут же, на книге, оказались большущие очки, как бы сейчас только снятые с носа, а рядом с ними – недовязанный, очень внушительных размеров чулок с вязальными спицами.
«Однако ножка, для которой предназначен сей чулок! – усмехнулся про себя Иван Петрович. – И очки уже надевает бедная вязальщица… Но те же пальцы, видно, умеют и по клавишам бегать…»
Он подошел к клавесину, поднял крышку и взял несколько аккордов. В это время на пороге из внутренних покоев показались обе хозяйки.
«Да, фамильное сходство между обеими поразительное, но фрёкен Хульда по меньшей мере вдвое старше, и ее богатырское сложение, гренадерская осанка, энергические крупные черты лица, густые белокурые букли и здоровый сизый румянец во всю щеку наглядно показывают, какою станет со временем и младшая, фрёкен Хильда. По возрасту они едва ли родные сестры, но по сходству могли бы быть. Значит, на всякий случай так и будем разуметь их».
Все это мгновенно промелькнуло в голове Ивана Петровича, и он с галантным поклоном сделал два шага к вошедшим и отрекомендовался. Те обе одновременно ответили ему совершенно таким же патриархально-чинным книксеном, как давеча горничная-финка, так что нашему маркизу стоило некоторого усилия над собою, чтобы сохранить серьезный вид.
– Нам очень жаль… Папы нет дома… Не хотите ли присесть? – застенчиво пролепетала младшая довольно бегло по-французски, снова приседая и зардевшись вдруг до ушей: она, видно, узнала теперь вчерашнего спутника фон Конова.
Поблагодарив, Иван Петрович выждал, пока обе усядутся на диван, и опустился затем в предложенное ему кресло, которое, должно быть, так же для прочности, было набито, как показалось ему, мелким булыжником. Но это опять-таки совершенно отвечало всей окружающей солидной, вековечной обстановке.
– Давно я не чувствовал себя так хорошо, как здесь у вас, – обратился он к фрёкен Хульде, как к старшей. – Я, надо знать вам, вечный скиталец на море житейском, слоняюсь из края в край, а тут точно попал опять к себе в отчий дом: все кажется мне таким милым, родным, знакомым, будто я бывал тут уже сотни раз. И обеих вас, мадемуазели, я будто давным-давно знаю: вы дополняете только собою эту славную, родственную обстановку…
Фрёкен Хульда вопросительно, как бы ища поддержки, обернулась к младшей барышне.
– Тетушка моя не говорит по-французски, – объяснила последняя.
– Ваша тетушка? – воскликнул Иван Петрович. – Не может быть! Мадемуазель, верно, ваша старшая сестрица?
Эти слова тетушка, казалось, поняла, потому что в свою очередь теперь слегка покраснела, но ошибка молодого человека, по-видимому, ничуть не была ей неприятна, потому что она с особенно приветливою миной на ломаном немецком языке спросила: не говорит ли он, может быть, по-немецки?
– С грехом пополам объясняюсь, – отвечал он. – Но мне все как-то не верится, чтобы вы не были родные сестры!
– Да, мы с племянницей очень схожи, – степенно отозвалась фрёкен Хульда. – Но я ровно на тридцать лет ее старше: ей – четырнадцать, мне – сорок четыре.
Спафариев не шутя уже был удивлен.
– Простите, мадемуазель, если я вам не поверю… Она снисходительно усмехнулась:
– Мы, северянки, действительно, сохраняемся довольно долго, мы ведь потомки древних викингов норманских. А скажите, пожалуйста, мне очень важно знать: хорошо ли говорит Хильда по-французски?
– Восхитительно.
– Стало быть, недаром каждое слово ее обошлось мне в две кроны!
– Вам?
– Да, она крестница моя, и я приняла на себя все издержки по ее воспитанию.
– А вы, мадемуазель, воспитывались здесь, в Ни-еншанце? – обратился он к племяннице.
Вместо маленькой дикарки, однако, отвечала опять тетушка.
– Нет, в Стокгольме. Отец ее с переводом сюда комендантом так стосковался по девочке, что я должна была поскорее привезти ее к нему, хотя она не окончила еще последнего класса. Это было тем более жаль, что она в своем классе была всегда первой.
– А я в своем, увы! – всегда двадцать первым!
– Сколько же вас всех было в классе?
– Двадцать один человек.
Черты фрёкен Хульды подернулись облаком: ей, видимо, было грустно разочароваться в таком милом молодом человеке, и, в утешение себе, она достала из кармана небольшую черепаховую табакерку и угостила себя щепоточкой табаку.
«Ах, ах! – вздохнул про себя Спафариев. – Так-то однажды и племянница будет утешаться в горести и печали!»
– Вы, стало быть, были последним в классе? – спросила фрёкен Хульда.
– Выходит, так, но моя ли вина, согласитесь, что нас было не более двадцати одного? Зато я благодетельствовал других, уступал им лучшие места.
– Вы, господин маркиз, кажется, довольно беззаботны, но сердце у вас доброе.
– Доброе ли – не берусь судить, но пречувствительное, и при виде чужой беды, чужого горя слезы у меня всегда наготове. Когда я, например, в Индии охотился на львов и тигров, то, зная свою слабость, всякий раз, бывало, нарочно запасаюсь несколькими носовыми платками.
Во время диалога своего с тетушкой Иван Петрович раз только, и то безуспешно, обратился к безмолвствовавшей племяннице. Она сидела как на иголках и, нечаянно встретясь глазами с молодым гостем, быстро потуплялась. Когда же он теперь, чтобы рассмешить ее, упомянул о своей удивительной чувствительности, она не могла уже удержаться и фыркнула, но тотчас еще пуще устыдилась и прикрыла рот платком.
Фрёкен Хульда укорительно покачала ей головой, а затем с достоинством обратилась к гостю:
– Так вы были в Индии? А почем там, не можете ли сказать мне, индюшки?
Теперь и Иван Петрович вынужден был закусить губу…
– Почем индюшки? Виноват, не справлялся, но почем слоны…
– А там кушают и слонов?
– Самих их на стол не подают – немножко грузны, – но хоботы их у туземцев одно из самых лакомых блюд.
– И вы тоже ели их?
– Как же не отведать? И могу уверить вас, что весьма недурно.
– Но из-за хобота убивать целое животное…
– Я думаю, и из-за клыков? – решилась в первый раз подать голос фрёкен Хильда.
– Совершенно верно, – подтвердил с поклоном Иван Петрович, – а хоботы уже кстати: зачем им пропадать? Если мне было жаль убивать слонов, так более потому, что они так умны – умнее иного человека. Только под старость тоже теряют память. У меня, например, был старый слон, так тот, чтобы чего не забыть, завязывал себе всякий раз хобот узлом.
Теперь и у тетушки не могло быть сомнения, что язык у гостя без костей, и она, невольно также улыбнувшись, заметила, что «господин маркиз, кажется, как все французы, большой фантазер и охотник до сказок».
– Да, – отвечал он, – сказки – слабость моя с раннего детства. Но тогда я особенно любил такие, где встречалось побольше пряников и орехов, а в настоящее время меня гораздо более интересует какая-нибудь пулярка с фаршем, да и не в сказке, а на столе передо мною.
– Ах, Боже мой! – спохватилась тут фрёкен Хульда. – А мы-то вам до сих пор еще ничего не предложили! Для обеда еще рано, но вы позволите хоть чашечку кофе?
– Тетенька, я пойду, заварю… – вмешалась фрёкен Хильда и вспорхнула с дивана.
– Сиди, сиди! – остановила ее тетушка. – Я сама распоряжусь.
– Но зачем же, тетенька… Позвольте уж мне…
– Ты не знаешь, милочка, где что взять, – решительно заявила фрёкен Хульда, которой, по-видимому, хотелось угостить молодого ценителя вкусных вещей чем-то особенным собственного изделия. – Сиди и займи покуда господина маркиза.
Молодые люди остались вдвоем.
Глава девятая
Детство веселое, детские грезы!
Только вас вспомнишь, – улыбка и слезы.
Никитин
Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться, –
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.
Державин
– Ваша тетушка, видно, ведет все хозяйство в доме, – заговорил опять по-французски Иван Петрович, – а вы, мадемуазель, занимаетесь больше рукодельем? Но если зрение у вас так слабо, то вам следовало бы поберечь его.
Фрёкен Хильда своими большими голубыми, пугливо доверчивыми, как у теленочка, глазками, недоумевая, уставилась на говорящего.
– Я не страдаю глазами, – возразила она.
– А зачем же вы употребляете очки?
И он указал на большие круглые очки, лежавшие на столике перед средним окошком, рядом с недовязанным колоссальным чулком.
– Ах, это тетины!..
– Но чулочек она вяжет для вас?
Девочка, казалось, не знала: счесть ли это опять за простую шутку или за насмешку?
– Нет, для себя, – отвечала она, серьезно сдвинув бровки. – Вы, французы, кажется, очень любите издеваться над другими…
– С чего вы взяли, мадемуазель?
– Да вот хоть давеча вы уверяли тетушку, будто я хорошо говорю по-французски…
– А разве это неправда?
– Я очень хорошо знаю, что у меня есть шведский акцент и что я делаю ошибки. Три года назад я едва знала сказать «bonjour» и «pardon».
При этих словах по простодушному личику девочки проскользнула шаловливая улыбка.
– Вы, верно, вспомнили что-нибудь забавное? – догадался Иван Петрович.
– Да…
– Что же именно? Нельзя мне разве узнать?
– Можно бы… Но вы станете опять смеяться.
– Что же в этом дурного? Вместе посмеемся. Смех и для пищеварения, говорят, очень полезен. Спросите хоть вашу тетушку.
Фрёкен Хильда еще колебалась.
– Ну пожалуйста! – попросил он так умильно, чистосердечно, что девочка сдалась.
– Видите ли… – начала она, – мы с кузиной моей были в одном классе и как только выучились первым французским вокабулам, то страшно заважничали. Идем, бывало, по улице и нарочно задеваем локтем прохожих, чтобы иметь случай сказать «pardon, monsieur!», «pardon, madame!» А в праздники, гуляя вместе по эспланаде, болтаем меж собой по-французски, то есть морочим гуляющих, будто бы говорим, на самом же деле повторяем без толку, как попугаи, одни и те же заученные вокабулы.
И рассказчица и слушатель разом залились задушевным смехом, но первая, застыдившись своей чрезмерной веселости, прижала опять к губам платок.
– Прелестно! – сказал Иван Петрович. – У меня с моими братьями был также свой особый язык: каждый слог мы повторяли дважды, второй раз приставляя к нему только букву ф, например: «у-фу на-фас бы-фыл сво-фой я-фя-зы-фык».
– А мы с кузиной придумали особую азбуку, – подхватила фрёкен Хильда. – Ставили одни буквы вместо других и переписывались таким образом и в классе, и дома, чтобы другие нас не понимали. Приходили к нам в дом по воскресеньям из корпуса ее старший брат, кадет, ужасный задирала. Так мы с нею нарочно пишем друг другу при нем записочки, например: «Какой несносный мальчишка!» Он перехватит у нас записку, чтобы прочесть, и рот разинет: ничего-то не понять! Умора просто!
– Что же, он разве мешал вам в ваших играх?
– И как! Мы так хорошо, например, играли с сестрой его в феи, в гномы, в богини, летали на коврах-самолетах… А он вымажется сажей и с гробовым криком «го-го-го!» выскочит вдруг на нас из-за угла…
– И феи ужаснутся деланного черта?
– Да как же не ужаснуться? Потом, разумеется, узнав его, мы прогоняли его вон.
– Вот то-то и есть. А ему, бедняге, было досадно, что вы, девочки, не принимаете его в вашу игру.
– Вовсе нет. Мы пробовали было играть с ним, но разве с таким сорванцом можно было? Раз сестре его подарили куклу, и надо было ее окрестить. Я была крестной матерью, а кузен должен был быть пастором. Все было приготовлено как нельзя лучше: посредине комнаты был поставлен столик, накрытый чистой салфеточкой, на нем две восковые свечи, а между свечами серебряный тазик с водой. Запеленав мою малютку в новенькое одеяльце, я сперва ее убаюкала, потом понесла крестить. Кузен в черном таларе, как следует, действительно, начал густым басом свою проповедь. Но когда дело дошло до крещения, он заместо того, чтобы омочить моей крестнице только темя, хвать ее у меня из рук и окунул в таз с головою.
– Ах, Боже мой! – с притворным участием испугался Спафариев. – Ведь она могла захлебнуться! Вы, конечно, отняли ее у него?
– Хотела отнять, но он не давал мне и стал кружить ее за ногу по воздуху. «Ничего, – говорит, – откачаем».
– Вот разбойник! Да ведь у нее голова могла закружиться!
– Вам-то смешно, а мне-то каково было? Вы, мальчики, все ужасные забияки.
– Да, куклы не по нашей части. Мы с братьями чаще всего играли в охоту: один был медведем, другой – охотником, третий – его сыном. Медведь тащил мальчика в берлогу, а отец убивал медведя и спасал сына. А то еще мы отправлялись в Австралию: один был европейцем, другие дикими. Дикие, поймав европейца, отрезали ему линейкой голову, руки, ноги и, изжарив на костре, то есть на столе, съедали на здоровье.
– Отчего это мальчики любят всегда такие страсти? Им все бы только обижать других…
– Оттого, мадемуазель, что жизнь мужчины – вечная борьба. Вот мы с детства и упражняем свои силы. Как сейчас помню такой случай: идя в школу, я должен был миновать городскую площадь. Так как классы в разных школах начинались в одно время, то аккуратно каждое утро на этой площади мне пересекал дорогу один и тот же ученик другой школы. Ну, а разные школы, известно, – враждебные лагери. И вот в один прекрасный день чаша наша перекипела, мы прошли с ним так близко один мимо другого, что не могли не толкнуть друг друга. «Дурак!» – крикнул один. «Болван!» – отозвался другой. И пошла потеха, мальчишечий турнир. Бросив наземь наши ранцы, мы принялись без милосердия тузить друг друга, пока вконец не запыхались и не вспомнили оба, что пора и в класс. Тогда мы подобрали с земли ранцы – и разошлись.
– И только-то?
– Не совсем. Едва я отошел на несколько шагов, как слышу за собой сердитый голос: «Отдай мне мой ранец!» Что такое? Гляжу: и то ведь, второпях я схватил ранец врага, а он – мой. Обменявшись ими, не глядя друг на друга, мы пошли опять каждый своей дорогой.
– Совсем как молодые петухи!
– Похоже на то. Но наша петушиная история окончилась все-таки по-человечески, по-христиански.
– Как же так?
– А так, что на другой день, встретясь опять на площади, мы исподлобья как-то невольно улыбнулись друг другу, на третий – разговорились, а на четвертый – подружились. Прежний заклятый враг мой вскоре нарочно перешел в мою школу, чтобы только быть чаще со мною.
Болтовня молодых людей на этом месте была прервана появлением почтенной тетушки и сопровождавшей ее горничной с подносом в руках. Поднос был массивный, серебряный и на нем красовался целый кофейный арсенал из массивного же серебра: кофейник, сливочник, сахарница и сухарница с домашними сухарями; чашечки же были из тончайшего фарфора с китайским рисунком, точно так же, как и две вазочки с вареньем и тарелочки к ним.
– Я послала вестового в городскую булочную за свежим печеньем, но его до сих пор нет как нет. Не знаю, что с ним такое! – с сокрушением извинилась фрёкен Хульда и предложила гостю покамест «погутировать» северного их варенья: морошки или мамуры.
На сделанный ей Иваном Петровичем комплимент по поводу необычайной ароматности мамуры, домовитая хозяйка объяснила, что ягода эта – самая северная, даже на Неве не произрастает и нарочно выписана для них богатейшим местным коммерсантом… лучшим другом дома.
– А этот фарфор, – с гордостью указала она на вазочки, тарелочки и чашечки, – прислан нам прямо из Китая… благодаря любезности все того же друга дома, – прибавила она с таким знаменательным взглядом на племянницу, что та смутилась и нахмурилась.
«Опять этот необъявленный жених, коммерции советник!» – догадался Иван Петрович, и, точно в сладкое варенье к нему попала капля дегтя, он с неодолимым уже отвращением отставил свою тарелочку.
– Что же вы не докушали? – спросила фрёкен Хульда.
– Слишком, знаете, душисто…
– Так я вам сейчас налью кофею.
– А вот и вестовой! – воскликнула фрёкен Хильда и сорвалась с места.
Просунувший голову в дверь вестовой подал ей туго набитый бумажный мешок и, чтобы не получить головомойки от старшей фрёкен, так же живо юркнул вон. Девочка между тем высыпала булочное печенье на поднос, а мешок приставила к губам и принялась надувать.
– Что ты делаешь, шалунья? – успела только вскрикнуть тетушка.
Племянница надула уже мешок и громко хлопнула им по столу. Вслед за тем она не знала, куда деваться от стыда, и закрылась уже не платком, а рукавом.
– Это у нее точно болезнь какая, – нашла нужным выговорить ее тетушка и крестная мать, – так же, как и танцы…
– А вы, мадемуазель, охотно танцуете? – спросил, улыбаясь, Иван Петрович.
Пылающее личико и голубые глазки мелькнули на миг один из-за пышного рукава, чтобы тотчас опять скрыться.
– Ну, что прячешься, дурочка? Кто же виноват? – ласково говорила фрёкен Хульда и насильно опустила руку племянницы, служившую ей щитом. – Для Хильды, знаете, нет ничего милее танцев. Только жаль вот, здесь в провинции ни одна из дам не знает хорошенько менуэта…
– А в Париже у нас вошла в моду теперь еще совершенно особая, преграциозная фигура! – подхватил гость.
– Правда? – встрепенулась девочка, и глазки ее, как две звездочки, заискрились. – Ах, если бы увидеть…
– Я вам хоть сейчас покажу. Только одному мне, разумеется, этого не проделать. Позвольте вашу ручку, а тетушка ваша будет, может быть, так милостива сыграть нам на клавесине?
Тетушке, естественное дело, нельзя было упустить столь счастливого случая – дать племяннице обучиться, притом даром, новейшей «преграциозной» фигуре у «настоящего парижанина», и она уселась за клавесин. Племянница еще несколько пожеманилась, но – охота пуще неволи – очень скоро сдалась.
И вот под звуки клавесина, рука за руку, наши молодые люди принялись старательно выделывать замысловатые па с обязательными взаимными почтительными поклонами.
– Schon, sehr schon! – раздался в дверях мужской голос.
Фрёкен Хульда разом прекратила свою игру, а танцующие, как облитые холодной водой, отпрянули друг от друга.
На пороге стоял сам комендант, полковник Опалев. Судя по седине, он был на несколько лет старше сестры. Но высокий, сухопарый, без всякого брюшка, он держался чрезвычайно прямо; загорелое лицо его выражало решительность и строгость. Видно было, что человек этот привык повелевать, был взыскателен и к себе, и к другим. Молниеносный взгляд, брошенный им на фрекен Хульду, выдал, насколько бестактным считает он затеянный ею танец племянницы с совершенно чужим кавалером; но в обращении с гостем он старался соблюдать сдержанную вежливость, хотя левая рука его во время разговора нервно играла эфесом сабли, то извлекая ее из ножен, то с звяканьем вбивая опять в ножны.
– Sehr schon! – повторил он, подходя к молодому человеку. – Если не ошибаюсь, маркиз Ламбаль.
– Точно так, – отвечал тот, уже оправясь и развязно расшаркиваясь. – Первым делом я, разумеется, счел долгом представиться вам, как градоначальнику, а затем я хотел просить о вашем посредничестве между мною и майором де ла Гарди: я имел несчастье застрелить его любимого лося…
– Знаю, знаю – от самого де ла Гарди, – перебил комендант. – Это точно, несчастье, потому что он, при всех своих достоинствах, в последнее время, вследствие некоторых душевных потрясений, сильно расстроен и… невменяем. Мне приходило уже в голову, не проще ли всего вам убраться отсюда подобру-поздорову…
Иван Петрович вспыхнул: ту же самую мысль высказал накануне и фон Конов, но высказал с глазу на глаз; здесь же постыдное предложение – бежать – делалось ему в присутствии двух особ прекрасного пола.
– Если я обратился к вам, господин комендант, то вовсе не затем, чтобы искать защиты от кого бы то ни было! – вскинув голову, проговорил он. – Не хвалясь, могу вас уверить, что я стреляю ласточек на лету, дерусь не хуже любого военного на рапирах и могу всегда сам постоять за себя. Но мне больно, что без всякого умысла с моей стороны я причинил огорчение почтенному старцу, и мне хотелось бы мирным, дружеским образом уладить с ним дело.
– Так же, как и мне. Впрочем, сейчас же отбыть отсюда вам и возможности нет: я нарочно справлялся только что об отходе иностранных судов. Оказывается, что ни одно из них не нагрузится ранее будущей недели. Поэтому, действительно, единственный исход – свести вас обоих на нейтральной почве. Одного, самого трудного, я по крайней мере достиг: майор де ла Гарди принял мое посредничество и согласился быть у меня нынче вечером к восьми часам. Раз обещал, он будет к назначенному часу. Надеюсь, что и вы, господин маркиз, будете не менее аккуратны?
Говоря так, комендант протянул руку на прощание маркизу. Тому ничего не оставалось, как до вечера откланяться. Обе фрёкен, окончательно стушевавшиеся с момента появления на сцену главы дома, молчаливым книксеном ответили на прощальный поклон гостя.
Выбрался Иван Петрович на вольный воздух с довольно легким сердцем: переправляясь в лодке обратно на мызу фон Конова, он как-то мечтательно про себя улыбался и тихонько насвистывал мелодию того самого менуэта, который играла перед тем на клавесине к его «новейшей фигуре» фрёкен Хульда: мысли его, очевидно, витали более около менуэта, чем около майора де ла Гарди. Но он далеко не был бы так беспечен, если бы мог слышать тот разговор, который последовал между членами семьи Опалевых сейчас по выходе его из горницы.
– Ты, любезный Иоганн, не дал ему даже кофе-то допить, – в минорном тоне позволила себе укорить брата фрёкен Хульда.
– Кофе допить! – повторил тот с желчной усмешкой и энергично брякнул опять саблей в ножнах. – Мы его ужо угостим не таким еще кофеем!
– Что такое, братец? Ты как будто недоволен нами…
– Ха! Напротив, отменно, чрезвычайно доволен! Ты знаешь ли, сударыня, кого ты угощала, кому позволила так бесцеремонно брать за руку нашу Хильду?
– Кому? Он отрекомендовался маркизом Ламбалем, и, признаюсь, – я бывала, ты знаешь, при дворе, – по всему его обращению сразу увидела, что человек этот принадлежит к самому высшему кругу…
– Так и есть! Как настоящий шпион, он тебя кругом уже обошел.
– Он – шпион? – дрожащими губами переспросила фрёкен Хильда, и последняя кровинка сошла с ее румяного лица. – Но кто вам сказал это, папа?
– Узнал я это прежде всего от майора де ла Гарди.
– Но де ла Гарди разве можно верить? И для чего французам посылать к нам шпионов?
– То-то, что Ламбаль этот не француз, а русский: камердинер крикнул ему по-русски, и слышал это не один де ла Гарди, но и бывшие при нем люди.
– Когда? Где?
– Это длинная история, которую ты скоро и без того узнаешь. Теперь весь вопрос в том, чтобы его вконец уличить. Я пригласил к вечеру, кроме де ла Гарди, еще нескольких из господ офицеров, чтобы было побольше свидетелей, а также коммерции советника Фризиуса, как тонкого дипломата. Они с де ла Гарди прибудут сюда уже в половине восьмого, чтобы предварительно установить со мною весь образ действий. Других я покуда нарочно еще не посвящал в тайну, чтобы они держали себя тем непринужденней. И вы обе у меня отнюдь не показывать виду – ни-ни!
– Но ведь это, братец, какая-то уж ловушка, волчья яма! – скромно возмутилась фрёкен Хульда.
– А как же иначе поймать волка?
– Да разве он сколько-нибудь похож на волка? Помилуй! На лице его написано такое прирожденное благородство, такое простосердечие…
– Ни слова более! – резко оборвал ее брат. – Твоя забота теперь только в том, чтобы угощение было на славу, а главное – в бовле двойная порция рома. Это мудрый совет нашего почтенного Фризиуса: «in vino Veritas» – в вине истина, – сказал он. Развяжется у молодчика язык, так сам заговорит перед нами по-русски.
– Но если бы он точно оказался русским, что сделаете вы с ним, папа? – упавшим голосом прошептала дочка.
– Что делают с неприятельскими шпионами? Расстреливают.
– Его расстреляют! Папа, дорогой мой! Но если бы он даже был русским, то ведь он все же может быть невинным.
– Раз он русский, и толковать нечего: приговор его подписан.
– Но в нас, папа, разве не течет тоже русская кровь?
Теперь очередь побледнеть была за отцом девочки. Ему стоило, видимо неимоверного усилия над собою, чтобы отвечать ей с тем же авторитетным достоинством.
– Прадед твой, а мой дед, точно, был русским дворянином и, по Столбовскому договору, перешел в шведское подданство. Но не нам с тобой быть над ним судьями. Он был женат на коренной шведке. Я в третьем колене, ты в четвертом – такие же коренные шведы, шведские дворяне…
Из глаз фрёкен Хильды брызнули слезы. Она без слов, с умоляющим видом простерла к отцу руки. Тетушка ее также поднесла к глазам платок. Коменданта это окончательно взорвало.
– С вами, женским полом, ничего на словах не столкуешь! – буркнул он. – На все у вас один аргумент – слезы. Так знайте же обе, вперед вас предупреждаю: чуть только по вашей оплошности маркиз этот о чем-нибудь домекнется и вздумает бежать – я не дам ему вздохнуть: в тот же миг голова его будет лежать на сажень от тела!
Выхваченная из ножен сабля со свистом прорезала воздух и наглядно проиллюстрировала устную угрозу. Удивительно ли, если обеим донельзя запуганным фрёкен воочию уже сдавалось, что голова молодого маркиза лежит перед ними отделенная от туловища?..







