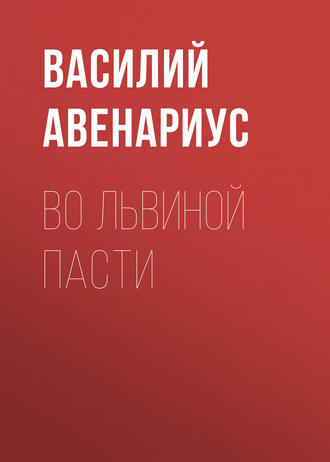
Василий Авенариус
Во львиной пасти
– Как истинный великий полководец! – подхватил Опалев. – Чтобы отрезать русским отступление, он разрушил мост, напал на них врасплох, изрубил двадцать тысяч, а остальных, обезумевших от страха, заставил сдаться.
– С вашей военной точки зрения это, может быть, и замечательный подвиг. Но простите, если я, приватный человек, сужу несколько иначе: имей я дело с врагом, я дрался бы с ним честно лицом к лицу, а не подкрадывался бы к нему исподтишка, как какая-нибудь кошка…
По молодости лет и под влиянием горячительных напитков Спафариев невольно увлекся порывом патриотизма и выразился гораздо резче, чем позволяло благоразумие. Кругом между шведскими офицерами поднялся ропот, а майор де ла Гарди прорвался вперед и заревел на весь дом:
– Мальчишка! Это про нашего короля-то? Тут и молодой враг его вспыхнул, как порох:
– Вы забываетесь, господин майор, и дадите мне сатисфакцию!
Чрезмерная горячность раздражительного старика-майора готова была испортить все прекрасно налаженное дело: «царский шпион» почти что совсем уже сбросил с себя маску, а тут вдруг все сводилось на личные счеты.
– Полноте, господа! – выступил миротворцем Фри-зиус, удерживая за руку маркиза, тогда как фон Конов, по знаку его, не без усилия отвел вон де ла Гарди. – Всякий вопрос только тогда может быть разрешен правильно, когда к нему обе стороны относятся sine ira et studio, без гнева и пристрастия. Вы, господин маркиз, как будто не одобряете нападения с тыла? Но неужели, скажите, с диким зверем могут быть общепринятые правила вежливости? А варварское государство тот же дикий зверь: если вы вздумаете нападать на него честно и прямо, то оно от всякого вашего удара будет только все более свирепствовать и в ярости своей наконец может действительно нанести вам смертельную рану…
– Так вы, стало быть, все-таки не отвергаете, что царь Петр может вас и смертельно ранить? – подхватил Иван Петрович с сверкающими глазами. – Не даром он признает вас, шведов, своими учителями в военном деле. «Шведы не раз еще побьют нас, – говорил он, – но в конце концов и мы научимся бить их».
Две фрёкен, тетушка и племянница, до этого времени, как лица без речей, не смели вмешиваться в горячие препирательства мужчин. Теперь младшая что-то умоляюще шепнула старшей и та приблизилась к молодому французу.
– Вы, господин маркиз, кажется, играете на клавесине. Не сыграете ли вы нам чего-нибудь?
«Что они всё трусят за меня? – пронеслось у него в разгоряченном мозгу. – Не считают ли они и меня за труса? Так вот же нарочно докажу им…»
Он молча поклонился и присел за клавесин. Горница огласилась звуками триумфального военного марша. Офицеры, наэлектризованные воинственными звуками, столпились вокруг музыканта. Но торжественный марш незаметно перешел в заунывный, простой, но хватающий за душу мотив.
Если Иван Петрович, садясь за инструмент, и располагал вначале, быть может, ограничиться игрою русской песни, то по своей неудержимой натуре не мог уже остановиться на полпути и сперва тихонько, а потом все громче стал подпевать, отчетливо выговаривая и самые слова песни. То была стародавняя «Лучинушка», которую присутствующие шведы имели полную возможность слышать иногда и от ниеншанцских русских простолюдинов.
– Да ведь это национальная песня русских?
– И как он чисто выговаривает! Без всякого акцента! – шепотом толковали меж собою слушатели-шведы.
Коммерции советник и будущий тесть его многозначительно только перемигнулись: попался-де молодчик! А фрёкен Хильда как стояла около своей менее догадливой тетушки, так и замерла на месте со сложенными руками.
Глава двенадцатая
– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа.
Гоголь
Бальзаминова.
Как же это можно живого человека собаками травить?
Бальзаминов.
Как можно? Что вы, маменька! Разве они знают учтивость?
Островский
В эту-то критическую минуту из открытых окон сквозь легкое плесканье мелкого осеннего дождя, под такт задушевной песни раздались звучные трели канарейки. Все присутствующие озадаченно насторожились, а фрёкен Хильда на цыпочках подошла к висевшей над одним окошком клетке с канарейкой: как это кенар ее умудрился вдруг так удачно вторить?
– А это Люсьен, камердинер маркиза, – объяснил ей вполголоса с усмешкой фон Конов, и когда за последней замирающей нотой песни все кругом забили в ладоши, он наклонился из окошка через горшки с цветами и крикнул вниз во двор: – Люсьен, пожалуйте-ка сюда!
Затем, обратясь к хозяину и двум хозяйкам, он сказал похвальное слово артисту-самоучке, который несомненно мог бы немало также посодействовать развлечению общества. Но еще до прихода ожидаемого артиста общее внимание было отвлечено новым явлением.
На яркий свет зажженных в горнице канделябров, а может быть, и просто, чтобы укрыться от усилившегося на дворе дождя, в одно из окон внезапно впорхнул молодой воробышек. Тотчас, однако, заметив свою оплошность, он заметался как угорелый, с жалобным писком летая взад и вперед под низким потолком и с налета ударяясь то в одну стену, то в другую.
Фрёкен Хильда забыла на минуту даже свои страхи за молодого маркиза перед очевидной смертельной опасностью, грозившей теперь бедной птичке.
– Она убьется! Ловите ее, господа, ловите! – кричала растерявшаяся девочка, и все молодое офицерство с Ливеном во главе бросилось исполнять волю комендантской дочки.
Воробышек, понятно, еще сильнее оробел и, прихлопнутый на лету чьей-то чересчур усердной рукой, упал прямо к ногам Спафариева. Тот поднял с пола трепещущую птичку и подал ее фрёкен Хильде:
– Получите, мадемуазель.
– Да она уже чуть дышит! – говорила девочка с самой искренней жалостью стараясь собственным дыханием вдохнуть в птичку жизнь.
– Общая судьба ветреной молодежи, – с ударением заметил тут комендант. – Зачем не спросясь влетела в западню? Но разница между ветреной птичкой и ветреным молодым человеком та, что этакую глупенькую птичку будут кормить, холить, чтобы выпустить потом на волю, с человека же, как с разумного существа, взыщут по всей строгости законов.
Ветреник наш не мог уже сомневаться, что он очутился в западне, из которой нет ему выхода.
– Я, простите, не совсем понимаю, к чему вы речь ведете, господин комендант, – бодрясь еще, говорил он, невольно, однако, ища глазами своего личарду, который между тем появился в дверях.
– А вот камердинер ваш все сейчас разъяснит, – сухо отвечал Опалев и повернулся в Лукашке: – Подойди-ка сюда, любезный.
Смышленый калмык уже по строго-начальчиническому тону хозяина не мог не смекнуть, что дело что-то неладно. Он окинул горницу быстрым взглядом. Дверей там было всего двое: одни вели в прихожую за его спиной, где, кроме вестового, торчали под ружьем трое часовых, другие – во внутренние покои, откуда выбраться на свободу, очевидно, нельзя было и думать. Но в горнице было еще три окна, небольших, правда, и заставленных вдобавок цветами, но все открытых настежь.
– Ну, что же? Подойди! – властно повторил комендант, указывая пальцем место на полу в двух шагах перед собою.
Лукашка повиновался и двинулся вперед на указанное место.
– Где ты, скажи, был до сих пор?
– Где-с? Да тут же на лестнице: ждал вот господина маркиза.
– Только?
– Н-нет… Прогулялся перед тем и по двору.
– А может быть, и по валу?
«Часовой, знать, подглядел и донес, – сообразил калмык. – Стало, запираться все равно ни к чему не поведет».
– Да, и по валу, – отвечал он.
– И что же делал там?
– Да посидел, поглядел на Неву…
– О! Он у меня ведь и поэт! – с развязным смехом вмешался Иван Петрович. – Мечтатель и поэт! Верно, сочинял опять стишки.
– И записывал тут же в записную книжку? – досказал Опалев. – Покажи-ка их сюда, любезный.
– Стихи мои так плохи, что показать их вашей милости я никак не посмел бы… – с притворной скромностью отвечал Лукашка, шаг за шагом отступая в сторону ближайшего окошка.
– Вздор! – выпалил теперь майор де ла Гарди, которого до этого времени удерживала от вмешательства в допрос субординация перед начальником. – Он просто снимал план цитадели. Обыскать негодяя!
Роковое слово «план» был произнесено; никакие дальнейшие увертки ни к чему бы уже не послужили. Оставалось одно: прибегнуть к своему спасительному искусству – подражать всевозможным животным. Моментально оскалив до ушей свои длинные, белые зубы, дико поводя кругом белками глаз и скрючив пальцы рук наподобие звериных когтей, Лукашка с таким угрожающим, поистине медвежьим рычанием ринулся на скучившихся кругом офицеров, что те под первым безотчетным впечатлением, как перед рассвирепевшим зверем, отстранились и дали калмыку дорогу. Вслед затем все они схватились, конечно, за сабли, но одурачившего их двуногого медведя в горнице уже не было: сбросив с подоконника на двор цветочные горшки, он с ловкостью акробата сам выпрыгнул туда же.
Поднялся невообразимый переполох. Среди криков: «Держи его! Держи!» – офицеры кинулись к окнам. Однако у одного только фенрика Ливена достало духу повторить salto mortale калмыка из второго этажа с трехсаженной высоты. Но так как окно было, как сказано, довольно невелико, то долговязый юноша хватился сперва лбом о верхнюю перекладину, потом не знал, как управиться со своими длинными ногами, пока чья-то дружеская рука сзади не придала ему смелости совершить отчаянный прыжок. Вслед затем стоявшие наверху у окон услышали снизу громкое «ох!». На вопрос, что с ним, бедняга простонал, что нога-де подвернулась, жилу, кажется, вытянул.
Тем временем де ла Гарди и Фризиус, опасаясь, чтобы господин, подобно камердинеру, как-нибудь не улизнул, схватили было с двух сторон за руки Ивана Петровича. Но тот стряхнул обоих с себя со словами: «Не уйду, не беспокойтесь» – и, покорясь судьбе, присел опять на свой стул у клавесина, положив ногу на ногу.
Комендант, убедясь в миролюбивом настроении изобличенного врага, счел первым долгом распорядиться поимкой его слуги и, подозвав к себе одного из адъютантов, отдал ему несколько коротких приказаний.
– Да собак с цепи спустите! – крикнул он вслед уходящему.
– Бога ради, папа! Ведь они же у нас презлые, они его растерзают! – услышал он за собою трепетный голос дочери.
– А! И ты еще здесь? И ты, сестра, тоже? Ну, милые, тут вам теперь совсем не место.
Сказано это было так холодно и повелительно, что ни та, ни другая не осмелились прекословить. Но на пороге, куда он последовал за ними, чтобы притворить дверь, фрёкен Хильда шепотом сделала еще вопрос:
– А что же будет с ними?
– Завтра узнаешь! – был ответ.
– Папа, дорогой вы мой! Не будьте слишком безжалостны…
– Да, братец… – решилась вставить со своей стороны фрёкен Хульда, у которой, как и у племянницы, на глазах выступили слезы.
– Опять эта сырость! – морщась, сказал комендант. – Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело. Марш! Ну, скоро ли?
А со двора между тем среди плеска дождя доносился уже шум и гам подлинной травли: беготня и перекликающиеся голоса часовых; выстрел, другой и третий, собачий визг и лай…
– Фонарь сюда! – можно было расслышать голос фенрика Ливена. – Так и есть: кровь! Стало быть, он ранен!
– Слышите: кровь! ранен! – говорили меж собой толпившиеся у окон товарищи Ливена, которым не только из-за густой темноты, но еще более из-за высокого частокола не могло быть видно, как внизу вала раненый калмык, шагнув уже в лодку, должен был отбиваться веслом от налетевших на него свирепых волкодавов.
– Ему уже не уйти, – уверенно сказал хозяин, возвращаясь к сидевшему еще у клавесина гостю. – Теперь, милостивый государь, ваша очередь. Вы, я вижу, рассудительнее своего слуги и потому, разумеется, не станете попусту запираться. Признайетесь-ка прямо: вы – русский?
Глава тринадцатая
Шейлок.
Тот мяса фунт, которого теперь
Я требую, мне очень много стоит;
Он мой, и я хочу иметь его.
Шекспир
И, словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смога, так тот того в рога.
Фонвизин
Прямой вопрос требовал и прямого ответа. Что пользы, в самом деле, было бы еще отпираться? Бегство калмыка было слишком явною уликой; а сейчас вот Лукашка будет, конечно, и схвачен, при нем найдут план цитадели – ну, и конец.
– Да, я – русский, – просто отвечал Иван Петрович, не выказывая ни особенного испуга, ни замешательства.
– Ага! Кто был прав? – торжествуя, воскликнул майор де ла Гарди. – Я всегда говорил, что он подослан русским царем, что он шпион…
С видом человека, не знающего за собою умышленной вины, наш русский гордо приподнялся с места и обвел обступивших его шведских офицеров открытым взором.
– Я верный слуга моего царя, но не шпион, – сказал он. – И если вам только угодно будет выслушать меня…
– Audiatur et altera pas, совершенно верно, надо выслушать и противную сторону, – вставил коммерции советник Фризиус, важно кивнув головою.
– Вздор! Галиматья! – буркнул де ла Гарди. – Какие с ними еще церемонии? Довольно гвоздя и петли!
– Если они точно заслужили такой крупной кары, то, вероятно, ее и не избегнут. Но festina lente: тише едешь, дальше будешь…
– Простите, уважаемый друг мой, – с сухой вежливостью заметил комендант, – в военное время ваши гражданские максимы не применимы. Военный суд – скорый и строгий, но без суда мы все же никого не предаем смертной казни.
– Вздор! Я требую смертной казни и настою на своем, sapperlot! – перекричал его опять горячий старик майор.
– Майор де ла Гарди! Прошу вас взвешивать ваши выражения, – не повышая тона, но с начальнической осанкой прервал протестующего Опалев. – Как вот господин коммерции советник, так точно и вы в настоящем случае не более, как приватный человек, и никакого решающего голоса не имеете.
Коммерции советник, привыкший, чтобы изрекаемые им «максимы» принимались во всем Ниеншанце «на вес золота», как непреложные истины, был, казалось, несколько оскорблен тем резким, чисто солдатским обращением, которое допустил себе и в отношении его, Фризиуса, будущий тесть его. Он нахмурился, но, не возразив уже со своей стороны ни слова, взял с края печки свою шляпу и, молчаливо отдав всем присутствующим короткий общий поклон, с высоко поднятою головою, не спеша удалился из горницы.
Не то старик де ла Гарди: из-под пушистых бровей его сверкнули молнии, губы его судорожно искривились и на углах их показалась пена.
– Как? Я – приватный человек? – зарычал он вызывающе, со сжатыми кулаками подступая к коменданту. – Я, сударь мой, по воле короля, обязан теперь подчиняться вам, правда, но на деле я такой же примерный боевой солдат, как и вы…
– Были таким же, а может быть, еще примерней, – с той же сдержанностью отвечал Опалев, – но с тех пор, как вы в резерве…
– В резерве! А вы небось и рады? Сели непрощенно на чужое место…
Жилы на висках коменданта заметно налились, ноздри его раздулись и задрожали. Но самообладание ни на минуту его не покидало.
– Будет, господин майор де ла Гарди! – коротко оборвал он спор. – В уважение к вашим сединам и к вашим прежним заслугам я не желаю придавать особенного значения необдуманным словам, которые, очевидно, вырвались у вас сгоряча. И впредь, будьте уверены, я буду очень рад видеть вас у себя в доме в числе самых почетных гостей, но теперь все эти господа офицеры уже не гости мои, а члены военного совета, заседание которого должно сейчас открыться, вы же – офицер неактивный и не призваны подавать вместе с ними голос, поэтому я вынужден просить вас на время оставить залу заседания…
– То есть вы просто гоните меня из своего дома? – подхватил де ла Гарди, задыхаясь от негодования. – Покорнейше благодарю вас, господин комендант! Я отрясаю прах от ног моих.
Притопнув ногами, чтобы «отрясти прах», он заковылял к выходу, с силой распахнул дверь да так и оставил ее открытой настежь. Вследствие этого можно было ясно расслышать его тяжелое громыхание вниз по деревянным ступеням лестницы, вслед затем раздраженный голос его донесся уже со двора: расходившийся старик отчаянно пушил и там кого-то.
Причина его нового гнева тотчас разъяснилась. Влетевший в горницу адъютант впопыхах доложил, что хотя беглец, судя по кровяным следам, серьезно ранен и собаки также его несколько задержали, но ему все-таки удалось отбиться от них и укатить в комендантской лодке; а так как под рукой на беду никакой другой лодки не оказалось, то он, адъютант, распорядился откомандировать фенрика Ливена к городскому мосту с баркасом майора де ла Гарди, но тут-де вмешался сам де ла Гарди и наотрез объявил, что баркаса своего никому не уступит.
– Так бегите же в казарму, – прервал докладчика комендант, – возьмите с собою полроты солдат и на всех лодках, какие только найдутся на перевозе, пускайтесь в погоню. Да не забудьте, кстати, захватить факелы…
– Дождь, господин комендант, льет как из ведра: всякий факел затушит.
– Ну, уж как там быть – ваше дело! В ожидании же, господа, чтоб не терять времени даром, мы можем приступить и к следствию, – обратился комендант строго деловым тоном к присутствующим офицерам. – Прошу сесть, а вам, mein Herr, – не знаю, как теперь и величать вас, – не угодно ли стать вон там, по ту сторону стола.
По молчаливому знаку начальника, младшими офицерами в мгновение ока были убраны со стола бовля и стаканы, а на место их перед начальником очутились чернильница, гусиное перо, пара карандашей и пачка чистой бумаги.
Ивану Петровичу ничего не оставалось, как подчиниться обстоятельствам.
– Le vin est tire, il faut le boire! (Вино налито, надо его выпить!) – улыбнулся он, пожимая плечами и становясь на указанное место. Но улыбки у него как-то не вышло, очень уж формальна была вся обстановка; все эти недавние еще приятели его, офицеры, сидели теперь перед ним насупясь и избегая поднять на него взор: с этой минуты он был для них только подсудимым, с которым они не могли иметь уже никаких общечеловеческих отношений.
Один только добрейший фон Конов как будто сохранил к нему еще прежнее расположение, потому что, взглянув на него с грустным участием, спросил председательствующего: не дозволит ли тот ему еще до начала следствия сделать одно общее замечание, которое…
Но начальник остановил его на полуфразе:
– После допроса, господин майор, вам, наравне с другими, в порядке старшинства, будет предоставлено высказать все, что вы признаете нужным.
– После допроса? Слушаюсь, как прикажете. Раздав по листу и по карандашу двум сидевшим по сторонам его старшим офицерам, Опалев обмакнул в чернильницу перо и обратился к подсудимому с обычными вопросами:
– Ваше имя и фамилия?
– Иван Спафариев, – был ответ.
– Как?
– Спафариев.
– Гм… Оригинальная фамилия!
– Вполне оригинальная, господин комендант, потому что предки мои еще в шестом колене носили ее с гордостью.
– Хорошо… Национальность?
– О ней я только что имел честь вам докладывать: я – коренной русский.
– Ваша вера?
– Православная.
– Звание?
– Столбовой дворянин и калужский помещик.
– Занятие?
– М-да… Будь я у себя дома, в деревне, я не затруднился бы очертить вам мой образ жизни: номинальное высшее наблюдение над тем, как меня обкрадывает мошенник приказчик да с утра до вечера усиленная забота об услаждении своей грешной утробы.
– Я не шучу, mein Herr!
– И я, Herr Kommandant, не думаю шутить. Русская натура – широкая, и если русский барин, как я, вдобавок зажиточный, так дом его – полная чаша, никогда не оскудевающая ни для добрых друзей, ни для всяких приживальцев и нищей братии. Само собою разумеется, что, кроме еды и питься, есть у нас и другие интересы, как-то: псовая охота, и сам я – страстный охотник…
– Вы уклоняетесь в сторону от вопроса, – нетерпеливо перебил его комендант. – Прибыли-то вы ведь не из России, а из Любека?
– Точно так, попал же я туда, как потом и сюда, на Неву, вот какими судьбами.
И в кратких словах, без всякой уже утайки герой наш поведал о своей посылке царем в Тулон и Брест, о своей встрече на обратном пути с подлинным маркизом Ламбалем, об обмене с ним паспортов по недосмотру немецкой полиции и о вызванном этим случайным обстоятельством, легкомысленном, пожалуй, решении своем завернуть на Неву ради охоты на лосей. Умолчал он только об одном: что камердинер его на свой страх взялся добыть для царя план ниен-шанцской цитадели. Но на этот счет он, Иван Петрович, как непричастный к замыслу Лукашки, мысленно «умывал руки».
Исповедь его дышала такой искренностью и правдивостью, что трудно было не придавать ей веры. По крайней мере большинство его судей глядели на него уже заметно благосклонней. Председатель, однако, не был так доверчив и выразил подсудимому сомнение, чтобы человек в здравом уме и памяти из-за какого-то лося мог рисковать головою.
Спафариев в ответ развел руками:
– А вот подите ж! Я и сам теперь ясно вижу, что сотворил превеликую глупость, но на иную глупость, именно потому, что она очень уж велика, употребляешь тем более ума, а особенное преимущество человека перед другими тварями, как известно, в том ведь, что он творит свои глупости сознательно.
– Так что вы, mein Herr, действовали совершенно сознательно?
– Совершенно, все равно как пьяница, которого один внутренний голос уговаривает: «Экая ты, братец, дрянь! Брось пить!» – а другой подзадоривает: «Не давай бранить себя, назло вот пей!» Точно так и я сам себя подхлестывал на всякие сумасбродства, ну, и несу теперь, понятно, полную ответственность.
– Не можете ли вы привести еще чего-нибудь в свое оправдание?
– Разве то, что сама судьба меня уже жестоко покарала, не дав мне даже поохотиться на лосей, из-за которых-то, собственно, я и совершил весь этот далекий вояж с морской болезнью в придачу. Лося майора де ла Гарди я не беру в расчет, потому что трофей мой вы мне ведь не уступите?
– Об этом не может быть и речи. Не угодно ли вам теперь, mein Herr, выворотить карманы?
– С удовольствием.
Но там, кроме паспорта на имя маркиза Ламбаля, оказались только самые невинные вещи: полный кошелек денег, пара носовых платков: один – для употребления, другой – про запас, черепаховый гребешок с инкрустацией и флакончик с духами.
– А оружие при вас никакого не имеется? – спросил комендант.
– Нет… Ах, впрочем, виноват, есть.
И из особого внутреннего кармана появился известный уже читателям кинжал.
– Больше ничего?
– Прикажите кому-нибудь из господ офицеров обыскать меня, если не верите!
Возвратив владельцу туалетные принадлежности, Опалев остальные предметы отложил в сторону со словами:
– В свое время получите обратно.
Затем по-шведски заметил другим судьям, что объяснение подсудимого будто у него не было никакой иной цели, как поохотиться на лосей, крайне невероятно.
– Вполне разделял бы ваш взгляд, – возразил фон Конов, – если бы мы имели дело со шведом, а не со славянином.
– А в чем же разница, господин майор? Субъект этот, как бы то ни было, европейски образован, пробыл три года за границей.
– Так, но натуры славянской, первобытной, стихийной и Европа не переделает, ей, как ветру поднебесному, нет ни удержу, ни запрету. Взгляните сами на этого простодушного юношу, этого взрослого младенца: ну способен ли он быть шпионом? А главное: ужели, скажите, царь Петр выбрал бы младенца на столь ответственное дело?
– Гм… Последнее замечание ваше довольно убедительно. Ну, а если у камердинера его все же окажется план цитадели?
Фон Конов, видимо, смутился: ему теперь только ударило в голову, что сам же он ведь показывал Люсьену старый план цитадели, нарочно разъяснял еще его ему и оставил потом некоторое время в руках лукавца.
– Если бы даже оказался, – пробормотал он, – то с господина едва ли можно взыскивать за самовольство слуги… А! Майор де ла Гарди!
Все присутствующие с удивлением обернулись к выходной двери, в которой, в самом деле, показался снова старик-майор.
От бега и быстрого восхождения по лестнице он был краснее кумача и так запыхался, что в начале не мог произнести ни слова.
Приложив к волнующейся груди руку, он, как был, в мокром плаще своем, опустился в услужливо пододвинутое ему одним из младших офицеров кресло. Но вечно омраченные черты брюзгливого человеконенавистника положительно сияли, словно он помолодел на двадцать лет.
– Вы говорили вот, что я – человек невоенный… – пропыхтел он наконец с расстановкой, обводя окружающих победоносным взором, – а покамест вы сами тут сидите этак сложа руки… я нагнал злодея…
И, переведя дух, он отрывисто начал рассказывать, как, выехав на своем баркасе из Охты на Неву и увидев на том берегу костры русских смолокуров, мигом смекнул, что беглец искал спасения у своих сородичей. Так оно и вышло.
– А те не пытались его упрятать? – спросил Опалев.
– Не поспели: только его кучкой обступили, как я был уже тут.
– А он не очень сопротивлялся?
– Не до того ему было: он сильно ранен и лежал на земле без памяти, с забинтованной ногой, – сам, видно, дорогой оторвал себе рукав рубахи да забинтовал, только крови не унял.
– Но он жив?
– Еще дышит, но о сю пору не очувствовался. Волкодавы ваши его тоже порядком, кажись, потрепали: вся ливрея на нем изодрана.
– Надо сейчас обыскать его!
– Сделано. Мы обшарили его до ниточки.
– И что же?
– Да ничего!
– Никакого плана?
– Ничего, говорю вам. Верно, по пути в воду бросил, чтобы не было улики.
– Либо никакого плана и не было, – вставил фон Конов.
– Ну, нет, извините, – уверенно возразил комендант. – Показанием часового обстоятельство это вполне установлено. И зачем бы негодяй этот спасался от нас, если бы не знал за собою тяжкой вины? Итак, мне кажется, мы можем не медля постановить наш приговор, чтобы в двадцать четыре часа военное правосудие было удовлетворено.
– И мне, господин комендант, как наиболее содействовавшему поимке преступника, хоть и неактивному офицеру, вы не откажете теперь, надеюсь, если не участвовать в решении суда, то присутствовать при судоговорении? – не без самодовольной колкости спросил де ла Гарди.
Опалев преклонил голову.
– Услуга, которую вы оказали нам в этом деле, майор де ла Гарди, так велика, что ваша просьба должна быть уважена, при условии, конечно, что вы не будете высказывать вашего личного мнения, пока сам суд не сочтет полезным прибегнуть к вашей опытности. Итак, господа…
– Виноват, господин полковник, если я позволю себе еще раз прервать вас, – заявил фон Конов. – Допрос ведь окончен?
– Одного подсудимого – да.
– А другой, пока несколько не оправится, очевидно, не может быть допрошен. Стало быть, все, что можно было пока дознать, нами дознано. Но достаточно ли собранных улик, чтобы, по долгу совести, произнести справедливый приговор? В чем все наши улики? В том, что этот молодой человек возомнил себя новым Икаром, приделал себе так же восковые крылья и полетел за море, но так же, как древний Икар, слишком близко подлетел к солнцу, опалил себе крылья и кувырком упал в море. Ужели же мы навесим еще бедняге камень на шею!
– Камень или петлю – обязательно! – подхватил с азартом де ла Гарди, который не мог дождаться конца аллегорической речи фон Конова.
– Простите, господин майор, – остановил его председатель. – Вы желали только присутствовать при судоговорении… Нет, нет, не уходите! Сидите, сделайте милость. Только сдерживайте немного ваш темперамент. Так что же нам делать, по-вашему? – обратился он к великодушному защитнику русских.
– Мое мнение, – отвечал фон Конов, – осмотреть прежде всего вещи обоих подсудимых, хотя между ними, вперед ручаюсь, ничего подозрительного не найдется.
– Лучше не ручайтесь, – сказал Опалев, нетерпеливо барабаня по столу пальцами. – А далее что же?
– Далее следовало бы все-таки выждать, пока очнется и будет в состоянии дать показания камердинер господина маркиза…
– Самозванного, да. Вы, майор фон Конов, раз приютив у себя этого самозванца, считаете уже вашим священным долгом отстаивать его во что бы то ни стало. Это делает честь вашему сердцу, но в данном случае каждый из нас должен быть не столько сердобольным человеком, сколько примерным солдатом, а солдат, подобно стали своего штыка, своей сабли, должен быть тверд и непреклонен телом и духом.
– И разить сплеча, без разбора и правых, и виноватых – благо подвернулись?
– Вы забываетесь, майор фон Конов! – вспыхнул председатель.
– Прошу извинить меня, господин комендант. Но и над солдатом есть высший – Божий суд. А в столь темном деле, как настоящее, где от случайного большинства голосов pro или contra зависит жизнь и смерть двух ближних, по всей видимости вовсе не злонамеренных, а просто легкомысленных, – я полагаю, не может быть теперь же постановлен по совести правильный приговор.
– Так что же нам делать, по-вашему, с подсудимыми?
– Я предложил бы, впредь до собрания более весомых улик, обоих взять под арест, а все обстоятельства дела препроводить в Стокгольм на уважение верховного военного совета.
Предложение фон Конова вызвало между его товарищами оживленные прения, но в конце концов оно восторжествовало с той модификацией, что ради большей верности вместо простого ареста подсудимые должны были быть заключены в казематы цитадели. Для своего гостя, впрочем, фон Конову удалось выговорить одно облегчение: чтобы его не заковали в железо.
Происходили прения, разумеется, на шведском языке, и поэтому Иван Петрович, стоявший по-прежнему перед своими судьями по ту сторону стола, оставался в неизвестности относительно своей участи, пока председатель неизменно учтиво, но сухо не объявил ему о решении суда.
– Обещаетесь ли вы, mein Herr, – прибавил он, – честным словом дворянина – не делать никаких попыток к побегу?
– А если нет? – вскинулся Спафариев.
– Тогда не взыщите, придется надеть на вас наручники, приковать вас к стене.
– Но я – дворянин!
– Вот потому-то вам и предлагается такая льгота. «Сила солому ломит», – вздохнул про себя Иван Петрович и, скрепя сердце, дал требуемое «слово дворянина».
– Суд удовлетворяется вашим словом, – сказал Опалев. – На всякий случай, однако, предваряю вас, что выбраться из наших казематов немыслимо, так как, кроме тюремного сторожа, который будет приносить вам пищу, при казематах установлен постоянный усиленный караул. За сим, господа, объявляю заседание закрытым.
Сам комендант, по-видимому, был доволен сентенцией суда, которой с него лично слагалась дальнейшая ответственность по этому, как выразился фон Конов, «темному делу». Один только де ла Гарди, потерпевший столько от русских «шпионов» и приложивший столько стараний к поимке одного из них, был разочарован и ушел, ни с кем не простясь, брюзжа и кляня весь свет.
А куда же, спросят читатели, делась главная улика – самодельный план калмыка?
Он был в сохранности. Когда Лукашка, истекая кровью, причалил у Смоляной пристани, из последних сил дополз до ближайшего костра русских смолокуров и начал Христом Богом умолять их куда ни есть его припрятать, те, запуганные недавней нещадной расправой шведов с одним из их земляков, подозревавшимся в измене, стали гнать его вон:







