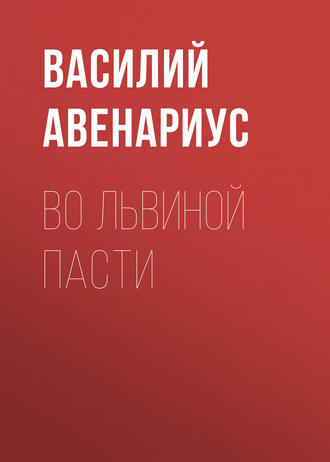
Василий Авенариус
Во львиной пасти
Глава третья
Чу! за белой, душной тучей
Прокатился глухо гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом…
Тютчев
Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч.
Полежаев
Три месяца уже герой наш не имел никаких вестей из надземного мира и постепенно пришел к горькому убеждению, что и бывший гостеприимный хозяин его, майор фон Конов, забыл про него, – когда тот неожиданно навестил его в каземате.
– Простите, mon cher monsieur, – были первые слова фон Конова, – что столько времени не заглядывал к вам; но сейчас после вашего ареста я был командирован в Краков к нашему королю и только вчера поутру возвратился оттуда. Сегодня я воспользовался первой свободной минутой, чтобы узнать, не нуждаетесь ли в чем…
– О, помилуйте! Что человеку еще нужно в этих роскошных палатах? – не без горечи отозвался Иван Петрович и, взяв со стола ночник, посветил им во все углы своего неприютного жилья. – Изволите видеть, тут у меня все: и приемная, и гостиная, и столовая, и спальня, и кабинет – все вместе, необычайно удобно! А темноты и духоты, холода и сырости – сколько душе угодно: хоть сейчас ложись помирай. Господин комендант, грех сказать, заботится о нас, заключенных, как отец родной!
На благородном и ясном челе шведского офицера выступили глубокие складки.
– Радикально изменить заведенные здесь раз порядки, разумеется, не в моей власти, – серьезно проговорил он. – Но против холода и сырости можно будет принять некоторые меры. Хлеба вам, по крайней мере, надеюсь, доставляют в достаточном количестве?
– Голодной смертью, пожалуй, не помру, хотя не ручаюсь: досыта я ни разу еще не наедался.
– Ну, для вас лично мне, может быть, удастся выхлопотать увеличенную порцию. Относительно предоставления вам и другого рода пищи я имел вчера довольно крупный разговор с комендантом. Но он у нас, знаете, большой формалист и ни для кого не допускает изъятий из общих правил.
При этих словах фон Конов случайно заглянул в стоявшую на столе кринку с молоком, и лицо его осветилось довольной улыбкой.
– Эге! Да у вас тут молоко? Каков комендант-то! Ни словом ведь не обмолвился: устыдился своего послабления.
– Это не комендант… – замялся Иван Петрович. – Комендант даже, кажется, не подозревает…
– Ну, так и я тоже ничего не видел, ничего не знаю! Вы, мосье, пожалуйста, не считайте нас, шведов, какими-то выродками рода человеческого. Но законы войны у нас, потомков древних норманских викингов, львов севера, суровее, чем где-либо на юге Европы. Недаром и государственный герб наш изображает прыгающего льва. Не наша вина, согласитесь, что вы попали к нам.
– В львиную пасть? – подхватил Спафариев. – Впрочем, теперь-то я уже не в пасти, а в желудке и могу вас честью заверить, что в желудке этом вовсе не уютно.
– Я с удовольствием вижу, мосье, что прежний юмор не совсем еще покинул вас.
– О-хо-хо! Юмор мой, как выражаются немцы, висельный – Galgenhumor.
– Но он вас все-таки несколько поддержит до лучших дней. Все ведь мы и ваш покорный слуга колодники, но волочим на ногах незримые оковы!
И фон Конов подавил тайный вздох.
– Вы, господин майор, говорите о лучших днях, – продолжал Иван Петрович. – Стало быть, в моем положении есть поворот к лучшему?
– Как вам сказать, дорогой мой?.. Особенно утешительного мало. Судебное следствие о вас, как нам уже известно, препровождено в Стокгольм. Но там не пришли к какому-либо окончательному решению…
– За недостатком улик?
– Не смею вам сказать. Словом, признано было нужным иметь по вашему делу указания свыше. Король же наш в настоящее время, как вы знаете, в Польше, на походе, и ему теперь, конечно, не до нас с вами.
– Так что дело мое ему до сих пор, пожалуй, вовсе и не доложено?
– Когда я уезжал из Кракова, оно только что лишь поступило в походную канцелярию его величества. Сообщение между Швецией и остальной Европой, а также и Ниеншанцем в зимнюю пору так затруднено, что решения вашего вы дождетесь, очень может статься, не ранее открытия навигации.
– Когда меня давно уже зароют на вашем здешнем кладбище! – с сердцем подхватил наш арестант.
– Ну, нет, любезнейший, с вашим цветущим здоровьем вы проживете еще мафусаилов век! – успокоил его добряк-швед, приятельски похлопывая его по спине. – А этакая временная диета после парижских фестивалов вам и вашему плуту камердинеру может быть даже очень полезна. Кстати, Люсьен совсем уже оправился от своей раны.
– А! Сердечно рад, а то я все тревожился за него. И где же он теперь, бедняга?
– Да которую уже неделю переведен из госпиталя сюда же, в казематы. О нем я также позабочусь. Не имеете ли вы, мосье, еще что-нибудь просить меня?
– Имею… Во-первых, все ли здесь, в Ниеншанце, в добром здоровье?
Фон Конов с недоумением уставился на вопрошающего.
– Эге-ге! – догадался вдруг по замешательству, с которым молодой русский опустил перед ним взор. – Вы, верно, интересуетесь почтеннейшей сестрицей нашего коменданта, фрёкен Хульдой? Могу вас утешить: она, как всегда, в вожделенном здравии.
– И… племянница ее тоже?
– Племянница? Что вам до чужой нареченной?
– Да так, знаете…
– По человеколюбию?
– М-да…
– Она тоже, кажется, здорова. И чего вы краснеете, друг мой? Дело доброе: тетушка давным-давно ждет уже суженого, и рука ее, слава Богу, еще свободна.
– А скоро свадьба?
– Почем мне знать, на чем вы с нею порешили?
– Нет, без шуток, господин майор: когда свадьба фрёкен Хильды? – не отставал Иван Петрович, которого безобидное подтруниванье фон Конова еще пуще вогнало в краску.
Тот лукаво погрозил ему пальцем.
– Молодой человек, ах, молодой человек! Впрочем, в этаком одиночном заключении надо тешиться хоть несбыточными мечтами. И потому до времени вы можете спать спокойно: по настоянию самой фрёкен Хильды свадьба ее отсрочена до мая месяца. Хе-хе! Смотрите-ка, как юноша наш вдруг пионом расцвел! Ну-с, это было во-первых. А во-вторых?
– Во-вторых… Вы, господин майор, надеюсь, не сочтете этого государственной тайной…
– Что именно?
– А то, насколько успешны были в последнее время здесь, на Неве, действия моих земляков, русских, против вас, шведов?
Лицо балагура-майора сделалось разом опять серьезным, и он окинул любопытствующего подозрительным взглядом.
– Вам сторож ваш, верно, что-нибудь уже выдал? – проговорил он.
– Ей-Богу, ничего: он же финн, лопочет только на своей тарабарщине и за четверть года времени, кроме «п-ш-ш-ш!», я не слышал от него ни одного членораздельного звука.
– И никто другой за все это время не навестил вас в каземате?
– Ни единая живая душа. Впрочем, виноват: не так давно заблудился ко мне глупый мышонок, но, убедившись, видно, что с меня взятки гладки, тотчас опять откланялся. Так что же, господин майор, наш царь Петр? Уж не одержал ли он над вами победы?
Швед, нахмурясь, медлил с ответом.
– Да чего же вы стесняетесь? – еще настойчивее приступил к нему молодой русский. – Ведь весь Ниеншанц, без сомнения, уже знает, в чем дело. И я, когда меня выпустят отсюда, тотчас узнаю. Но когда-то это будет? Может быть, через полгода? А до тех пор томись неизвестностью! Будьте же великодушны, войдите в мое сиротское положение: сижу я, как крот, вот уже четвертый месяц под землей, понятия не имею о том, что творится у вас там наверху, на свете Божьем. А от вас одних пока между всеми шведами, могу по совести сказать, я видел вполне беспристрастное, человеческое отношение ко мне. Ужели же вы не будете так же человечны до конца? Или же я чем-нибудь навлек на себя теперь вашу немилость?
– О нет…
– А коли нет, так почему бы вам не ободрить несчастного доброй весточкой? Вас оттого ведь не убудет? Я прекрасно понимаю, что вам, как шведскому патриоту, это нелегко. Но вот я каждое утро час-другой читаю евангелие и многие страницы знаю уже наизусть. Вам, как истинному христианину, конечно, небезызвестно также основное учение нашего общего Христа Спасителя: «Любите врагов ваших». Утешьте же врага! Лично ведь ни вы мне, ни я вам не враг, мы – люди-братья…
Слова нашего русского задели в благородном сердце шведа самую отзывчивую струну – братское чувство.
– Вы слышали, мосье, разумеется, про нашу крепость Нотеборг? – с видимой неохотой начал фон Конов.
– А по-нашему Орешек? На Ладоге, при истоке Невы? Как не слышать: некогда ведь она принадлежала новгородцам. Так что же?
– Царь Петр осадил и… взял ее. Спафариев набожно перекрестился.
– Слава Всевышнему! Баша чудесная новость искупает все, что я вытерпел здесь до сегодня! Позвольте, господин майор, братски расцеловать вас!
– Хорошо, хорошо… – говорил фон Конов, высвобождаясь из непрошенных братских объятий.
– Но как же, скажите, государю удалось-таки взять эту сильную крепость? – продолжал допрос свой Иван Петрович. – Раз начали, так и закончите, не томите, Бога ради!
Немного помолчав, как бы раздумывая, тот приступил к обстоятельному рассказу:
– В сентябре месяце окольничий ваш Апраксин успел укрепиться на берегах реки Назьи, верст тридцать от Нотеборга, возвел там кронверк с барбетами и рвом… А в двадцатых числах прибыли в его лагерь царь Петр из Архангельска и фельдмаршал Шереметев из Пскова. Оттуда они двинулись на Нотеборг; причем, слышно, за неимением лошадей всю артиллерию везли на людях. Из Онежского озера рекою Свирью между тем провели к ним в Ладогу изрядное число больших беломорских лодок – карбасов. А когда наши батареи из Нотеборга да из небольшого шанца, который мы наскоро возвели на другом берегу Невы, стали их обстреливать, чтобы не пропустить их в Неву, русские прибегли к хитрости: до полусотни судов проволокли сухим путем через лес и топь с Ладоги в Неву, посадили на них команду в тысячу человек, переправились на тот берег к шанцу и…
– И взяли его? – досказал Иван Петрович, слушавший рассказчика с затаенным дыханием.
– Взяли…
– Без выстрела?
– Н-нет… после залпа.
– После одного залпа?
– Да…
– Ай да молодцы! Знай наших! Простите, господин майор! Но вы поймете мои чувства. А самая крепость-то в это время была уже в осаде?
– Да, к ней делались русскими апроши и устанавливались против нас орудия. Когда же первого октября взят был на том берегу наш шанц, Шереметев тотчас прислал к нотеборскому коменданту Шлипенбаху трубача с письмом…
– Почему же Шереметев, а не сам государь?
– Потому что царь ваш поставил себя под начальство фельдмаршала и сам числится у него только бомбардирским капитаном.
– И что же стояло в том письме?
– Чтобы крепость сдалась, так как пути к ней отовсюду отрезаны. Но Шлипенбах, понятно, без разрешения высшего начальства не смел принять предложения и просил отсрочки на четыре дня, чтобы снестись с начальником своим, генералом Горном, в Нарве.
– И чтобы оттуда тем временем подоспел сикурс? Расчет тонкий! Но Шереметев, конечно, не поймался на удочку?
Фон Конов вспыхнул и насупился.
– У Шлипенбаха едва ли была такая задняя мысль, – сказал он. – За самовольную сдачу своей крепости он, как комендант, подлежал бы полевому суду.
– Так что же отвечал ему фельдмаршал?
– Отвечал он залпом из всех орудий и не прекращал бомбардировки до самого приступа.
– А! Так наши тогда же пошли на приступ?
– Нет, Шлипенбах храбро держался еще почти целых две недели, хотя от русских бомб город внутри не раз загорался и положение жителей было самое отчаянное. На третий тень госпожа Шлипенбах, супруга коменданта от себя и от имени всех офицерских жен отправила к Шереметеву барабанщика с письмом, умоляя выпустить их из горящего города, но напрасно.
– Как? Шереметев, этот известный дамский галан, не склонился на дамскую просьбу?
– Он-то, может быть, и склонился бы. Но, на беду их, Шереметев был, говорят, в отлучке, в обозе, и за него отвечал сам царь, бывший в то время на батареях. Отвечал не по-европейски, признаться, а чисто по-солдатски, шутливым отказом: он-де, капитан Преображенского полка бомбардирской компании, не желает попусту времени терять посылкой той петиции к фельдмаршалу в обоз, ибо вперед ведает, что фельдмаршал не пожелает «опечалить их разлучением», а буде все-таки хотят выбраться из города, так «изволили б и любезных супружников вывесть купно с собою»[11].
– Да, царь Петр Алексеевич у нас тоже юморист и не прочь при случае отпустить крепкую шутку, – заметил Иван Петрович. – А на штурм, говорите вы, он повел своих только через две недели?
– Да, одиннадцатого октября. Ранним утром, скоро после полуночи, от ваших бомб в городе опять загорелось. Пожар все разрастался, так что для потушения огня коменданту пришлось многих защитников отозвать от крепостных стен. Этим-то и воспользовались русские, чтобы штурмовать крепость. Но лестницы их на полторы сажени не доставали до стен, а бреши, которые между тем пробиты были русским ядрами в двух башнях и в куртине, защищались гарнизоном так отчаянно, что ваши охотники несколько раз отступали с большим уроном. Бой на жизнь и смерть длился ровно тринадцать часов, пока одна половина гарнизона не была перебита, а другая изнурена до упада. Вам, мосье, я полагаю, едва ли доводилось присутствовать при таком бое?
– К сожалению, не имел случая.
– Не сожалейте! Нападающие, озлобленные упорным сопротивлением, обращаются в кровожадных диких зверей, а храбрые защитники при виде неминуемой гибели превращаются в подлых трусов и совершенно теряют голову, как безначальное стадо баранов. Довольно одному из них крикнуть «Спасайтесь! Сдаемся!», чтобы в общей панике все побросали знамена и оружие. Кто кидается стремглав с вала в глубокий ров и тут же тонет, кто бежит без оглядки куда глаза глядят, а кто и прямо навстречу врагам и молит о пощаде… Позор, позор!
Перед внутренним взором фон Конова, должно быть, восстала воочию описываемая им постыдная картина, потому что, понурив голову, он замолк.
– И комендант Шлипенбах в конце концов сдался? – прервал Спафариев его тяжелую думу.
– А что же ему оставалось? Он выслал царю Петру свои акордные пункты. И царь отнесся к побежденным, надо сознаться, довольно снисходительно, без дальнейших разговоров подписал акорд, а два дня спустя уцелевший гарнизон мог беспрепятственно удалиться из крепости сюда, в Ниеншанц, с четырьмя пушками, с распущенными знаменами, с барабанным боем и с пулями во рту.
– «Лежачего не бьют», наша русская пословица, – вставил Иван Петрович.
– А я так думаю, что царь хотел только отдать этим последнюю дань нашей храбрости! Сам он, кажется, был бесконечно рад своему первому крупному успеху. Передают такой каламбур царя: «Зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен». Впрочем, он не оставил уже крепости прежнего русского названия Орешек, а переименовал ее в Ключ-город, – Шлиссельбург и собственноручно прибил ключ к крепостным воротам.
– Так он, верно, считает эту крепость ключом к Балтийскому морю, а стало быть, и в Европу?
– Должно быть, что так. Но в этом он сильно ошибается! – воскликнул фон Конов и затуманенный взор его загорелся огнем. – Ключ к морю – здесь, при устье Невы, в Ниеншанце, но Ниеншанца нашего мы ему никогда не отдадим, и мимо мы его точно так же никогда не пропустим.
– Так вы, дражайший мой, не знаете еще царя Петра! – возразил Иван Петрович. – Начав что-нибудь, он уже на полпути, поверьте мне, не остановится. Да вот что, ради смеха, хотите, побьемтесь об заклад: не пройдет года, как Ниеншанц будет в русских руках.
Черты шведа опять омрачились.
– Такими вещами, мосье, не шутят, – промолвил он дрогнувшим голосом. – Дай мы русским в самом деле стать твердой ногой на Балтийском берегу, мы этим самым уступили бы им половину нашей политической роли в Европе. Да что теперь попусту спорить! Не нам с вами, милый мой, вершить судьбы Европы.
– А царь наш, скажите, теперь все еще там же, в Нотеборге… то бишь в Шлиссельбурге?
– Нет, он вернулся, слышно, зимовать в Москву, в крепости же оставил губернатором своего любимца Меншикова.
– А Нева когда у вас вскрывается ото льда?
– Иногда уже в конце марта, но чаще в средних числах апреля.
– Ну, так в середине апреля непременно ждите к себе – если не царя, так Меншикова с визитом из Шлиссельбурга!
Восторженная уверенность молодого русского в своего царя если и не поколебала веры шведского офицера в силу ниеншанцских батарей, то задела его несомненно за живое.
– Добро пожаловать! Но встретим мы непрошенных гостей уже не шведской бовлей, а шведской картечью! – промолвил он, гордо вскидывая голову; затем, как бы уже нехотя, протянул заключенному руку: – Однако пора! Если я в ближайшее время не навещу вас снова, то так и знайте, что я в отлучке: мне, вероятно, очень скоро придется ехать опять с депешами в Варшаву. Будьте здоровы!
Надо ли говорить, что тотчас по уходе фон Конова обо всем слышанном от него Иван Петрович поспешил передать через стену своему камердинеру. И как же оба воспрянули духом! Ведь теперь их манила впереди вполне сбыточная надежда – вырваться на свет и на воздух из своего ненавистного гроба. А благодаря, конечно, настоянию фон Конова, и самое пребывание их в гробу стало несколько сноснее: сырой земляной пол около их постелей был устлан обоим досками, обоим была подостлана свежая солома, а господину, сверх того, была доставлена подушка (набитая, впрочем, не перьями, а сеном) и совершенно новый арестантский халат. Наконец, обоим же была увеличена на половину арестантская порция хлеба.
В рождественский сочельник молчаливый тюремщик внес в келью Ивана Петровича маленькую елочку, усаженную десятком восковых свечей и увешанную разными сластями: яблоками, медовыми пряниками, гирляндой из изюма и золотыми орешками. Это, очевидно, было уже не от фон Конова, который со времени единственного своего визита как в воду канул. (Как оказалось впоследствии, он действительно был вновь командирован к королю Карлу XII и до конца апреля там задержан.)
– Фрёкен? – спросил Спафариев сторожа.
Тот угрюмо покосился только на арестанта, прошипел свое неизменное «п-ш-ш-ш!» и оставил его опять одного. Что маленькая фрёкен все же помнит об нем, не могло, разумеется, не тронуть Ивана Петровича. Когда же он зажег на нарядной елочке свечки, тогда в могильной атмосфере подземелья распространился аромат смолистых елочных игл и воска, – одиноком молодому человеку несказанно вдруг взгрустнулось и на глаза его навернулись слезы. А тут тоненькие свечки уже догорели, и могила его погрузилась в прежнюю безотрадную темноту…
Какая-то безотчетная, вовсе необычная у него застенчивость не позволила ему поделиться с Лукашкой своей грустной радостью, впустить его, непосвященного, в святая святых своего сердца. Точно так же и четыре месяца спустя, в двадцатых числах апреля месяца следующего 1703 года, он ни словом не намекнул своему слуге о том, что сторож доставил ему душистый букет первых весенних фиалок, который арестантом нашим был не только поднесен к носу, но и прижат несколько раз к губам.
Зато еще немного дней – и оба одновременно застучали друг к другу в стену. Да и было от чего: сверху, из надземного мира, донесся к ним глухой, громовой гул, от которого врытые в землю стены казематов в основах своих задрожали. А вот еще и еще.
«Слышишь, Лукаш? – спросил господин. – Ведь это царь наш бомбардирует Ниеншанц!»
«Он! Он! – отвечал слуга. – Это его царский клич. Теперь-то нам грех не откликнуться. У меня уже сложен некий гексенмейстерский прожектец – поджечь цитадель, а самим в суматохе бежать».
«Ничего из твоего прожекта не выйдет!»
«Почему?»
«Потому что я его не одобряю».
«Но ты выслушай сперва, сударь…»
«И слышать не хочу. Покуда я еще твой господин и с моего согласия ты ни на ком здесь, в цитадели, волоска не тронешь».
«Из-за маленькой фрёкен?..»
«Молчать! И как бы охотно я сам ни выбрался из этой проклятой ямы, но в слове своем я тверд и буду ждать: рано ли, поздно ли, государь нас все равно вызволит».
«Но меня-то, голубчик барин, по крайности, не держи».
«Да на что тебе торопыга?»
«Ну, не сидится, да и вызнаю хоть там, как да что. Благослови, сударь, пусти!»
И барину в конце концов ничего не оставалось, как «благословить» торопыгу.
Глава четвертая
Влез коню в одно ушко, вылез в другое и сделался таким молодцом, что и братьям не узнать! Сел на коня и поехал.
«Сказка про Сивку-Бурку»
По требованию своего господина вынужденный отказаться от одной части своего «гексенмейстерского прожектца» – поджечь цитадель, Лукашка тотчас приступил к исполнению другой части: нарвал из парусинной подкладки своего арестантского халата несколько полос и свил из них крепчайшую веревку. Но этим пока и ограничились все его приготовления к побегу. Хотя он мог свободно снимать со своей ноги цепь, которой его приковали к стене, но выбраться за дверь своей камеры ему, во всяком случае, нельзя было ранее следующего утра, когда к нему должен был войти опять тюремщик.
Чтобы как-нибудь не проспать, калмык во всю ночь почти глаз не сомкнул и долго еще до урочного часа был на ногах; сгреб солому на постели удлиненною кучей наподобие лежачего человека и сверху накрыл ее халатом; после чего принялся шагать взад и вперед по каземату, то хмурясь, то лукаво про себя ухмыляясь и выделывая руками и ногами такие необычайные движения, что посторонний наблюдатель мог бы счесть его либо за свихнувшегося с ума, либо за клоуна. А дело было просто в том, что по-прежнему гудевшая над головой его канонада не давала ему ни прилечь, ни присесть, и почва горела у него под ногами.
Наконец-то по наружному коридору послышалась знакомая шаркающая поступь увальня сторожа и загремели ключи… Лукашка отскочил к стенке около двери и притаился. Он явственно чувствовал, как сердце в нем толкается в ребра.
Массивная железная дверь тяжело растворилась и так же тяжело опять затворилась. Войдя со света в полупотемки подземелья, тюремщик, естественно, принял лежавшую на постели, накрытую халатом, неподвижную массу за спящего арестанта. Поэтому он преспокойно направился к столу. Но едва только он сбыл с рук каравай хлеба и кувшин с водой, как был схвачен за горло и повален ничком на постель.
– Не взыщи, дружище, но чуть ты пикнешь, так я тебе цепью башку размозжу, – говорил вперемежку по-фински и по-русски Лукашка, коленкой прижимая ему спину, а пятерней так крепко стискивая ему горло, что бедняга даже захрипел. – Минуточку терпения, душенька, – продолжал калмык, свободной рукой свертывая комок соломы. – Ишь ты, каторжный! Чего голову-то гнешь, что кобыла к овсу? Ну, так. Открой-ка ротик, но чур – не кричать!
Сторож, человек еще не дряхлый, но болезненный и тщедушный, хорошо понимал, видно, что с отчаянным молодым парнем ему все равно не сладить, и покорно дал заткнуть себе соломой глотку.
– Теперь, королевич мой, разоболакивайся. Да ну тебя, поворачивайся, что ли! Некогда мне с тобою бобы разводить.
Разоблачаться в таком положении – лежа на животе да с здоровым парнем на плечах – была задача далеко не легкая. Но при помощи Лукашки она была-таки наконец решена.
– Не бойсь, голубушка, не замерзнешь: сейчас одеяльцем накроем. Локти назад!
Скрутив ему самодельной веревкой локти, калмык свободным концом той же веревки хорошенько привязал его к висевшей над постелью цепи и накинул на него свой арестантский халат; затем сам живой рукой нарядился в казенную форму тюремщика, с которым был приблизительно одного роста, нахлобучил себе на брови его засаленную треуголку и вооружился его тюремными ключами.
– Ну, jumaa haltu! (Храни тебя Бог!)
И, последним прощальным взглядом окинув мрачное подземелье, в котором он изнывал более полугода, он осторожно толкнул дверь и с оглядкой вышел в коридор. Пушечные выстрелы долетали сюда еще слышнее и отвлекли, должно быть, из казематов дежурного часового, по крайней мере, его нигде не было ни видать, ни слыхать.
Замкнув за собою на всякий случай дверь ключом, Лукашка взял не налево, где светилась выходная лестница, а направо по коридору, где лежала камера его господина.
Со времени своего заключения в каземате Спафариев поневоле совершенно изменил прежний образ жизни. Большую часть дня он проводил лежа в полудремотном состоянии на своей постели и просыпался поутру довольно рано, – может быть, отчасти и потому, что под утро пустой желудок начинал слишком настоятельно заявлять о своей пустоте. Так-то и в описываемое утро Иван Петрович поднялся спозаранку и не без удовольствия прихлебывал к арестантскому хлебу свежего молока, когда услышал в дверном замке какой-то странный хруст, словно кто-то снаружи хотел да не умел попасть ключом в скважину замка.
«Подвыпил, что ли, патрон мой, аль со страха руки трясутся? – подумал он, сердито оглядываясь на дверь, которая теперь со скрипом растворилась. – И чего ему еще нужно?»
А тот, как всегда шаркая по земле и хрипло покашливая, приблизился к нашему арестанту и отдал ему по-солдатски честь.
– Huwa paiwa, herra! Mita kulu? (Здорово, сударь! Как поживаешь?) Хлеб да соль.
Тут только при слабом мерцании ночника Иван Петрович пристальнее вгляделся в лицо вошедшего и с радостным криком вскочил со скамьи.
– Pardieu! Lucien! Ты ли это или двойник твой?
– Двойник-с. Подлинный Люсьен все еще тут, рядом на цепи и за тремя замками, – отвечал калмык, почтительно целуя руку барина.
Но Иван Петрович обнял камердинера и накрест трижды облобызался с ним.
– Этак-то лучше, – сказал он. – Но я тебя, братец, в толк не возьму: коли ты двойник Люсьена, то кто же подлинный?
– А наш тафельдекер. Больно уж ему моя арестантская хламида приглянулась. По старой дружбе я уступил ее ему да кстати уж и самого на цепь посадил.
Спафариев громко расхохотался.
– Ах ты, шут гороховый! Без проказ ни на час.
– П-ш-ш-ш! – зашипел на барина Лукашка шипом тюремщика. – Ты сударь, маленько полегче закатывайся, у стен есть уши.
– Что уши-то есть – не беда, – понижая голос, отозвался Иван Петрович, – а что и язык есть – вот горе. Да чего ты это кафтан-то сымаешь?
– А чтобы и тебе было во что обрядиться. Сам-то я как-нибудь проскочу: где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках.
– Спасибо тебе, Лукаш, но все одно как ваша братия от крестного целования не попятится, так и наш брат дворянин от своего дворянского слова.
– Да ты, сударь, хоть бы взглянул на себя, совсем, поди, извелся тут на арестантских харчах!
– А мне это только к авантажу: тем стройнее в талии стану.
– Ну, милый барин…
– Отстань, змий искуситель! Plus un mot! (Ни слова более!)
– В рай за волоса не тянут! – покорился камердинер. – А меня, стало, на убег благословляешь?
– Да ведь тебя все равно не удержишь? Только рожей ты в нашего тафельдекера не вышел: бородку себе отпустил.
– А с нею мы в момент покончим. Борода ли ты моя бородушка, краса ли ты моя молодецкая! – с комическою кручиной вздохнул он, проводя ладонью по подбородку, где пробивалась юношеская курчавая поросль. – Не цвести тебе с цветочками весенними, расцветешь, даст Бог, с цветочками осенними!
И, взяв со стола горящий ночник, он решительно поднес его к своему подбородку.
– Что ты делаешь?! – успел только вскрикнуть Иван Петрович.
Но дело было сделано: бородка вспыхнула, а вслед затем пламя было уж потушено рукою, – «красы молодецкой» как не бывало.
– Фу! И начадил-то как, – говорил, морща нос, успокоившийся барин. – Разве не горячо? Ведь вон, смотри: весь подбородок себе опалил, пузыри даже вскочили!
– Да, тепленько было, – с невозмутимой веселостью отвечал опаленный. – Зато на небритого тем паче схож.
– Да по лицу тебя все же сейчас узнают.
– А чтобы не опознали, загримируемся. На домашних спектаклях ты, сударь, бывало, не раз ведь малевал актеров. Так услужи, размалюй меня!
– Без кисти и красок?
– За этим дело не станет.
Живо скатав из мякиша лежавшего на столе хлеба мазилку, Лукашка накоптил ее на дымящемся ночнике и затем преподнес своему господину:
– Voila, monsieur!
– Попытаемся, – сказал Спафариев. – Да чего ты еще стоишь-то? Садись и глазом не моргни.
Привычною рукой он стал расписывать лишенное теперь своей растительности лицо камердинера. Через пять минут круглолицый юноша-калмык превратился в морщинистого брюзгливого финна.
– Кажись, похож, – не без самодовольства заметил художник, отступая на шаг назад, чтобы лучше обозреть свою работу.
– Paljon kitoksi, huwa herra! (Покорно благодарю, добрый господин!) – процедил сквозь зубы Лукашка, кряхтя, как бы с болью в пояснице, приподнялся со скамейки и забренчал ключами.
– Как есть наш тафельдекер, две капли он! – потешался Иван Петрович. – Ну, с Богом!
– А не будет ли мне от твоей милости на дорогу какого поручения?
– Нет, ничего… Впрочем, да: если бы тебе случилось встретить фрёкен Хильду… Но ты вряд ли ее встретишь…
– Да не она ли уж благодетельница твоя, а не майор фон Конов? – тотчас догадался сообразительный калмык. – От нее, небось, и ночник, и евангелие, и молоко парное?
– От нее, – отвечал господин и, чтобы как-нибудь скрыть свое смущение, кивнул на кринку с молоком. – Не хочешь ли отведать?
– Не откажусь, чай, и вкуса уже на знаю. За здоровье глаз, что пленили нас!
Приложившись к кринке, Лукашка не отнимал ее от губ, пока совсем ее не опрокинул.
– Вкуснее, поди, шампанеи! Так поблагодарить, значит, и доложить, что навела, мол, тоже сухоту на сердце молодецкое?
– Перестань вздор болтать! – резко и нахмурясь перебил Спафариев. – Поблагодари за все: и за елку, и за фиалки…
– За елку?
– Ну да, в рождественский сочельник мне доставили елку, а третьего дня прислали вот этот букет фиалок.
– А я в потемках-то, прости, и не углядел, – сказал Лукашка, бережно беря в руки лежавший на столе, уже завядший букетец. – Сердце сердцу весть подает.
– Оставь, не тронь! – сердито прикрикнул на него Иван Петрович, вырывая у него из рук драгоценный букет. – На людях, дурак, смотри, тоже не брякни!
– Дурак-то я дурак, да все же не круглый. И ее-то, голубушку, жалко: тоже, поди, в разлуке мочит подушку горючими слезами.
Барин притопнул даже ногою на неугомонного.
– Замолчишь ли ты наконец, болтун и пьеро! Скоро ли уберешься?
– Так отдать только поклон и из двери вон? А дверь-то я на всяк случай не замкну: авось, все же не утерпишь взаперти. Jumala haltu, herra!







