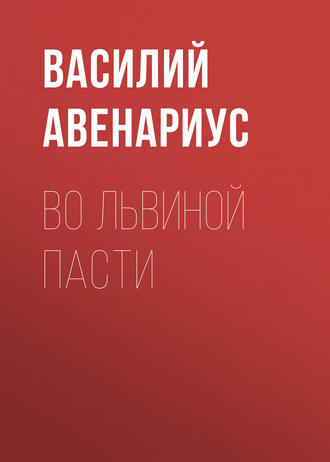
Василий Авенариус
Во львиной пасти
Глава четырнадцатая
Скотинин.
Хочешь ли ты жениться?
Митрофан (разнежась).
Уж давно, дядюшка, берет охота…
Фонвизин
Падает звездочка с неба,
С яркой своей высоты…
Долго ли, звездочка счастья,
В небе мне теплилась ты?
Гейне
В полдень следующего дня, 8 мая, жители Ниеншанца были вновь встревожены громовым раскатом из крепостных орудий. Но то палили уже не шведские, а русские канониры, и пальба их была не боевая, а торжественный салют царю-победителю. Вверх по течению Невы к Ниеншанцу триумфальным шествием двигалась целая флотилия, хотя и на разобранных парусах, там и сям только наскоро починенных, но расцвеченная по всем снастям разноцветными флагами: впереди шнява «Астрильд», на носу которой стоял Петр, на целую голову возвышаясь над окружающей малорослой свитой; за «Астрильдом» – адмиральский бот «Гедан», на корме которого виднелся Меншиков среди своего штаба; а за «Геданом» – длиннейший хвост победоносных царских карбасов с молодцами-преображенцами и семеновцами.
Иван Петрович вместе со своим камердинером находился на палубе «Гедана» и, опершись локтями на борт корабля, с какой-то особенной зоркостью вглядывался в пеструю толпу горожан, высыпавшую на городскую набережную. Но того или той, кого он высматривал, по-видимому, не было в числе любопытных, потому что лицо его все более омрачалось и из груди его вырвался вздох.
– О чем это, батюшка-барин? – спросил стоявший около него Лукашка. – Все вот радуются царской радости, а ты один вздыхаешь? Аль досадуешь, что его эксцеленция о сю пору и в ус не дует, спасибо тебе даже не скажет? Жди благодарности от этих роскошных царедворцев!
На этот раз калмык взвел напраслину на «роскошного царедворца». Будто что-то вспомнив, тот отделился вдруг от своих офицеров и со всегдашней своей изящно-самоуверенной осанкой, но покровительственно улыбаясь, приблизился к Ивану Петровичу. Лукашка хотел было отретироваться, но Меншиков задержал его: «Постой!» – и высыпал ему на ладонь из кошелька горсть золотых.
– За труды твои.
Затем, кивнув головой, что может идти, повернулся к его господину:
– Что насморк твой после вчерашнего купанья?
– Благодарю, ваша эксцеленция, прошел.
– Клин клином, значит? Ну-с, сударь мой, долг платежом красён. Ты меня вчерась дважды от гибели спас, а я тебя нынче сухого из воды вытащил: его величество замыслил было по возврате в Шлотбург учинить тебе экзамен в морской науке…
– Господи, помилуй! – ахнул Спафариев. – За всю зиму в казематном заточении у меня и книжки-то, окроме святого писания, в руках не было.
– Не полошайся, друг мой. Государю и без тебя теперь не обобраться всяких дел. По моему представительству испытание тебе отсрочено на шесть недель, дабы дать тебе подзубрить забытое. Смотри же, поналяг.
– Несказанно обязан вашей эксцеленции! Поналягу. Но так как вы уже столь добросердны, – продолжал ободрившийся молодой человек, озираясь по сторонам и понижая голос, – то у меня был бы еще одна усерднейшая просьбица…
– Знаю! – прервал Меншиков. – Отдать тебе мои лосиные рога? Изволь, возьми.
– Глубоко благодарен, но…
– Так у тебя еще что на душе?
– Одно бы словечко только вашей милости…
– Перед государем?
– Нет-с, перед… полковником Опалевым, бывшим здешним комендантом.
– Вот на! Какие же у тебя с ним еще счеты?
– Да изволите видеть… Дело весьма деликатного свойства… Мне не выйти бы живым из моего гроба, кабы не дочка комендантская, ангельское создание…
– Э-re-re! Да у тебя, я вижу, марьяж на уме, и меня же сватом засылаешь?
– Будьте благодетелем, ваша эксцеленция! Родитель ее – заклятый враг русских и за русского человека добровольно ни за что бы не выдал дочки, а тут у него еще персональная злоба на меня, и стережет он дочку оком Аргуса.
– А насчет сантиментов самой девицы ты досто-должно информирован?
– Знаю, по крайней мере, что по ее благорасположению мне каждое утро кринка парного молока доставлялась, что она же прислала мне евангелие, в рождественский сочельник елку, а с первой весной букет благовонных фиалок.
– Аргументы сильные. А главное, что – собой хороша? Да что и спрашивать: «ангельское создание!» Только раздумал ли ты, друг любезный, что женитьба есть, а разженитьбы нет?
– Вечно холостым быть, ваша эксцеленция, надоест тоже.
– Холостому-то «ох-ох!», а женатому «ай-ай!» Ведь она, не забудь, чужестранка, и на Руси у нас ей, чего доброго, не ужиться, все на родину к своим тянуть станет.
– Ваша эксцеленция! – взмолился Иван Петрович. – Была бы любовь да совет…
Меншиков рукой махнул.
– Ну, для тебя, я вижу, резонов уже нету, а расквитаться все равно надо. Родитель ее – Иоганн, Иван, а ее как?
– Фрёкен Хильда.
– Хильда Ивановна? Так нынче же купим на Хильду Ивановну добрую шелковую плетку.
– Плетку!
– А то как же? По обычаю, сперва легонько постегаем молодую, а там вручим плетку мужу, чтобы жена говернамента в доме не взяла.
И, самодовольно усмехнувшись своей шутки, вельможный сват отошел от жениха, потому что с «Астрильда» уже перебросили на берег сходни, а «Гедан» только что причалил рядом с ним.
На берегу государь был встречен всем местным православным духовенством и депутацией от горожан, по прибытии же в лагерь – всем наличным войском, которое с восторженным «ура!», с музыкой и барабанным боем трижды продефилировало мимо царя. Затем начались сборы обезоруженного и поставленного, как уже сказано, за палисады по берегу Невы шведского гарнизона, который на следующий день отпускался в Выборг. Опалев лично заправлял расстановкой и нагрузкой фур, предоставленных в распоряжение шведов; Меншикову же и нескольким его офицерам были вынесены стулья к палисадам, откуда они могли на покое наблюдать за действиями шведов.
Наблюдать издали за ними или, вернее сказать, за одним только Опалевым и Иван Петрович, который не мог дождаться, когда Меншиков вступит наконец в секретные совещания с непреклонным отцом фрёкен Хильды.
Ага! Вот оно: Опалев подходит с сухим поклоном к Меншикову. Судя по жестам, по выражению лица, он требует повидаться в городе с дочерью. Меншиков в свою очередь с отменной вежливостью также о чем-то просит – без сомнения, познакомить его с красавицей-дочерью господина полковника. Последний, по-видимому, не совсем охотно, но все же снисходит на просьбу. По знаку Меншикова к ним подкатывает «приватная» рессорная коляска его эксцеленции, почти всюду следовавшая за ним на походе и стоявшая уже опять наготове, и оба недавних врага дружелюбно усаживаются в ней рядом.
«И как это у меня тогда язык не повернулся признаться, что у нее есть уже жених, выбранный самим родителем! – мучился Иван Петрович запоздалыми угрызениями совести, глядя вслед отъезжающим. – Но Меншиков, пожалуй, отказал бы тогда в своем содействии. Ну, заварил же я кашу! Как-то расхлебаю?»
А расхлебывать ее пришлось ему не далее как через полчаса, когда прибежавший за ним вестовой потребовал его к Меншикову.
– Путаник ты, путаник! Спасибо, удружил! Несмотря на укоризненный тон высокого свата, по сквозившему в живых глазах, в подвижных чертах его лукавому выражению «путанику» нашему нетрудно было догадаться, что тот вовсе не так уж разгневан, а хочет только потомить его немножко.
– Ежели я кое-что, может, и не досказал либо перепутал, – начал оправдываться Иван Петрович, – то единственно от сердечного конфуза и амбара, и ваша эксцеленция не поставит мне сего в чрезмерную вину…
– Да меня-то, мусье, скажи, пожалуй, за что ты в конфуз и амбара ввел?
– Чем-с? Не томите, ваша эксцеленция, скажите напрямик: согласна она или нет?
– Напрямик? Изволь: она не долго поломалась, но с братом ее мне порядком пришлось повозиться.
– С отцом ее, хотите вы сказать?
– Нет, с братом, потому что фрёкен Хульда приходится ему не дочерью, а сестрою.
– Но речь же у нас, Бог ты мой, не о фрёкен Хульде, а о фрёкен Хильде? – возражал Спафариев, у которого от какого-то ужасного предчувствия сердце захолонуло и на лбу проступил холодный пот.
– Такой и нет вовсе: есть fru kommercerodinna Frisius, рожденная froken Hilda Opaleff.
Иван Петрович совсем обомлел.
– Ваша эксцеленция изволите издеваться надо мною? – пролепетал он.
– И в мыслях не имею. Со вчерашнего вечера она самым законным образом повенчана с здешним первым толстосумом, коммерции советником Фризиусом.
Бедный молодой человек схватился за голову, точно она могла сбежать у него с плеч.
– Да тебе-то о чем тужить, друг мой? – с притворным участием заговорил опять Меншиков. – На твою ягодку покуда иных претендентов не заявилося. Правда, выбору твоему нельзя не подивиться. Но на вкус и цвет товарищей нет.
– Ваша эксцеленция о какой еще ягодке говорите?
– Как о какой? Все о той же фрёкен Хульде. Ягодка, конечно, не первой молодости, но тем с твоей стороны достохвальней…
– Да об ней у меня никогда и думано не было!
– Вот на! Ведь чем, скажи, твое сердце так пленилось: парным молоком, елкой да фиалками?
– Да-с.
– Ну, а те посылались тебе почтеннейшей фрёкен Хульдой. Племянница о том и знать не знала.
Ивану Петровичу сдавалось, что его спустили с лучезарных заоблачных высей кувырком на темную, пыльную землю.
– Но на полотенце ее стояли литеры Н.О., то есть «Hilda Opaleff»? – пробормотал он, хватаясь, как утопающий, за соломинку.
– A «Hulda Opaleff» ты изобразил бы какими литерами? – спросил Меншиков, которого немало, казалось, потешало душевное смятение молодого человека. – Вижу я теперь, сударик мой, что ты маленько маху дал: борова за бобра купил. Но коли на то пошло, то от борова в хозяйстве даже больше проку. Фрёкен Хульда уже не ветреная юница и тебе, ветрогону, подпешит крылья, добра же за нею, движимого и недвижимого, вдвое, слышь, противу племянницы…
– Да на что мне ее добро, когда своего-то девать некуда! – вскричал Спафариев в полном уже отчаянии. – Смилуйтесь надо мною, ваша эксцеленция: развяжите меня с нею!
– Что ты, батенька? Сватался-сватался да и спрятался? И меня-то, скажи, свата своего, в какую позитуру перед нею поставил? Натворил бед – неси и ответ.
У Ивана Петровича проступили на ресницах слезы; он безнадежно поник головой и, вынув платок, принялся усиленно сморкаться. Чтобы не выдать своей веселости, Меншиков говорил до сих пор отрывистым, ворчливым тоном, с насупленными бровями и покусывая губы. Доведя молодчика до слез, он достиг, чего желал, и расхохотался.
– Фофан ты, фофан! В рай за волоса не тянут. Развяжу я тебя, так и быть, но под одним уговором.
– Под каким угодно, ваша эксцеленция! – встрепенулся Иван Петрович, поспешно отирая глаза.
– Фрёкен Хильду, – то бишь коммерции советницу, – как фантом, ты выкинь навеки уже из головы.
– Трудновато станет…
– Без рассуждений! А дабы крепче было, так мы тебя сочетаем в ближайший срок с коренной землячкой.
Спафариев испуганно уставился во все глаза на неугомонного свата.
– У вашей эксцеленции есть уже таковая для меня на примете?
Меншиков усмехнулся.
– А тебя опять страх взял? Что ж, найдется, пожалуй, ежели поискать хорошенько.
– Чувствительнейше благодарен! Но лучше я сам уж поищу себе.
– Ищи, Господь с тобой. Но, чур, повторяю, не иначе, как православную россиянку.
– За долг почту-с.
– А лосиные рога у меня можешь взять: они будут хоть напоминать тебе о нашем уговоре.
Этим кончилось сватовство нашего героя. Выбравшись за порог своего вельможного свата, он перевел так глубоко дух, словно вырвался из пекла. От заданного ему там пара голова у него огнем горела, а на теле не осталось сухой нитки.
Спустя двадцать четыре часа он видел свое «ангельское создание» в последний раз. Загодя забравшись с Лукашкой в так называемый комендантский парк по выборгскому тракту, он отсюда, под прикрытием дерев, мог быть невидимым свидетелем отбытия шведского гарнизона. Нескончаемою вереницей тянулись мимо него нагруженные подводы, сопутствуемые плачущими толпами горожан. Это была также своего рода похоронная процессия, потому что ниеншанцы расставались безвозвратно не только с охранявшим их десятками лет войском, но и с некоторыми из именитейших своих сограждан. В числе последних был, конечно, и коммерции советник Генрих Фризиус, который как горячий шведский патриот ни одного лишнего дня не хотел дышать одним воздухом с ненавистными ему «скифами» и большую часть своего имущества брал с собою; остальное же все распродал накануне с молотка.
– Да где ж они, однако? – говорил Иван Петрович, тщетно высматривая между переселенцами семейство Опалевых. – Ни их, ни этого Фризиуса.
– А я так смекаю, – отозвался Лукашка, – что комендант, как шкипер на тонущем судне, сходит с палубы своей последним.
И точно: уже в самом конце скорбного кортежа показалась громоздкая, но необычайно солидная дорожная карета коммерции советника, в которой, кроме него самого с молодою супругою, помещались и тесть его с сестрою.
– Наконец-то! – вскричал Спафариев и, не утерпев, выскочил на дорогу и замахал шляпой.
В ответ ему из опущенного окна кареты замахала платком маленькая ручка. Но тут высунулось сердитое лицо Фризиуса и вслед затем задернулось зеленой занавеской.
– Закатилось красное солнышко, затуманилась ясная зоренька! – нараспев с пафосом заметил калмык своему господину, который как истукан окаменел на одном месте. – А теперича опять во львиную пасть!
– Откуда ты еще льва-то взял? – спросил Иван Петрович, не отрываясь глядя за удаляющимся по дороге облаком пыли.
– А царь-то наш Петр Алексеевич, по-твоему, не державный лев, что ли? Лев милостивый, но и грозный. И доколе экзамена своего не справишь, не выбраться нам из его пасти.
Глава пятнадцатая
Довольно, Ванюша! гулял ты не мало;
Пора за работу, родной!
Некрасов
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Пушкин
Тяжелая пора настала для Ивана Петровича. Предусмотрительный камердинер его при отъезде год назад из Парижа упаковал на дно одного из многочисленных их дорожных сундуков пачку учебников и ландкарт, заброшенных еще со времен Тулона и Бреста. Теперь вся эта кипа неожиданно всплыла снова на свет Божий к немалой досаде барина, который обольщал себя надеждой, что ему не придется готовиться к царскому экзамену.
– И дернула ж тебя нелегкая тащить эту чепуху с собою! – буркнул он на калмыка.
– А как же мы обошлись бы без нее, коли это точно чепуха, а не высокая мудрость? – заметил Лукашка.
– Как? Весьма даже просто. Здесь, в Ниеншанце, сего сорта книжек, окроме разве шведских, конечно, не найти, на нет и суда нет.
– Но ведь за морем-то за три года из прочтенного да слышанного кое-что сохранилось же в голове?
– Во-первых, не за три, а за два года; а во-вторых, в другие два столь же успешно испарилось опять из головы.
– Не испарилось оно, а лишь засорилось там, быльем поросло. А мы вот повыполем сорные травы да засадим все грядки свежей рассадой, так увидишь еще, каким пышным цветом старые семена взойдут! Садись-ка, сударь, чтобы времени попусту не тратить. Вот тебе стул, вот твои книжицы…
– А ты сам-то что же тем временем? Гулять никак рассчитываешь?
– А что же мне делать-то?
– Нет уж, шалишь, брат! На миру и смерть красна. На-ка тебе тоже книжицу – и ни с места от меня.
Камердинер послушно взял книгу и тихонько про себя засвистел: очень уж хорошо понял он, для какой цели барин оставил его при себе.
«И что они делают там? – любопытствовала их квартирная хозяйка, фру Пальмен, потому что Иван Петрович действительно перебрался на жительство к почтенной экс-экономке фон Конова. – Замыкаются на ключ и выходят оттуда только к столу. Уж не фальшивые ли монетчики, прости Господи?!»
Напрасно, однако, прикладывалась она ухом к замочной скважине: предательского звяканья металлических денег не было слышно; раздавался четко только голос Люсьена, точно поучающий, проповедывающий; а когда временами заговаривал и сам маркиз, то как-то ученически-неуверенно, и камердинер наставительно тотчас перебивал его.
«Что за притча? – недоумевала старушка, совершенно сбитая с толку. – Не обучается же господин у слуги! Это что-то совсем уж нестаточное, срам и стыд…»
Но раз как-то, когда на осторожный стук ее в дверь и доклад тоненьким голоском, что обед-де господину маркизу подан, не последовало ответа, фру Пальмен взялась за ручку двери – и дверь растворилась: в разгаре своих секретных рассуждений те забыли, видно, даже повернуть ключ в замке. И что же представилось тут ее изумленным взорам?
Оба – маркиз и слуга – стояли наклонясь над большущей морской картой, разложенной на столе. Первый водил по карте указательным пальцем и говорил что-то вопросительным тоном, словно плохо затверженный урок; второй же укоризненно прерывал его и проводил ногтем в другом месте карты.
Фру Пальмен на цыпочках снова отретировалась за дверь, чтобы постучать вторично, уже громче прежнего. Теперь стук ее был услышан. Но, как ни была она озадачена сделанным открытием, как ни чесался у нее язычок, однако ни единая живая душа в Ниеншанце не узнала от нее ни словечка, потому что открытие ее было слишком чудовищно и могло вконец уронить ее высокородного постояльца в глазах местных кумушек, которым она за чашкой кофею все уши про него уж прожужжала. Ведь во всем прочем господин маркиз был бесподобен: нанял квартиру со столом не только не торгуясь, но набавил еще от себя двадцать крон в месяц за лишнее блюдо; с нею был всегда вежливо-почтителен, как с настоящей дамой, упросил ее даже обедать вместе с ним «для компании», наливал ей собственноручно своего дорогого испанского вина – дреймадеры, а главное – не только сам рассказывал и шутил презабавно, премило, но умел и слушать, а это фру Пальмен ценила еще чуть ли не выше, потому что, набрав поутру у добрых кумушек с три короба городских новостей, она должна же была перед кем-нибудь их опять высыпать, чтобы душу отвести.
Ивана Петровича эти новости, по большей части местного характера, в иное время оставили бы совершенно равнодушным, но теперь они являлись освежительным дуновением среди сухой научной Сахары; а некоторые «нувоте» представляли для него и животрепещущий, «родной» интерес.
Так, на другой же день по отбытии шведского гарнизона в Выборг, после благодарственного молебна в царском лагере, происходило особое торжество: старший из наличных кавалеров российского ордена Андрея Первозванного, Головин, возложил знаки того же ордена на двух главных виновников славной морской баталии – самого царя Петра и первого сподвижника его Меншикова.
Следующие дни государь объезжал все рукава Невы до взморья, выбирая на островах место, где бы заложить новую фортецию, ибо ниеншацская цитадель слишком-де отдалена от моря и вражеский десант мог бы, чего доброго, укрыться в невских устьях, не стань мы, русские, ближе к морю твердою ногою.
И вот 14 мая выбор Петра пал на маленький пустынный Заячий остров, Иенисари, или, как называли его местные немцы, Люст-Эйланд (Веселый остров). И было ему тут чудесное явление, как бы указание свыше: едва лишь дошел царь до середины острова, как над главой его, царя людей, откуда ни возьмись взвился царь пернатых, орел. И, взяв у солдата багинет (штык), вырезал государь два куска дерна и положил крестом; после чего топором своеручно вырубил из дерева крест, водрузил его в дерновый крест и провозгласил:
– Во имя Иисуса Христа, быть на сем месте церкви во имя верховных апостолов Петра и Павла!
Засим, перейдя через проток на Березовый остров, Койвисари (нынешняя Петербургская сторона), государь назначил его для нового города, топором отметил в двух местах на ракитах, где быть церкви «Живоначальные Троицы» и где его государеву дворцу.
С другого же дня, 15 мая, несколько рот солдат приступили к вырубке и очистке от дерев и кустарника Березового острова под будущий город, причем усмотрели в чаще и гнездо вышереченного орла.
Все это передавалось, конечно, не по-русски, а на ломаном немецком языке, но приблизительно в таком же приподнятом тоне, потому что фру Пальмен, несмотря на свой довольно преклонный уже возраст, легко еще увлекалась и, не скрывая некоторой горечи, когда речь заходила об успехах русского оружия, не могла, однако, втайне не поклоняться мужественной, величественной красоте молодого царя.
Надо ли говорить, что все эти вести из русского лагеря живо интересовали обоих постояльцев болтливой старушки? В течение целой недели, впрочем, Лукашке удалось держать взаперти своего господина, который так и порывался к манившей за окнами кипучей жизни.
Но вот поутру 16 мая, едва погрузились они в свои учебники, как внимание Ивана Петровича было отвлечено совсем необычным движением на улице.
– Ты, сударь, только краем уха слушаешь, – укорил его калмык, сам, однако, невольно оглядываясь на опущенную штору открытого окна.
– Не пожар ли уж? – сказал Иван Петрович, вскакивая со стула.
Но когда он приподнял штору, одного взгляда на валившую мимо окна, смеющуюся, разряженную толпу было ему довольно, чтобы убедиться: спешат они не на пожар, а на какое-нибудь небывалое торжество.
– Куда вы, братцы? – окликнул он ватагу мужичков, в которых по их типичным лицам и одежде тотчас признал великоруссов.
– Эвона! Аль не слышал, что батюшка-царь ноне царствующий град себе закладывает? – отозвался один из мужичков, оглядываясь на ходу на стоявшего у окна. – Неведомо еще только, как его наречет.
– Sapristi! А мы тут чуть было не прозевали.
– И то прозеваешь, коли мигом не сберешься: суда государевы, слышь, тронулись уже к месту.
– Одеваться, Лукаш!
На этот раз наставник-камердинер уже не возражал: очень уж занятно самому ему было присутствовать при столь единственной оказии – закладке нового города.
Никогда еще, кажется, туалет Ивана Петровича не поспевал так быстро, как сегодня. Десять минут спустя они бегом приближались уже к невскому перевозу, где среди давки и перебранки места на яликах брались с бою. Благодаря лишь бесцеремонности Лукаш-ки, расчищавшего путь локтями и властно требовавшего пропуска своему «князю», они завоевали себе два местечка в одном ялике, переполненном уже «чистою публикой» из горожан и горожанок шведской национальности. Последние было возроптали, потому что в тесноте и спешке им помяли не только бока, но и пышно накрахмаленные юбки.
– Что? Что? Dunder och granater! – огрызнулся Лукашка. – Вот ужо, погодите, зарядят вас в пушку да во славу царскую и выпалят.
Одновременно отчалило несколько яликов и двинулось вперегонку к Заячьему острову. Там по прибытии пошла опять та же передряга. Против части берега, которая была расчищена накануне от кустарника, плотно теснились друг около дружки царские суда; обывательские же лодки вынуждены были приставать ниже по течению, где первобытная лесная глушь оставалась еще нетронутой. Каждой из вновь прибывших лодок хотелось пробиться вперед, последствием чего было общее их столкновение, треск деревянных бортов, крупная мужская брань и пронзительный женский визг.
Тут сквозь чащу донеслись стройные звуки церковного клира, и, как по волшебному мановению, весь шум и гам разом смолк.
– Служба-то зачалася! Голубчики, родимцы мои, вылезайте на берег, что ли, ради самого Создателя! Главное-то как раз и упустим… – послышались с разных сторон жалобные голоса, и дальнейшая высадка произошла хоть и спешно, но миролюбиво.
Когда Иван Петрович с камердинером своим добрались до места, литургия, действительно, близилась уже к концу. Совершавший службу соборне с местным духовенством митрополит новгородский Иов, нарочно вызванный для этого из Новгорода, говорил последние слова молитвы «на основание вновь созидаемого града», после чего окропил святою водою сперва царя с генералитетом, а затем и выстроенные кругом шпалерами войска, и напиравших сзади плотною массою простых зрителей. Не имея физической возможности, даже при содействии Лукашки, протолкнуться сквозь эту живую стену, Спафариев, однако, благодаря своему высокому росту, мог довольно свободно поверх малорослой толпы видеть все, что происходило внутри оцепленного войском круга.
Взяв заступ, государь для почина стал первым рыть землю в том месте, где должен был пролегать будущий крепостной ров. Под могучею рукою царя-великана тяжеловесные земляные глыбы выбрасывались вверх, как малые комья, и громоздились одна над другою.
– Экой силище-то Господь наградил! Хоть бы нашему брату под стать! – говорил с непритворным восхищением стоявший около Ивана Петровича рослый, плечистый мужчина, в котором по всему не трудно было угадать землекопа.
По примеру царя, и генералы его волей-неволей взялись за лопаты, но куда не с такою ловкостью, и потому вскоре уступили место более привычным к делу нижним чинам. Когда глубина рва достигла двух аршин, в него был опущен четырехугольный каменный ящик. Высокопреосвященный Иов, с молитвой освятил ящик водою, а Петр вложил в него золотой ларец, с каменного крышкой, накрыл ящик сверху вырезанными им перед тем тремя кусками дерна и, осенив себя крестным знамением, громогласно возгласил:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! Основан царствующий град Санкт-Петербург.
А был тот опущенный в ров золотой ларец, – как разнесла тотчас кругом стоустая молва, – ковчег с мощами святого апостола Андрея первозванного, на каменной же крышке ковчега была высечена такая надпись: «От воплощения Иисуса Христа 1703, мая 16-го, основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем, царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссийским».
Выразительные черты Петра, сияя гордою радостью, казались еще прекраснее, и сияние это отражалось на лицах всех окружающих: и генералов, и солдат, и народа. Митрополит с духовенством и царская свита обступили теперь государя, чтобы принести свои верноподданические поздравления.
В это самое время в вышине, на безоблачном, лазурном фоне неба, выделился парящий орел; а со стоявших на берегу судов началась усиленная пушечная пальба, на которую из Ниеншанца отдаленным эхом не замедлили отвечать крепостные орудия.
Минута была так торжественна, всякий из зрителей и действующих лиц был одушевлен таким неподдельным восторгом, что недоставало только сигнала для общего ликованья. И Иван Петрович подал этот сигнал; по своей неудержимой, легко воспламеняющейся натуре он первым крикнул: «Ура!» – и крик его был единодушно подхвачен всею многотысячною толпою от мала до велика.
– Ура! – старался Иван Петрович переорать неумолкавший кругом гул народный и в избытке патриотизма бросил на воздух свою шляпу.
Петр глянул в его сторону и на мгновение остановил на нем свой огненный взор. Молодой человек еще восторженнее загорланил.
Тут резким диссонансом в ликующем хоре за спиной Спафариева раздалась звонкая пощечина, а за пощечиной сдержанный вопль. Он сердито оглянулся. Как два боевых петуха, готовые сцепиться, стояли друг против друга Лукашка и какой-то мозглявый, но довольно приличный на вид ремесленник из финнов.
– Пикни у меня еще, окаянный пес, так я тебе всю скулу разворочу! – фыркнул калмык на своего противника, левая щека которого от тяжелой руки его заметно вздулась и как жар пылала.
– За что ты это его? – укоризненно спросил Иван Петрович камердинера.
– Да как его, помилуй, не бить, – был ответ, – негодивец, брешет, будто орел вон приручен был еще королевскими солдатами и опосля пущен ими на волю.
– А, может, оно и точно правда?
– Хоть бы и была правда, так не все выговаривать пригоже. Прилетел же орел сюда нынче во всяком разве не по заказу, а яко бы от себя, по высшему произволению. Однако ж берегись, сударь, как бы нас с тобой не оттерли!
В самом деле, государь, предшествуемый духовенством, двинулся со свитой в глубину острова к протоку, отделяющему Заячий остров от Березового, и народ такою бурною волной хлынул вслед, что прорвал бы цепь рослых царских гвардейцев если бы те не пустили в ход прикладов.
Локти Лукашки действовали между тем настолько успешно, что ему с господином его удалось протесниться до смой охраны. Так им достались в публике «первые места», с которых им с полным уже удобством можно было видеть закладку царем второго крепостного рва, а затем и крепостных ворот между двумя раскатами.
Срубив топором две стройные, высокие березки, Петр сплел их кудрявыми вершинками и утвердил в пробитых в земле, по указанию инженер-генерала Ламберта дырьях.
– А что, Лукаш, – заметил Иван Петрович вполголоса калмыку, – видали мы с тобой в Европе всякие триумфальные арки, а по натуральной красоте все они, поди, не чета этим простым зеленым воротцам, сооруженным самим государем. Только бы еще орла всероссийского на вышку…
Глядь – паривший до сих пор в небесах орел стал спускаться ниже-ниже, пока не опустился на самые ворота. И государь, и его приближенные, и войска, и народ – все были поражены и загляделись на царя птиц.
– Знамение! – передавалось кругом из уст в уста.
– Кто из вас, ребята, снимет мне его? – спросил Петр, озираясь на стоявших под ружьем гвардейцев.
– Я сниму! – неожиданно вызвался вдруг позади цепи Иван Петрович и, насильно протолкнувшись вперед, выхватил мушкет у ближайшего солдата. – Дай-ка сюда.
Небывалое самоуправство «штафирки» в присутствии самого государя до того озлобило владельца мушкета, что тот схватил Ивана Петровича за горло и тут же, пожалуй, задушил бы, если бы царь, сверкнув на обоих гневным взглядом, не остановил забывшегося солдата властным знаком руки:
– Стой! Я сам с ним ужо расправлюсь.
Затем, обернувшись к выступившему между тем вперед другому гвардейцу, бравому ефрейтору, Петр спросил значительно мягче:
– Так ты, любезный, берешься снять мне орла и без большого лиха?
– Берусь, государь.
Почти не целясь, ефрейтор спустил курок. Орел на воротцах пошатнулся и, беспомощно трепыхаясь подбитым крылом, слетел, кружась, вниз. Не коснулся он еще земли, как подскочивший стрелок на лету подхватил его и поднес царю.
– Что, жив еще? – спросил тот.
– Живехонек, – был ответ. – Изволишь видеть: только крыло подшиблено; сальцем смазать – в два дня заживет.
– Молодец!
– Ради стараться для твоей царской милости!
– Имя твое ведь Одинцов?
– Одинцов, ваше величество.
– Под Шлюшеном за примерною перед другими храбрость ефрейтором пожалован?
– Точно так, под Шлюшеном, да не столько почитай за храбрость – кто же, государь, из гвардейцев твоих не храбр? – сколько милостью твоей царской.
– Молодец! – повторил Петр. – Стой за товарищей, и ни Бог, ни царь тебя не забудут. А как вернешься нынче в лагерь, так толкнись-ка к полковому казначею да потребуй себе моим именем десять рублей.
Говоря так, царь перевязал раненому орлу ноги платком, чтобы не улетел, и, надев перчатку, посадил его себе на руку.
Когда он тут поднял взор, на глаза ему попался Иван Петрович, стоявший еще арестантом между двумя гвардейцами.







