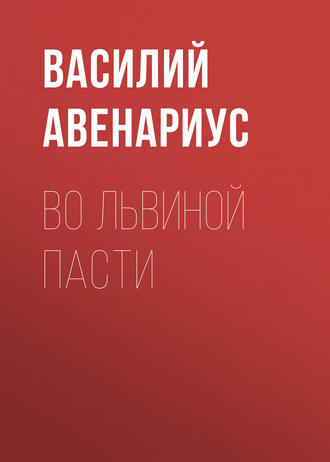
Василий Авенариус
Во львиной пасти
Глава пятая
Ходит спесь надуваючись…
Л. Толстой
«Подбирай, честной народ!» –
Закипела свалка знатная…
Некрасов
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок…
Майков
Там, где река Охта, приняв в себя речку Чернавку, под острым углом впадает в Большую Неву, двести лет тому назад сосредоточивалась вся городская жизнь Ниеншанца. Цитадель возвышалась на выдающемся при слиянии двух рек мысе, где в настоящее время стоит старая Петровская верфь; сам же город, прятавшийся некогда позади цитадели, между Охтой и Чернавкой, с увеличением населения по необходимости перекинулся на правый берег Охты и растянулся отсюда по невскому побережью. Для простых барок с дровами и строительными материалами была отведена река Охта; коммерческие же суда (которых в общем числе в течение навигации приходило свыше ста) чинным рядом стояли по набережной Невы, уступив только на самом углу местечко лодочникам для перевоза на ту сторону реки, где также виднелось какое-то поселение.
Как на судах, так и на пристани замечалось обычное в портовых городах суетливое оживление. Оживление это перешло и на «Морскую чайку», когда на нее с берега была переложена сходня. Несколько рабочих-носильщиков, слонявшихся на берегу без дела, перебежали тотчас на палубу вновь прибывшего судна и второпях чуть не столкнули со сходни в воду перебиравшегося на берег Ивана Петровича.
– Экие медведи, прости, Господи! – говорил он своему неразлучному личарде, Лукашке, когда оба благополучно добрались до суши. – А какое ведь, братец, блаженное чувство, когда у тебя опять твердая почва под ногами! Только городок-то не больно важный: домишки маленькие и, заместо палисадников, вытянули вперед какие-то сараища…
– А это у них, знать, складочные магазины: чтобы, значит, товары с кораблей сподручнее было выгружать без перевозки. Но вон, погляди-ка, сударь, и совсем барское шато с фронтоном и с садиком за железной решеткой.
– И то, домик хоть куда, весьма даже авантажный, – согласился Иван Петрович и обратился по-французски к выходившему только что из калитки садика господину с вежливым вопросом: – Позвольте узнать – чей это дом?
Тот, мужчина средних лет, представительного и несколько надменного вида, сперва оглядел вопрошающего в головы до ног – не с неба ли он свалился? – а затем ответил по-немецки:
– Дом этот – коммерции советника Фризиуса. Сказано это было также довольно вежливо ввиду приличной внешности вопрошающего, но все же с таким оттенком оскорбленного собственного достоинства, что Иван Петрович невольно догадался:
– Не с самим ли господином коммерции советником я имею честь?..
– Да. А вам, mein Herr, ко мне?
– Нет, но я благословляю счастливый рок свой, что он с первых же шагов в Ниеншанце свел меня с одним из первых, конечно, граждан города. Я – вольный турист, маркиз Ламбаль, и сейчас только прибыл. У вас, без сомнения, есть также груз на нашей «Морской чайке»?
– Есть. А она не потерпела аварии?
– О, нет! Могу засвидетельствовать, что капитан наш, Фриц Бельман, как человек хотя и неудобоварим, но моряк первостатейный. Позвольте еще побеспокоить вас вопросом… – «А, sapristi! о чем бы еще спросить его?» – подумал про себя Иван Петрович, которому хотелось, во что бы то ни стало, завязать сейчас знакомство «с одним из первых граждан». – «Ну, да все равно!» – Вот на той стороне Невы, я вижу, тоже дома: что там, предместье Ниеншанца?
– Нет, это русское селение Смольна.
– Русское, говорите вы? Откуда взялись у вас здесь русские?
– А еще с новгородских времен. Они здесь рассеяны повсюду. Это, так сказать, неизбежное и даже полезное зло среди коренного финского населения – malum necessarum.
– Так они смышленее, способнее финнов?
– М-да, предприимчивее: есть между ними и мелкие торговцы, и огородники… А Смольна вон вся заселена русскими смолокурами. Но прошу извинения, mein Herr, мне время дорого. Carpe diem. Пользуйся днем.
И, слегка коснувшись рукой края шляпы, коммерции советник с высокоподнятой головой, неспешным шагом направился к «Морской чайке».
– Туда же ведь – сыплет латынью, как золотыми, золотой мешок! – усмехнулся Иван Петрович, провожая удаляющегося глазами. – А как я, право, рад, что встречусь здесь опять с земляками…
– Ты, сударь, и то расспросами своими об них чуть не выдал себя этой жар-птице, – предупредил калмык. – Того гляди, встретясь с русским, ляпнешь еще по-нашему… Лучше бы и нам с тобой говорить всегда по-французски.
– На улице – можно. Eh bien, mon cher… Продолжая разговор уже на французском языке, они берегом Охты скоро вышли на базарную площадь, находившуюся на том самом месте, где теперь стоит церковь Святого Духа. Около нагруженных разными деревенскими продуктами телег и таратаек лениво слонялись хозяева – чухна, попыхивая из своих коротких «пипок»; а на голой земле группами прикорнули босоногие, в пестрых, бьющих в глаза цветов национальных плахтах торговки-чухонки с полными корзинами яиц, масляными кадушками и молочными кувшинами. В ожидании покупателей они без умолка так громогласно на всю площадь тараторили меж собой на своем негармоничном языке, что Лукашка не утерпел передразнить их и загоготал по-гусиному. Обиженные торговки загоготали теперь уже на самого шутника, но в то же время позади наших путников раздался громкий одобрительный смех. Они оглянулись.
Смеялся стоявший тут же с ручной тележкой продавец яблок. Типичные с окладистой бородой великорусские черты лица, а главное – задушевный смех не оставляли сомнения, что это кровный русак. От его добродушной веселости веяло чем-то таким родным, что Спафариев не мог удержаться – подошел к торговцу с вопросом:
– Русский?
Из осторожности он произнес одно только это слово, но по чистому московскому выговору русское ухо тотчас признало в нем своего. Лицо продавца просияло.
– А сам ты, батюшка, тоже русский? Не купишь ли яблочков? Отборные! С маленьким кваском, но сочные, так что слюнки потекут! Откушай-ка штучку. Не бойсь, сударик, ничего с тебя за то не возьму.
– Qu'est cе que cela veut dire?[9] – поспешил по-французски вмешаться Лукашка и подмигнул своему господину на тот край площади.
В самом деле, от моста через Охту приближался к ним, звеня саблей и шпорами, вчерашний знакомец, майор фон Конов.
– Ба! Маркиз Ламбаль! – говорил толстяк-майор, отдуваясь и с такой силой потрясая руку маркиза, точно хотел ее выдернуть из плеча. – Очень, очень рад! Что это вы – к яблокам прицениваетесь?
– Хочу прицениться, да вот не разберу, что он говорит такое?
– А вам сколько штук? Десяток?
– Нет, всю тележку.
– Как всю? На что это вам?
Не мог же Иван Петрович признаться, что ему необходимо отблагодарить этого первого земляка на чужбине за братское предложение – даром «откушать штучку».
– А вот сейчас увидите, – отвечал он. – Узнайте только, пожалуйста, что он требует?
На сделанный майором по-фински вопрос продавец, знавший, конечно, местный язык, отвечал, что дешевле пятидесяти крон, ей-ей, отдать не может.
– Это сколько же? – спросил Спафариев, передавая майору свой кошелек. – Будьте добры, рассчитайтесь.
Тот стал рассчитываться с торговцем. Иван Петрович же, взявшись руками за край полной яблоков тележки, перекувырнул ее. Яблоки, подпрыгивая, рассыпались, покатились кругом по земле.
В первый момент рыночные торговки, не упускавшие уже из вида наших туристов, были, видимо, поражены небывалой выходкой чужестранца и сочли его, вероятно, за полоумного. Когда же он теперь любезным жестом весьма наглядно пригласил их не церемониться, они не дали повторить себе приглашения и наперерыв бросились подбирать с земли даровое угощение в передники и за пазуху. Не обошлось при этом, разумеется, без завистливой брани и легкой потасовки, причем у одной торговки был опрокинут кувшин с молоком, у другой – корзина с яйцами. Но сцена вышла тем оживленнее и разом собрала кучку зрителей. Только самому торговцу было словно жаль своего «отборного» товара.
– И смех, и грех! – говорил он, почесывая за ухом.
– А! Фрекен Хильда? – заметил фон Конов, подходя с поклоном к одной из зрительниц, барышне-подростку.
Та, как уличенная в шалости школьница, вся зарумянилась и, пробормотав что-то, поспешила вместе с сопровождавшей ее горничной выбраться вон из толпы. Но, несмотря на то, что на ней было еще коротенькое платьице и золотисто-белокурые волосы ее были сплетены сзади в две длинные косички, она была уже так стройна, свежее личико ее было так миловидно, что Иван Петрович, не отрываясь, глядел ей вслед.
– Кто это? – спросил он майора.
– А фрекен Хильда Опалева, дочь коменданта здешней цитадели, – был ответ. – Заметили вы у нее в руках книжку?
– В черном переплете с золотым обрезом?
– Да. Это – священная история: фрекен Хильда ходит к пастору в ученье перед конфирмацией.
– Но ей ведь лет не более тринадцати?
– Нет, уже четырнадцать минуло. И то было бы рано конфирмоваться, но жених торопит…
– Она уже невеста!
– Негласная. Но в этаком маленьком городке всякий секрет, – как у вас, французов, говорится, – un secret de polichinelle.
– И выходит, вероятно, за какого-нибудь друга детства?
– Нет, за человека, который мог бы быть ей чуть не отцом: первого здешнего денежного туза, Фризиуса.
– Коммерции советника?
– А вы, господин маркиз, почем знаете?
– Случайно только что познакомился с ним.
– Почтенный и, можно сказать, ученый муж. Отец его, здешний немецкий пастор, готовил его себе в преемники и отдал сперва в Упсальский университет.
– То-то он так и мечет латинскими фразами!
– Да, это его и сила, и слабость.
– Но тем не менее он выбрал коммерческую карьеру, чтобы скорее нажиться?
– Нажил он, точно, говорят, миллионы, но опять-таки благодаря только своему замечательному трудолюбию, коммерческой сметке и в особенности безупречной честности.
– И комендант ваш продал ему свою дочку?
– Как вам сказать?.. Фрекен Хильда, кажется, ничего не имеет против жениха. Отца же всего более, я думаю, подкупил патриотизм коммерции советника, который без процентов, на неопределенный срок ссудил нашего короля Карла XII очень крупною суммой в войне с русскими.
– Ah, sacrebleu! – невольно вырвалось у Ивана Петровича?
– Как?
– Нет, ничего… Я удивляюсь только бескорыстию господина коммерции советника. Но кто это вон там на мосту остановил его невесту? Никак фенрик Дивен.
– И то ведь он! Понять юноша не хочет, что самому ему нет уже никаких надежд. Надо спасти бедненькую.
Они направились к мосту через реку Охту, по средине которого, действительно, гарцевал на коне молодой фенрик, нарочно заграждая этим путь дочке коменданта. При виде своего начальника и французского маркиза Дивен несколько смешался и с напускною раз-вязанностью приветствовал обоих:
– Мое почтение, господа… Я вот показываю только что mademoiselle моего нового Буцефала…
– А вы почем дали за фунт? – спросил фон Конов, хлопая не в меру откормленного коня по выхоленной спине.
Фрекен Хильда поторопилась воспользоваться появлением майора, чтобы проскользнуть на ту сторону задерживавшего ее живого шлагбаума.
– Виноват, фрекен! – крикнул ей вслед молодой фенрик, тотчас опять поравнявшись с нею. – Я забыл еще рассказать вам: я видел нынче во сне мою мамашу… И знаете ли, что она говорила про вас, что поручила мне?..
Девочка, делая вид, что не слышит, продолжала идти вперед.
– Вы совсем не любопытны! – не отставал неугомонный. – Она велела мне кланяться вам! Она так хорошо еще помнит вас из Стокгольма. Куда же вы так торопитесь, фрекен? Не будет ли у вас хоть какого-нибудь поручения?
– Ах, да! Пожалуйста, – ответила вдруг фрекен Хильда.
– Приказывайте!
– Когда увидите во сне опять вашу мамашу – не забудьте поклониться ей тоже от меня.
И, залившись вдруг серебристым смехом, девочка так быстро упорхнула далее, что пожилая служанка, запыхавшись, едва могла поспеть за нею.
Ливену ничего не оставалось, как поворотить коня, но неизменная, наивно-самодовольная улыбка, обнажавшая белый ряд зубов, ни на минуту не сходила с его цветущего лица.
– Шалунья! – сказал он, подъезжая опять к двум другим мужчинам. – Знаете ли, господин маркиз, какую она раз с нами, офицерами, штуку проделала?
– Ну?
– Были мы как-то прошлой зимой в гостях у отца ее, полковника Опалева. Простившись наконец, собираемся в прихожей надеть в рукава шинели. И что же? Никак не можем попасть в рукава. Что за притча! Смотрим, а она, злодейка, во всех шинелях зашила рукава!
Оба слушателя рассмеялись.
– Да, зимой она была еще совершенным ребенком, – сказал фон Конов. – Но теперь она не позволит уже себе ничего подобного.
– Жениха, вы думаете, побоится? Он точно следит за нею глазами арги… арго…
– Аргонавтов? – подсказал майор.
– Вот-вот!
– А может быть, Аргуса?
Теперь Ливен смекнул, что балагур-начальник подвел его, но из чувства субординации не посмел обидеться. Только нежно-румяные щеки его окрасились в багровый цвет, но губы по-прежнему приятно улыбались.
– У меня и из головы вон, что комендант послал меня по одному делу… – как будто вспомнил он вдруг. – До свиданья, господа!
И, хлестнув коня, он молодцевато поскакал далее.
– Добрейший малый, но на несколько глупостей опередил свой век, – заметил фон Конов.
– И зачем он всегда улыбается?
– А чтобы не лишать других удовольствия видеть его славные белые зубы. Ведь ему ничего же не стоит?
Глава шестая
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит…
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.
Крылов
– Однако солнце-то у вас здесь, на севере, тоже припекает, – заметив Спафариев, сняв шляпу и отирая себе платком разгоряченный лоб. – Ваш магистрат не дошел еще до того, чтобы, по примеру Западной Европы, устроить для обывателей тенистое место для прогулок?
– Городской сад? Как же, да еще какой! Есть чем похвалиться, – отвечал фон Конов. – Я, кстати, до обеда свободен: угодно – провожу вас?
– Крайне обяжете.
По пути к саду майор пояснил, что городской сад, собственно, называется госпитальным садом от устроенного рядом с ним госпиталя – общественной богадельни; что далее за городом, по выборгскому тракту, на берегу Невы, есть еще великолепный парк, так называемый «комендантский»[10], где более природы; госпитальный же сад – последнее слово садового искусства.
Перейдя деревянным мостом через обрушившийся старый крепостной вал и заросший травою ров, они вскоре очутились перед воротами городского сада, на которых была прибита дощечка со шведской надписью.
– Все, как у вас на Западе, – говорил фон Конов, указывая на эту надпись: «Цветов не рвать, травы не мять, собак не водить». – А чтобы это действительно соблюдалось, к воротам, как видите, и сторож приставлен.
Последний, подслеповатый старичок-инвалид, при приближении офицера приподнялся со своей завалинки и отдал честь. Вдруг около них раздался собачий лай.
– Простите, ваша милость, – обратился инвалид к майору, – но собак водить нельзя.
– Да где же она? – спросил тот, озираясь кругом. – С нами нет собаки.
Сторож, ковыляя на своей деревяшке, заметался вокруг господ. За спиной его снова затявкала собачонка. Он оглянулся, но там не было никого, кроме следовавшего за двумя господами ливрейного слуги.
– Это Люсьен мой опять дурит, – объяснил майору Иван Петрович.
Тот снисходительно только пожал плечами.
Отделенный от загородных огородов высоким дощатым забором, ниеншанцский госпитальный сад представлял вполне замкнутый в себе растительный мирок. Рассаженные живописными купами или правильными аллеями дубы и липы, березы и клены были тщательно изуродованы ножницами садовника то по образу шарообразных померанцевых деревьев, то наподобие пирамидальных кипарисов, то в виде сплошной, непроницаемой лиственной стены. Дорожки, плотно утрамбованные и посыпанные песком, были проложены с самой строгой симметрией, приводя и справа и слева всегда к одной и той же пышной цветочной клумбе, на которой цветы всех колеров были расположены с такой же педантичной правильностью. Симметричность эта нарушалась только резвившимися вокруг клумб ребятишками да сидевшими тут же на скамейках нянюшками, вязавшими чулки и, как водится, пересуживавшими меж собою господ.
– Ну, что, чем не ваш Версаль или Фонтенбло? – говорил не то шутя, не то самодовольно фон Конов. – А между тем отсюда до чертова логова – Паргала – рукой подать.
– Паргала? Это что же такое?
– А по-фински «паргала» или, вернее, «пергеле» не более не менее, как «черт». Ведь простому народу везде чудится нечистая сила. Ну, а местность по выборгскому тракту, которой дали здесь такое имя, действительно – глушь непроходимая, гнездо разбойничье, и протечет еще добрая сотня лет, пока нам удастся привить и там европейскую культуру.
Шведский майор отчасти только был прав: потребовалось, точно, чуть не две сотни лет, но не шведам, а русским, чтобы обратить прежнее «чертово логово» с окружающими дебрями и непролазными болотами в «европейски-культурное» дачное место. А что сказал бы еще фон Конов, если бы ему предсказали, что тот самый городской сад, которым он, по-видимому, так гордился, со временем будет служить лишь местом вечного успокоения – кладбищем одной из самых заброшенных городских окраин – Большой Охты?
– В этих насаждениях чуется гениально-причудливый стиль нашего великого придворного садовника Ленотра, – отозвался Иван Петрович, чтобы сказать что-нибудь приятное своему любезному путеводителю.
– Не правда ли? – подхватил с живостью фон Конов. – В особенности, надо признать, много стараний об украшении нашего богоспасаемого города прилагает коммерции советник Фризиус. По его указаниями, например, а главное – его же иждивением устроен вот этот «лабиринт» – неизбежная принадлежность современных садов. Угодно вам взглянуть? Или же сперва отдохнем тут в боскете?
– Да, не мешало бы: нагулялись до третьего пота. Они уселись в боскете; калмык же, отломив с куста цветущую ветку, стал обмахивать господ, отгоняя от них игравших в солнечных лучах мух и мошек.
– Простите мне, господин майор, мое любопытство, – заговорил он с простоватой миной. – Вопрос, может быть, очень глупый и неумный, но вы, по доброте вашей, не поставите мне в вину…
– Спрашивайте, любезнейший, – милостиво разрешил фон Конов. – Что вы хотите знать?
– Да вот-с… Когда мы проходили сюда, по пути нам попались вал да ров.
– Ну?
– Вал вконец обвалился, а во рву ни капельки воды. Город ваш с этой стороны, стало быть, совсем открыт?
Светлые черты веселого майора на минуту омрачились.
– Вопрос ваш вовсе не так глуп, – сказал он со вздохом. – Действительно, нельзя не пожалеть, что со времени последнего разгрома Ниеншанца, с лишком сорок лет назад, прежний вал уже не восстановлен. Теперь город так разросся, что его никаким валом не обведешь. Одним городским мальчишкам раздолье – играть на валу и во рву! Но недалеко позади вот этого сада возведено у нас полевое укрепление. Правда, это не то, что сплошной крепостной вал… У меня от покойного отца сохранился еще генеральный план прежнего Ниеншанца… Впрочем, для вас, Люсьен, этакий план – тарабарская грамота.
– Это что же – вроде панорамы? У господина маркиза есть тоже панорама Рейна…
Фон Конов громко расхохотался над невежеством француза-камердинера.
– Ну, план мой, пожалуй, тоже панорама, только с высоты птичьего полета. Как-нибудь при случае покажу. Вы, господин маркиз, где квартируетесь здесь в Ниеншанце?
– Везде и нигде.
– То есть?
– Пожитки мои еще на корабле, а сам я, как видите, слоняюсь по белу свету, пока не обрету пристанища. Я – фаталист и предоставляю все судьбе: куда заведет, туда и приткнусь.
Фон Конов дружелюбно похлопал его по спине.
– Так благодарите же вашу судьбу: я – человек вдовый, одинокий, принять у себя в доме такого милого представителя великой Франции мне и лестно, и приятно. Переберитесь-ка сейчас ко мне?
– О широком гостеприимстве северян я наслышался давно, – отвечал «представитель Франции», с теплотою пожимая руку майора, – и не откажусь хотя бы уже для того, чтобы прославлять потом шведское хлебосольство.
– А я постараюсь оправдать нашу славу. Для такого дорогого гостя мне надо будет заказать еще экстренное блюдо. Так не повернуть ли нам обратно?
Когда они проходили снова мимо бегавших вокруг цветочной клумбы детей, инвалид-сторож оказался тут же и принялся тотчас ворчать на играющих, чтобы показать перед майором свое служебное усердие. Но внимание служивого было внезапно отвлечено совершенно необычными в общественном саду звуками – хрюканьем свиньи. Инвалид растерялся, потому что хавронья должна была быть в двух шагах; между тем видать ее нигде не было. Догадался он о виновнике мистификации лишь тогда, когда, как бы в ответ хавронье, завизжал поросенок и ребятишки всею оравой, ликуя, бросились следом за Лукашкой. Но фон Конову такая непрошеная свита, видимо, была не по душе, и Иван Петрович сделал камердинеру серьезное внушение – не паясничать в присутствии господ. Но калмык достиг своей цели – еще более утвердил в шведском майоре мнение о его, Люсьена, дураковатости.
Не прошло и часа времени, как гостеприимный швед вводил маркиза Ламбаля в свой дом.
Мыза фон Конова стояла на нынешней Воскресенской набережной, и окна отведенных Ивану Петровичу покоев, для тогдашнего времени весьма комфортабельных, выходили прямо на Неву, так что хозяин имел полное основание пригласить гостя полюбоваться открывшимся из окон обширным речным видом.
– Вон наискось – наш артиллерийский парк, а далее – Заячий остров, Иенусари, где, кроме зайцев, ничего путного не найдете, – объяснил он, не подозревая, что следующим же летом на этом самом пустынном острове будет уже заложена русским царем в защиту от шведов новая крепость. – Зато вот еще далее – на Лосином острове, Хирвисари, лоси гуляют целыми стадами.
– Не долго гулять им! – отозвался Иван Петрович, радостно потирая руки.
– У вас и руки уже зачесались? Беда вот только с этим стариком де ла Гарди…
– А это что за субъект?
– Человек-то он, в сущности, хороший, да в последнее время, бедняга, совсем с ума спятил. Дело в том, что он, как и я, тоже в майорском чине, но лет на двадцать меня старше и за смертью старого коменданта целых два года временно управлял здешней цитаделью, ну, и рассчитывал, понятно, что его утвердят в должности. На самом видном месте Лосиного он выстроил себе загородную виллу, завел рыбьи тони, зверинец… И вдруг ему на шею присылают сюда из Стокгольма нового коменданта, полковника Ополева…
– Отца фрёкен Хильды?
– Да. Ну, того это разом, конечно, подкосило. Сперва он впал в бешенство, потом в меланхолию и засел себе бирюком на своей мызе. В каждом ближнем он видит личного врага, в каждом иностранце – врага отечества и русского шпиона. Только комендант наш, странным образом, ладит еще с ним. Но объясняется это тем, что де ла Гарди – солдат до мозга костей и военную дисциплину ставит выше всего. Хотя он и зачислен уже в резерв, но в полковнике Опалеве признает еще своего шефа.
– Он, действительно, кажется, большой оригинал, – сказал Иван Петрович. – Чтобы охотиться на Лосином, пожалуй, придется заручиться еще его согласием?
– Для виду – да, хотя на деле охотиться там никому не воспрещено. Во всяком случае я, господин маркиз, вменю себе в особенное удовольствие сопутствовать вам, и завтра же, если только комендант уволит меня от дежурства, мы переправимся туда на пароме с гончими.
– А у вас есть и гончие?
– О! У меня целая псарня! – воскликнул фон Конов, весь оживляясь. – Угодно вам хоть сейчас осмотреть? До обеда у нас как раз достанет время.
– Виноват, господин майор, – вмешался тут в разговор калмык, глазевший на Неву из другого окошка, – а что же отсюда не видать города?
– Да вы, Люсьен, разве не заметили при переправе сюда, что Нева делает крутой поворот?
– Поворот? Хоть убейте – не припомню. Я все зевал по сторонам на речную панораму… А на вашей, господин майор, панораме, что досталась вам от покойного родителя, оба берега тоже выведены или один?
Простак Люсьен скорчил такую уморительно-глупую рожицу, что майор разразился опять хохотом.
– От вас, я виду, не отвяжешься, пока не покажешь вам моей «панорамы», – сказал он. – Погодите минуточку.
– И на что тебе, братец? – вполголоса спросил Иван Петрович камердинера по уходе хозяина. – Ведь слышал ты, что план у него старый, стало быть, никуда не пригодный?
– Не бойсь, пригодится.
– Вот вам и моя панорама! – сказал, входя, фон Конов и развернул на столе генеральный план старинного Ниеншанца. – Вы, Люсьен, должны вообразить себя стоящим на высокой-превысокой колокольне, откуда видишь внизу под собою всю окрестность, как на ладони. Понимаете вы?
– Как не понять… Только где же тут что?
– А вот тут Нева, тут моя мыза, а здесь город.
– Так… Теперь-то, пожалуй, я и сам тоже найду всякую штуку. Спросите-ка меня шутки ради, господин майор?
– Проэкзаменуем, – усмехнулся майор, которого все более потешала ребяческая наивность камердинера. – Где цитадель, ну-ка?
– А тут! – провел калмык ногтем по зубчатой линии вокруг города.
– Вот и сплоховали, ха-ха-ха! Это – прежние городские укрепления, от которых теперь остались только обвалившийся вал да заросший ров по пути к госпитальному саду.
– Где мы давеча с вами проходили?
– Ну, да. А цитадель вон где, на мызе. Окружают ее, видите ли, тоже вал да ров, и этот внутренний вал в полной исправности, а ров наполнен водою.
– И высокий вал?
– Да сажен в девять.
– Вот это так! А на валу, конечно, пушки?
– Еще бы: целых семь бастионов, а между бастионами высокий частокол.
– Ого! Так цитадель ваша, стало быть, совсем неприступна, – успокоенным тоном сказал Лукашка. – А город теперь разве не защищен?
– Защищен. Прежнего вала кругом хотя уже и нет, но взамен того с разных сторон возведены четыре наружных редута.
– Это что же такое?
– Редуты – полевые укрепления.
– Да тут на плане их что-то не видно.
– Попасть сюда, на старый план, они и не могли, потому что выстроены после. Один, самый сильный, редут вот здесь, на противоположном берегу Невы, под Смольной, остальные три на этом берегу, примерно вот тут, тут и тут… Впрочем, что же это я заболтался с вами! Ведь нам с господином маркизом надо еще на псарню. Неужели кабриолет еще не подан?
Фон Конов быстрыми шагами вышел.
– Ну, сударь, теперь уходи-ка тоже с Богом! – заторопил Лукашка своего господина.
– Тебе-то что?
– Уходи, уходи. А не то он план свой отберет сейчас опять.
– А ты копию снять хочешь?
– Копию не копию, а смастерить по нем свой собственный планчик.
– Ну, этого я не допущу: милого майора моего я настолько заэстимовал…
– Эстимы твои при тебе и будут. Ты веди свою линию, а я свою.
– Забил себе в башку – и никаким колом не вышибешь! – притворно рассердился Иван Петрович, который втайне, однако, не мог не сочувствовать патриотическому замыслу калмыка. – Я всячески омываю руце в неповинных!
– Само собою: ни ты, ни майор за меня не ответчики.
– Не забудь только дверь-то на ключ замкнуть.
– А уж об этом, батюшка, не печалься. Мне дай только на воз сесть, а ноги то я и сам подберу.







