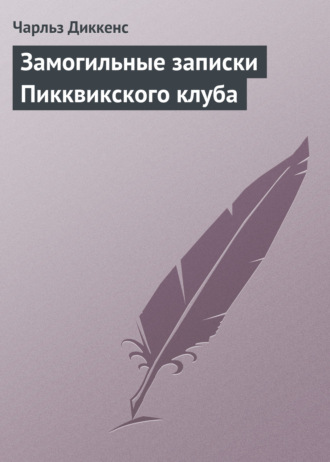
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
М‑р Потт не произнес ни одного слова в ответ на эти оскорбительные шутки, но, вставая торжественно со своего места, скомкал нумер «Журавля», бросил его на пол, придавил, притиснул, растоптал и потом, без церемонии, зашвырнул в пылающий камин.
– Вот мой ответ, милостивые государи! сказал Потт, величественно отступая от камина. – И точно так бы поступил я с этой гадиной, если бы, к счастью для неё, не стесняли меня законы моего отечества!
– Блудлив, как кошка, труслив, как заяц! – вскричал Слорк, вставая с места. – Нет, господа, есть на свете негодяи, для которых ничего не значит покровительство отечественных законов!
– Слушайте, слушайте! – сказал Боб Сойер.
– Вот это потеха, так потеха! – заметиль м‑р Бен Аллен.
– Блудлив, как кошка, труслив, как заяц! – повторил Слорк, постепенно возвышая свой голос.
– Изверг!.. Не хочется только рук марать! – отвечал Потт.
– Слышите, господа? Ему не хочется только рук марать! – повторил м‑р Слорк презрительным тоном. – Ха, ха, ха! Ведь это не то, чтобы он трусил или боялся, – нет, нет! Рук ему не хочется марать! Ха, ха!
– Сэр! – вскликнул м‑р Потт, выведенный окончательно из себя этим ужасным сарказмом. – Сэр! Объявляю здесь перед всеми, что я считаю вас пресмыкающейся гадиной, ехидной, ползучей змеей. Своими бесчестными и бесстыдными выходками, сэр, вы давно поставили себя вне всякого покровительства законов, и раздавить вас, как презренную гадину, сэр, значило бы…
Но, не дожидаясь окончания этой речи, взбешенный «Журавль» схватил свой дорожный чемоданчик, наполненный разными хрупкими вещами, и не-истово устремился к тому месту, где стоял его противник.
– Господа! – вскричал м‑р Пикквик, когда Потт в свою очередь вооружился кочергой и мужественно приготовился к обороне. – Господа… ради Бога… помогите… Самуэль… сюда… Эй, кто-нибудь!
И, произнося эти бессвязные восклицания, м‑р Пикквик ринулся между сражающимися весьма кстати для того, чтобы, с одной стороны, принять на свое старческое тело брошенный чемодан, с другой – сильный удар кочерги. Трудно решить, какие последствия могли бы произойти отсюда для великодушного мужа, тщетно старавшегося разнять исступленныхь представителей двух противоположныхь партий, если бы не подоспел на выручку м‑р Самуэль Уэллер. Не говоря дурного слова, этот джентльмен нахлобучил мучным мешком могущественного Потта и, отпихнув его в сторону, вырвал сильною рукою чемодан из рук разъяренного Слорка.
– Я задушу вас, разбойники, если вы не уйметесь! – закричал громовым голосом м‑р Уэллерь. – Вы что тут зевали, господа?
Последнее обращение относилось к господам Бену Аллену и Бобу Сойеру, не принимавшим никакого участия в этой битве. Им было очень весело, и притом впереди предстояла для них отрадная перспектива пустить кровь первому джентльмену, который будет оглушен неприятельским ударом.
– Ступайте спать по своим нумерам – сказал м‑р Уэллер, обращаясь к обоим журналистам, – не то я скручу вас обоих по рукам и по ногам и положу на одну постель. A вам, сэр, тут нечего делать с сумасшедшими людьми. Пойдемте.
Сказав это, Самуэль взял за руку своего господина и повел его в солнечный нумер, между тем как разъяренные журналисты, продолжая изрыгать угрозы и проклятия друг против друга, были разведены по своим спальням под руководством хозяина «Сарациновой головы» и молодых врачей, которые все еще не теряли надежды пустить кровь кому-нибудь из них.
Поутру на другой день журналисты встали очень рано и, не простившись ни с кем, разъехались в двух разных дилижансах. Погода прояснилась, солнце заблистало, и наши путешественники еще раз обратили свои лица к британской столице.
Глава LI
Важная перемена в семействе М‑ра Уэллера и окончательное низвержение достопочтенного м‑ра Стиджинса.
Считая не совсем удобным представить, без всякого предварительного приготовления, своих двух спутников молодой чете и желая по возможности щадить деликатность нежных чувств прекрасной Арабеллы, м‑р Пикквккь решился остановиться со своим слугою где-нибудь неподалеку от «Коршуна и Джорджа» и предложил молодым людям нанять особою квартиру, где они хотят. Согласившись на это предложение, м‑р Боб Сойерь и Бен Аллен удалились в Боро и наняли комнатку в одном довольно грязном трактире, где за буфетом в былые времена имена их появлялись довольно часто под длинным и многосложным счетом, который, для ясности и краткости, всегда писался белым мелом.
– Ах, Боже мой! Вы-ли это, м‑р Уэллер, – воскликнула смазливая девушка, встречая Самуэля у дверей.
– Должно быть, что я, – отвечал Самуэль, отскакивая назад на такое расстояние, откуда разговор не мог достигнуть до ушей его господина. – Какая вы хорошенькая, Мери!
– Ах, не говорите этих глупостей, м‑р Уэллер, – сказала Мери. – Нет, не делайте этого.
– Не делайте чего, моя душечка?
– Ну, да вот этого… полно, полно! Отстаньте, м‑р Уэллер!
С этими словами молодая девушка с улыбкой оттолкнула Самуэля к стене, объявляя, что он совсем разбил её локоны.
– И к тому же помешали мне сказать, что я хотела, – прибавила Мери. – Вот тут ожидает вас письмо ровно четыре дня. Я получила его через полчаса после вашего отъезда, и на конверте надписано, чтобы доставили немедленно.
– Где оно, моя милая?
– Я сберегла его для вас, м‑р Уэллер, иначе, смею сказать, оно бы совсем потерялось. Вот оно, возьмите. Вы не стоите этого, сэр.
Говоря это, Мери вынула из-под лифа на груди маленький кисейный платочек, развернула его, взяла письмо и передала м‑ру Уэллеру, который поспешил поцеловать его с великою любезностью.
– Ах, какой вздор! – сказала Мери, поправляя косынку и притворяясь простодушною невинностью. – Вы уж вдруг и влюбились в него, м‑р Уэллер!
В ответ на это м‑р Уэллер подмигнул с таким лукавым видом, которого мы никак не беремся изобразить своим слабым пером. Затем, усаживаясь на окне подле Мери, он открыл письмо и бросил на него изумленный взгляд.
– Эге! – воскликнул Самуэль. – Что бы это могло значить!
– Ничего, я надеюсь? – сказала Мери, смотря через его плечо.
– Какие у вас хорошенькие глазки! – сказал Самуэль.
– Вам нет нужды до моих глаз, м‑р Уэллер, читайте-ка лучше свое письмо, сэр.
И, сказав это, мисс Мери замигала и заморгала с такою победительною миловидностью, что Самуэль счел неизбежно необходимым поцеловать молодую девицу. Затем он окончательно развернул письмо и начал читать следующие строки:
«Маркиз Гренби
Доркен
Пятница.
Милый мой Самми.
С прискорбием я должен иметь удовольствие саабщить тебе дурную новость мачиха твая простудилась но такой причине што слишкомь долго панеосторожности просидела на мокрой и сырой траве под дажжем ана все слушала этого жирного толстяка a он зарядил себя ромом и воткой и не мох никаким манером астановитца пака не пратризвился a до евтыва прашло слишком много часов дохтурь гаварит што если бы она прахлатила ромку малую талику попрежи евтыва a ни после так оно накончилось бы все харашо евтим бы падмазались ее калесы и все бы накатилась как па маслецу a атец твой надеился пакамист што все ища авость разоидетца и поедит как следуит но лишь только ана павернула за угол мой милый калеса расстроились и пакатились благимь матом под гору всамый оврак так што ужь просто надыбна была махнуть рукой и сказать што почитай што все прапало a все ж таки дохтур ухватился за аглобли и придержал дугу да уж поздно ничаво ни памагло и ана проехала последную заставу вполовине шестова часу вечера и вот таким то манером сын мой она соверишла свой последний путь слишком преждевреминно и скоро кприскорбию твоево атца и ето говорит дохтур произошло аттаво што она черизчур мала взяла багажу на дорогу хаша кибитка была здаравенная отец твой гаварит шта если ты придеш и навестиш мена Самми так евто будит ему оченно приятно и ты сделаеш мне большое адалжение потому шта я таперича совсем уж адинок Самуэль друг ты мой любезный P. S. Он велел мне еще праписать шта авось па такому важному делу старшина атпустит тебя патаму шта нам нужно таперича або многом переговорить и уж я наверно знаю Самми шта он атпустит честнеишая душа и он приказывает тебе сказать ему старшине то твоему нижайшее почтение ат нево засим желаю тебе всякова благополучия Самми и остаюсь на всегда любящий тебя отец.
Тони Уэллер».
– Что это за дребедень! – воскликнул Самуэль, прочитав это хитрое и несколько запутанное письмо.
– Кто это к вам пишет, м‑р Уэллер? – спросила Мери.
– Отец, должно быть, только ведь вот тут несколько раз говорится о нем в третьем липе. И почерк вовсе не его.
– A подпись?
– Ну да, подписался-то он сам, – отвечал Самуэль, взглянув еще раз на конец письма.
– Так знаете что, м‑р Уэллер? – подхватила догадливая девушка. – Он упросил кого-нибудь сочинить это письмо вместо себя, a сам только подписался.
– A вот посмотрим, – отвечал Самуэль, пробегая еще раз длинное послание и приостанавливаясь, для необходимых соображений, на некоторых местах. – Так, так, ты угадала, Мери. Джентльмен, писавший эту грамоту, рассказывал сам от себя все, что относилось к моей мачехе, a отец мой, должно быть, смотрел ему через плечо и перепутал все собственными дополнениями. Иначе тут и быть не могло. Какая ты разумница, Мери!
Разрешив таким образом, при содействии молодой девушки, эту трудную задачу, м‑р Уэллер снова прочитал письмо и получил на этот раз ясное и отчетливое понятие о его содержании, сделал задумчивую мину, испустил глубокий вздох и сказал:
– И так, нет больше моей мачехи! Жаль. Все же она, в сущности, была добрая женщина, хотя эти негодные кувыркатели испортили ее в конец. Очень жаль.
М‑р Уэллер произнес эти слова с таким глубокомысленным видом, что молодая девица пригорюнилась и потупила глазки.
– Ну, и то сказать, чему быть, того не миновать, – проговорил Самуэль, укладывая письмо в карман. – Горю пособить нельзя: не так ли, моя ягодка?
Мери опустила головку на грудь и вздохнула.
– Надобно теперь обратиться к старшине за отпуском, – сказал Самуэль.
Мери вздохнула опять: письмо было в самом деле слишком трогательного содержания.
– Прощай, душенька! – сказал Самуэль.
– Прощайте, м‑р Уэллер! – проговорила Мери, отворачивая головку.
– Что-ж это? Разве уж на прощаньи я не могу пожать твоей руки?
Молодая девушка протянула руку, – беленькую и нежную ручку, нет нужды, что она принадлежала скромной служанке.
– Я отлучаюсь теперь ненадолго, мой светик, – сказал Самуэль.
– Вы всегда в отлучке, м‑р Уэллер. Только и знаете, что приезжать да уезжать.
И она хотела уйти, но м‑р Уэллер заключил ее в свои объятия и между ними произошел немой, но красноречивый разговор, длившийся, впрочем, не долго. После этого разговора молодая девушка вырвалась из рук своего обожателя и убежала в свою комнату, чтоб поправить свою прическу и смятый костюм, после чего отправилась к своей госпоже.
– Я отлучусь, сэр, не больше, как на день, много на два, – сказал Самуэль, сообщив м‑ру Пикквику известие о потере, понесенной отцом его.
– Вы можете быть в отлучке, сколько угодно, Самуэль, – отвечал м‑р Пикквик. – даю вам мое полное позволение.
Самуэль поклонился.
– Скажите своему отцу, – продолжал м‑р Пикквикь, – что, если его настоящее положение требует какой-нибудь помощи с моей стороны, я готов охотно и радушно оказать ему всякое посильное содействие.
– Благодарю вас, сэр. Я не забуду сказать ему об этом.
И с этими выражениями взаимного доброжелательства и участия слуга и господин расстались.
Было семь часов вечера, когда м‑р Уэллер вышел из доркинского дилижанса и остановился во ста шагах от трактирного заведения, известного в этом предместье под именем «Маркиза Гренби». Вечер был темный и холодный. Улица имела вид мрачный и печальный. Сторы у маркиза Гренби были опущены, ставни заколочены в некоторых местах. У ворот не стояло больше ни одного из многочисленных гуляк, посещавших этот трактир. Все, казалось, было пусто и безмолвно.
Не видя ни одной живой души, к которой бы можно было обратиться с предварительными расспросами, Самуэль тихонько отворил дверь и тотчас же заметил в отдалении фигуру своего отца.
Вдовец сидел одиноко – за круглым столиком в маленькой комнате за буфетом, курил трубку, и глаза его неподвижно обращены были на камин. Похороны, очевидно, совершились в этот самый день, потому что осиротелый супруг имел на своей голове траурную шляпу, обвитую черным крепом. В настоящую минуту он был, казалось, весь погружен в созерцательное состояние духа. Напрасно Самуэль, постепенно возвышая голос, несколько раз произносил его имя: не видя и не слыша ничего, старик продолжал курить с глубокомысленным спокойствием философа, отрешенного от всех треволнений житейской суеты, и внимание его пробудилось не прежде, как сын положил свою могучую руку на его плечо.
– Самми, – сказал м‑р Уэллер старший, – здравствуй, сын мой.
– Здравствуй, старец, – отвечал Самуэль. – Я звал тебя около полдюжины раз; но ты, кажется, не слышал меня.
– Не слышал, Самми, – сказал м‑р Уэллер, устремив опять задумчивый взор на пылающий камин. – Я был в эмпиреях, друг мой Самми.
– Где? – спросил Самуэлв, усаживаясь подле отца.
– В эмпиреях, сын мой, между небом и землею. Я думал о ней, Самми.
Здесь м‑р Уэллер старший поворотил голову в направлении к доркинскому кладбищу, давая таким образом заметить, что слова его относились к покойной м‑с Уэллер.
– Я думал, друг мой Самми, – сказал м‑р Уэллер, бросая на своего сына выразительно серьезный и глубокомысленный взгляд, как будто в ознаменование, что настоящее его объяснение, несмотря на видимую странность, исполнено глубочайшей и чистейшей правды, – я думал, Самми, что мне все-таки очень жаль, что она скончалась.
– Это так и должно быть, – отвечал Самуэль. – Я не удивляюсь.
М‑р Уэллер старший одобрительно кивнул головой, затянулся, выпустил из своих губ облако дыма и опять устремил неподвижный взор на камин.
– Признания её были очень трогательны, Самми, – сказал м‑р Уэллер после продолжительного молчания, разгоняя рукою сгустившийся дым.
– Какие признания?
– Те, что она сделала мне в продолжение своей болезни.
– Что-ж это такое?
– A вот что, сын мой. – «Уэллер, – говорила она, – мне приходит в голову, что я едва-ли добросовестно выполнила свои супружественные обязанности перед тобою. Ты человек простой и добросердечный, и моим непременным долгом было – устроить твое домашнее счастье. Теперь, когда уже слишком поздно, я начинаю думать, что призвание замужней женщины состоит главным образом в исполнении разных обязанностей, которые относятся к её собственному дому, и небрежное исполнение их нельзя оправдывать страстной приверженностью к религии, частыми посещениями церквей и часовен. Я не обращала должного внимания на свои домашния обязанности и расточала свои достатки вне дома, что вело только к расстройству нашего домашнего счастья и огорчало тебя, Уэллер. Теперь поправить этого нельзя; но я надеюсь, Уэллер, что ты не помянешь меня злом после моей смерти. Думай обо мне, как о женщине, которую ты знал прежде, чем она связалась с этими людьми». – «Сусанна», – говорю я, – надобно признаться тебе, друг мой Самми, что эта речь пронзила всю мою голову, в этом я не запираюсь, сын мой, – «Сусанна, – говорю я, – ты была доброю женой, хотя мало-ли что, кто старое помянет, тому глаз вон, и, стало быть, нечего распространяться об этом. Крепись и будь мужественна, душа ты моя, и вот ты увидишь собственными глазами, как я вытолкаю в зашеек этого пройдоху Стиджинса.» – Она улыбнулась при этих словах, друг мой Самми, и тут же испустила дух, – заключил старый джентльмен с глубоким вздохом.
Последовало продолжительное молчание. Старец раскурил новую трубку и погрузился всей душой в печальные размышления, вызванные последними воспоминаниями.
– Делать нечего! – сказал наконец Самуэль, решившись пролить посильное утешение в отцовское сердце. – Все мы будем там, рано или поздно. Это есть, так сказать, общий человеческий жребий.
– Правда твоя, Самми, правда.
– Уж если это случилось, так и значить, что должно было случиться.
– И это справедливо, – подтвердил старик, делая одобрительный жест. – И то сказать, что было бы с гробовщиками, Самми, если бы люди не умирали?…
Выступив на огромное поле соображений и догадок, внезапно открытых этой оригинальной мыслью, м‑р Уэллерь старший положил свою трубку на стол, взял кочергу и принялся разгребать уголья с озабоченным видом.
Когда старый джентльмен быль занять таким образом, в комнату проскользнула веселая и зоркая леди в траурном платье, кухарка ремеслом, которая все это время суетилась в отдаленном апартаменте за буфетом. Бросив нежную и ласковую улыбку на Самуэля, она остановилась молча за спинкой кресла, где сидел м‑р Уэллерь, и возвестила о своем присутствии легким кашлем; но так как старец не обратил ни малейшего внимания на этот сигнал, она прокашлянула громче и сильнее:
– Это что еще? – сказал м‑р Уэллер старший, опуская кочергу и поспешно отодвигая кресло. – Ну, чего еще надобно?
– Не угодно-ли чашечку чайку, м‑р Уэллер? – спросила веселая леди вкрадчивым тоном.
– Не хочу, – отвечал м‑р Уэллер довольно грубо и брезгливо. – Убирайтесь… знаете куда?
– Ах, Боже мой! Вот как несчастья-то переменяют людей! – воскликнула леди, поднимая глаза кверху.
– Зато уж не будет авось других перемен: до этого мы не допустим, – пробормотал м‑р Уэллер.
– В жизнь я не видывала такой печали! – проговорила веселая леди.
– Какая тут печаль? – возразил старый джентльмен. – Все авось к лучшему, как сказал однажды мальчишка в школе, которого учитель высек розгами.
Веселая леди покачала головой с видом соболезнования и симпатии и, обращаясь к Самуэлю, спросила: неужели отец его не сделает никаких усилий над собою?
– A я вот и вчера, и третьего дня говорила ему, м‑р Самуэль, – сказала сердобольная леди, – что, дескать, печалиться не к чему, м‑р Уэллер, и горем не воротишь потери. Не унывайте, говорю, и пуще всего не падайте духом. Что делать? Мы все жалеем о нем и рады Бот знает что для него сделать. Отчаяваться еще нечего: нет таких напастей в жизни, которых бы нельзя было поправить, как говорил мне один почтенный человек, когда умер добрый муж мой.
Кончив эту утешительную речь, сердобольная леди прокашлялась три раза сряду и обратила на м‑ра Уэллера взгляд, исполненный бесконечной преданности и симпатии.
– А не угодно-ли вам выйти отсюда вон, сударыня? – сказал старый джентльмен голосом решительным и твердым. – Чем скорее, тем лучше.
– Извольте, м‑р Уэллер, – отвечала сердобольная леди. – Я говорила вам все это из сожаления, сэр.
– Спасибо, тетушка, спасибо, – отвечал м‑р Уэллер. – Самуэль, вытури ее вон и запри за нею дверь.
Не дожидаясь исполнения этой угрозы, сердобольная леди стремительно выбежала из комнаты и захлопнула за собою дверь. М‑р Уэллер старший вытер пот со своего лба, облокотился на спинку кресел и сказал:
– Надоели, проклятые! Вот что, друг мой Самми; останься я здесь еще на одну только недельку, эта женщина силой заставит меня жениться на себе.
– Будто бы! Разве она так влюблена в тебя? – спросил Самуэль.
– Влюблена! Как не так! Просто блажит, черт бы ее побрал. Сколько ни гони ее, она все увивается здесь, как змея. Будь я заперт в патентованном браминском сундуке, она в состоянии вытащить меня даже оттуда, Самми.
– Неужели! Что-ж она так льнет?
– A вот поди ты, спрашивай ее, – отвечал м‑р Уэллер старший, разгребая с особенной энергией уголья в камине. – Ужасное положение, друг мой Самми! Я принужден сидеть у себя дома, словно как в безвыходной тюрьме. Лишь только мачеха твоя испустила дух, одна старуха прислала мне окорок ветчины, другая горшок с похлебкой, третья собственными руками приготовила мне кипятку с ромашкой. Беда, да и только! И ведь все они вдовицы, Самми, кроме вот этой последней, что принесла ромашку. Это – одинокая молодая леди пятидесяти трех лет.
Самуэль бросил, вместо ответа, комический взгляд. Старый джентльмен между тем, снова вооружившись кочергой, ударил со всего размаха по углям, как будто он собирался поразить ненавистную голову какой-нибудь вдовы.
– Я чувствую, Самми, что одно мое спасение – на козлах, – заметил старец.
– Это отчего?
– Да оттого, друг мой, что кучер может знакомиться с тысячами женщин на расстоянии двадцати тысяч миль и при всем том никто не имеет права думать, что он намерен жениться на которой-нибудь из них.
– Да, тут есть частица правды, – заметил Самуэль.
– Если бы, примером сказать, старшина твой был кучером или извощиком, думаешь-ли ты, что на суде присяжных произнесли бы против него этот страшный приговор? Нет, друг мой, плоха тут шутка с нашим братом. Присяжные непременно обвинили бы бессовестную вдову.
– Ты уверен в этом?
– Еще бы!
С этими словами м‑р Уэллер набил новую трубку табаку и после глубокомысленного молчания продолжал свою речь в таком тоне:
– И вот, друг мой, чтобы не попасть в просак и не потерять привилегий, присвоенных моему званию, я хочу покинуть это место раз навсегда, жить себе на ямских дворах, в своей собственной стихии.
– Что-ж станется с этим заведением? – спросил Самуэль.
– Распродам все как есть и из вырученных денег две сотни фунтов положу на твое имя в банк для приращения законными процентами. Этого именно хотела твоя мачеха: она вспомнила о тебе дня за три до смерти.
– Очень ей благодарен, – сказал Самуэль. – Двести фунтов авось мне пригодятся на черный день.
– A остальную выручку также положу в банк на собственное свое имя, – продолжал м‑р Уэллер старший; – и уж, разумеется, как скоро протяну я ноги, друг мой Самми, все эти денежки, и с процентами, перейдут в твой собственный карман. Только ты не истрать их за один раз, не промотай, сын мой, и пуще всего берегись, чтобы не поддедюлила тебя и с этим наследством какая-нибудь вдовушка. Это главное: если спасешься от вдовы, можно будет надеяться, что из тебя выйдет хороший человек.
Этот спасительный совет, казалось, облегчил тяжкое бремя на душе м‑ра Уэллера, и он принялся за свою трубку с просиявшим лицом.
– Кто-то стучится в дверь, – сказал Самуэль.
– A пусть себе стучится, – отвечал отец.
Оба замолчали. Стук между тем повторился и не умолкал в продолжение трех или четырех минут.
– Отчего ж ты не хочешь впустить? – спросил Самуэль.
– Тсс, тсс! – отвечал отец, боязливо мигая на своего сына. – Не обращай внимания, Самми: это, должно быть, опять какая-нибудь вдова.
Отчаявшись, наконец, получить ответ на многократно повторенный стук, невидимый посетитель, после кратковременной паузы, приотворил дверь и заглянул. То была не женская фигура. Между дверью и косяком выставились длинные черные локоны и жирное красное лицо достопочтенного м‑ра Стиджинса. Трубка м‑ра Уэллера выпала из рук.
Отверстие между косяком и дверью постепенно становилось шире и шире. Наконец, достопочтенный джентльмен осторожно перешагнул через порог и тщательно запер за собою дверь. Сделав необходимое обращение к Самуэлю и подняв к потолку свои руки и глаза в ознаменование неизреченной скорби по поводу рокового бедствия, разразившегося над фамилией, м‑р Стиджинс придвинул к камину кресло с высокой спинкой, сел, вздохнул, вынул из кармана серый шелковый платок и приставил его к своим заплывшим глазам.
Пока совершалась эта церемония, м‑р Уэллер старший оставался неподвижным, будто прикованный к своему месту: он смотрел во все глаза, обе руки его лежали на коленях, и вся его физиономия выражала необъятную степень изумления, близкого к остолбенению. Самуэль сидел безмолвно насупротив отца и, казалось, ожидал с нетерпеливым любопытством, чем кончится эта сцена.
Несколько минут м‑р Стиджинс держал серый платок перед своими глазами, вздыхал, всхлипывал, стонал; преодолев, наконец, душевное волнение, он положил платок в карман и застегнулся на все пуговицы. Затем он помешал огонь, потер руки и обратил свой взор на Самуэля.
– О, друг мой, юный друг! – сказал м‑р Стиджинс, прерывая молчание весьма слабым и низким голосом. – Что может быть ужаснее этой поистине невозвратимой потери?
Самуэль слегка кивнул головой.
– Известно-ли вам, друг мой, – шепнул м‑р Стиджинс, придвигаясь к Самуэлю, – что она оставила нашей церкви?
– Кому?
– Почтенной нашей церкви, м‑р Самуэль.
– Ничего она не оставила, – отвечал Самуэль решительным тоном.
М‑р Стиджинс лукаво взглянул на Самуэля, оглядел с ног до головы м‑ра Уэллера, сидевшего теперь с закрытыми глазами, как будто в полузабытьи, и, придвинув свой стул еще ближе, сказал:
– И мне ничего не оставила, м‑р Самуэль?
Самуэль сделал отрицательный кивок.
– Едва-ли это может быть, – сказал побледневший Стиджинс. – Подумайте, юный друг мой: неужели ни одного маленького подарка на память?
– Ни одного лоскутка, – отвечал Самуэль.
– А, может быть, – сказал м‑р Стиджинс после колебания, продолжавшегося несколько минут, – может быть, она поручила меня попечению этого закоснелого нечестивца, отца вашего, м‑р Самуэль?
– Очень вероятно, судя по его словам, – отвечал Самуэль. – Он вот только-что сейчас говорил об вас.
– Право? Так он говорил? – подхватил м‑р Стиджинс с просиявшим лицом. – Стало быть, великая перемена совершилась в этом человеке. Радуюсь за него душевно и сердечно. Мы теперь можем жить с ним вместе дружелюбно и мирно, м‑р Самуэль. – Не правда ли? Я стану заботиться о его собственности, как скоро вы уйдете отсюда, и уж вы можете составить понятие, как здесь все пойдет в моих опытных руках.
И затем, испустив глубочайший вздох, м‑р Стиджинс приостановился для ответа. Самуэль поклонился. М‑р Уэллер старший произнес какой-то необыкновенный звук, не то стон, не то вой, не то скрежет, не то зык, но в котором, однако ж, странным образом сочетались все эти четыре степени звука.
Осененный внезапным вдохновением, м‑р Стиджинс прозрел в этом звуке явственное выражение сердечного раскаяния, соединенного с угрызением. На этом основании он оглянулся вокруг себя, потер руки, прослезился, улыбнулся, прослезился опять и затем, тихонько подойдя к хорошо знакомой полочке в известном углу, взял стаканчик и осторожно положил четыре куска сахару. Совершив эту предварительную операцию, он еще раз испустил глубокий вздох и устремил на потолок свои глаза. Затем, переступая незаметно с ноги на ногу, он побрел в буфет и скоро воротился с бутылкой рому в руках. Отделив от него обыкновенную порцию в стакан, он взял чайную ложечку, помешал, прихлебнул, еще помешал и уже окончательно расположился в креслах кушать пунш.
М‑р Уэллер старший не произнес ни одного звука в продолжение всех этих приготовлений; но как только м‑р Стиджинс уселся в креслах, он вдруг низринулся на него стрелою, вырвал стакан у него из руки, выплеснул остаток пунша на его лицо и разбил стакан о его лоб. Затем, схватив достопочтенного джентльмена за шиворот, он повалил его могучею рукой, дал ему пинка и, произнося энергические проклятия, потащил его к дверям.
– Самми, – сказал м‑р Уэллер, – надень на меня шляпу. Живей!
И лишь только Самуэль нахлобучил своего родителя, старый джентльмен вытащил Стиджинса из дверей в коридор, из коридора на крыльцо, с крыльца на двор, со двора на улицу, продолжая все это время давать ему пинки, один другого сильнее и беспощадней.
Уморительно и вместе отрадно было видеть, как красноносый джентльмен кувыркался, метался, барахтался и хрипел в могучих объятиях раздраженного старца, который, наконец, в довершение потехи, погрузил его голову в корыто, наполненное водою для утоления жажды лошадей.
– Вот тебе, пастырь, вот тебе! – сказал м‑р Уэллер, поддавая окончательного туза в спину м‑ра Стиджинса. – Скажи всем этим своим негодным товарищам, лицемерам, тунеядцам и ханжам, что я боюсь, при случае, перетопить всех до одного, если не в корыте, так в помойной яме.
– Пойдем домой, Самми. Налей мне стакан водки. Совсем измучился с этим негодяем.







