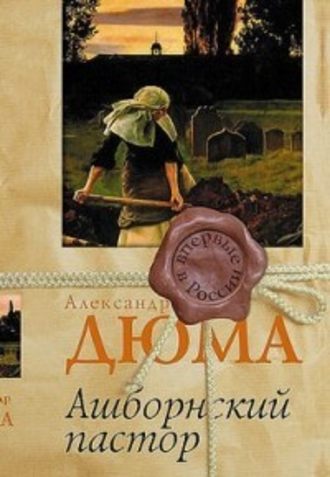
Александр Дюма
Ашборнский пастор
X. Что мы увидели в замурованной комнате
Хотя мы стояли в различных позах, взгляды наши устремились в глубину комнаты одновременно.
Ставни были закрыты, и, если не считать нескольких щелей, через которые, казалось, просовывались разрушительные когти времени, ни одно окно не пропускало свет снаружи, и потому в комнате было темно.
Тем не менее, благодаря скудному свету, проходившему через открытую дверь, мрак оказался не настолько густым, чтобы в полутьме нельзя было разглядеть между двумя окнами старый сундук, напротив него – старую кровать, несколько колченогих стульев и несколько трухлявых табуреток, в беспорядке стоявших на полу.
И тут я неожиданно для самого себя побледнел, протянул вперед руку и выкрикнул:
– Дама в сером! Дама в сером!
Мэри не стала слушать мои крики и понеслась вниз по лестнице, спустившись на пять-шесть ступенек.
Спустившись на эти пять-шесть ступенек, она обернулась.
Увидев, что я не последовал ее примеру, а сел на ступеньку там же, где стоял, все так же указывая на что-то рукой, Мэри овладела собой, медленно, ступенька за ступенькой, поднялась ко мне, бормоча все время: «Где она? Где она?» – и, наверное, от страха забыв о дистанции, существующей между служанкой и хозяином, фамильярно оперлась о мое плечо:
– Так что же такое вы увидели, господин Бемрод?.. Да говорите же!
Не знаю почему, дорогой мой Петрус, но я упорно хранил молчание; конечно, в этом молчании не было ни упрямства, ни высокомерия. Я два-три раза попытался заговорить, но голос застрял у меня в гортани, vox faucibus haesit,[467] не в силах подняться к губам.
Я только показывал на предмет, с первого взгляда принятый мною за даму в сером, предмет, который мои глаза, привыкнув к полутьме, стали различать все яснее и который оказался подвешенной возле кровати женской одеждой, украшенной сверху чепчиком.
Дело в том, что через разбитое оконное стекло и щель в ставне в комнату проникал ветерок и, чуть шевеля ткань, придавал безжизненной, пустой одежде видимость жизни и движения.
– Ну, так что же? – спросила Мэри.
Я продолжал указывать пальцем на предмет, так нас напугавший.
– Там? – прошептала Мэри. – Там?
И она протянула руку в том направлении, в каком указывал я. В результате нового усилия слово все-таки сорвалось с моих губ.
Правда, это слово представляло собой всего лишь один слог.
– Да, – произнес я.
– Ах, вот это! Но разве вы не видите: то, что вы мне показываете, это всего лишь старое платье, висящее на стене?!
Странное дело галлюцинация, дорогой мой Петрус! И как понятно стало мне теперь, что такое пресловутый мираж, обманывающий в пустыне путешественников: он их влечет к себе, но как только путешественники добираются до опушки оазиса или к воображаемому озеру, те внезапно исчезают!
От этих простых слов служанки иллюзия развеялась, дама в сером исчезла, а предметы у меня перед глазами обрели свой подлинный облик.
– Ах! – воскликнул я и рассмеялся над самим собой, а еще, быть может, радуясь тому, что мы, оказывается, имели дело не с покойницей, а с ее одеждой. – Хорошенькая история!
И я попытался встать; но, знаете ли, дорогой мой Петрус, смех так меня обессилил, что мне не удалось сразу встать на ноги и я снова упал навзничь.
– Хорошенькая история, если вам такое угодно, господин Бемрод! – воскликнула Мэри. – А вот я называю это скверной шуткой… Господи Иисусе! Если вы ничего не боитесь, если вы отважны, как Иуда Маккавей,[468] разве это дает вам право пугать до смерти бедную женщину?!.. Ах, – продолжала она, входя в комнату, – ведь это я впервые сюда захожу… А знаете ли, господин Бемрод, вы хотя и служитель церкви, но немного шутник!
И с этими словами Мэри приблизилась к изножью кровати.
Тут она обернулась и позвала меня:
– Подойдите-ка сюда!
Пока она шла в глубь комнаты, я встал на ноги.
– Ну, что же вы не идете? – спросила Мэри.
– Дорогая моя, – откликнулся я, – наверное, вот уже три года, как эти окна не открывались, и комната должна ужасно пахнуть затхлостью, а дурные запахи я просто не переношу… Сначала откройте окна, а потом я войду!
– Да, это верно, господин Бемрод, – согласилась славная Мэри, – и вправду комната нуждается в проветривании… Погодите, сейчас я так и сделаю…
И она, подойдя сначала к одному окну, затем – к другому, открыла оконные рамы и толкнула наружу сместившиеся ставни.
В комнату ворвался свет и заполнил ее, как вода заполняет водоем, когда один за другим поднимают шлюзы, – валами, волнами, потоками.
Я никогда не видел ничего печальнее этой комнаты, где каждая вещь словно являла собой воплощенный пример евангельского изречения: «Ибо прах ты и в прах обратишься».[469]
И правда, казалось, что стоит любому из этих предметов соприкоснуться с чем-то плотным и твердым – и он рассыплется в прах.
Обои свисали лохмотьями; остов кровати перекосился, и тюфяки сползли на пол; пол, составленный из плиток, покрылся слоем пыли толщиной в полпальца, казавшимся прахом трех столетий; украшавшее камин зеркало, по-видимому, утратило в безлюдье и темноте всякую способность отражать предметы; наконец, то, что особенно поразило мое воображение, – вившиеся на полу веревки различной длины и толщины, наводившие на мысль о том, что кто-то выбрал из них подходящую, а остальные пренебрежительно бросил.
Завершив этот общий обзор, я остановил свой взгляд отдельно на тех предметах, которые, похоже, заслуживали моего внимания.
Прежде всего это был набор одежд, которые, покачиваясь, висели на гвозде у изголовья кровати, явно не изведав прикосновения ничьей руки с тех пор, как у них, по всей вероятности, отняли мертвое тело дамы в сером.
Этот набор одежд, принятый мною за саму даму в сером и внушивший мне такой ужас, что у меня отнялись ноги – и я, дорогой мой Петрус, могу Вам в этом признаться теперь, когда, благодаря присущей мне силе воли, я вошел в эту комнату и осмотрел ее так бесстрашно, как мог бы это сделать только самый смелый человек трех королевств,[470] – так вот, этот набор одежд состоял из чепчика, нагрудника, какие носили в середине шестнадцатого века женщины среднего общественного положения, юбки, некогда белой, а ныне ставшей серой, и серого платья, ставшего черным.
Мы распознавали эти различные одежды, приподнимая их одну за другой, ведь снять их с гвоздя, чтобы тщательно осмотреть, Мэри из робости, впрочем простительной ее полу, отказалась наотрез, хотя я и предлагал ей взять эти одеяния в подарок.
По правде говоря, я предлагал ей не лучший подарок!
Все в целом нельзя было бы продать тряпичнику даже за два пенса, настолько обветшали ткани – то ли под воздействием времени, протекшего с тех пор, когда одежды были повешены на гвоздь, то ли из-за пользования ими носившей их особой, прежде чем эта особа сняла их, чтобы войти в вечность так же, как она оттуда вышла.
Но не из-за ветхости тканей Мэри отказалась от подарка; она без обиняков заявила, что не только носить одеяния покойной, но даже прикоснуться к ним значило бы навлечь на себя несчастье.
Как Вы, конечно, догадываетесь, я расхохотался, столкнувшись с подобным суеверием, и, чтобы показать бедной женщине всю меру презрения, какое оно у меня вызывало, протянул руку к этим нарядам.
Но, как только я к ним прикоснулся, гвоздь, несомненно изъеденный ржавчиной, распался и все одежды, с мрачным шелестом скользнув по стене, упали на пол и подняли вокруг себя облачко зловещей пыли, какая поднимается из глубины иссушенных гробниц.
– О господин Бемрод, – вскричала Мэри, – вы коснулись одежд дамы в сером, и это навлечет на вас беду!
Сколь бы смехотворным ни было это предсказание, в голосе Мэри звучала такая убежденность, слова ее были произнесены в таком сумрачном месте, а обстоятельства, в которых мы оказались, были столь необычными, что, должен сказать Вам, дорогой мой Петрус, я почувствовал, как дрожь прошла по моему телу.
И тут мне пришла в голову другая мысль, ничуть не ослабившая впечатления от первой: а что если одеяния, которых я сейчас коснулся и которые затем столь быстро упали от прикосновения моей руки, являются теми одеждами, какие дама в сером носила как раз для того, чтобы являться людям.
В таком случае я прикоснулся к одеянию не только покойницы, но и к одеянию призрака, что гораздо хуже.
Так что я с ужасом отпрянул от этих одежд, оставшихся на том же месте, куда они упали.
Затем я стал осматривать шкафы.
В том, что стоял у камина, хранилось несколько предметов кухонной утвари, и это доказывало, что дама в сером сама занималась приготовлением еды, причем в своей убогой комнате; в остальных шкафах лежало лишь несколько лохмотьев старого белья – то ли столового, то ли нательного.
О манускриптах, о документах, которые могли бы дать хоть какие-то сведения относительно этой мрачной истории здесь не было и речи.
Мы разыскивали их настолько тщательно, что открыли каждый стенной шкаф, приподняли каждую рамочку и даже заглянули за уже упомянутое помутневшее зеркало, похожее на мертвый стеклянный глаз этой печальной комнаты, надеясь найти там хоть клочок пергаментной рукописи или бумаги с печатным текстом.
Но, повторяю, дорогой мой Петрус, мы там совершенно ничего не обнаружили.
Какое-то тревожное чувство, для Вас, впрочем, вполне понятное, заставило меня ускорить поиски.
Меня беспокоило то, что дверь останется открытой, а стена – разрушенной; такое обстоятельство весьма благоприятствовало тому, чтобы дама в сером совершала свои ночные прогулки.
Отчаявшись найти хоть какие-то нужные мне сведения, я решил закрыть дверь и как можно скорее вновь ее замуровать.
Осмотрев повреждения, нанесенные мною, я пришел к выводу, что закрыть ее снова – дело неосуществимое.
Та часть стены, куда входила замочная задвижка, была разломана.
Так что мне потребовались бы одновременно и слесарь, и каменщик.
А вот замуровать проделанное мною отверстие в стене было не столь уж сложно.
Для этого мне понадобились бы только известковый раствор и несколько кирпичей, которым вместе с обломками стен предстояло заменить кирпичи, разрушенные скарпелем или ломом.
У меня было промелькнула мысль послать Мэри к каменщику за ведром известкового раствора и мастерком, а самому в это время постеречь дом, но я опасался, что она, пребывая во вполне понятном смятении после предпринятой нами вылазки, не сумеет попросить именно то, что мне нужно, а потому предпочел оставить ее в доме и самому пойти к каменщику.
Итак, я сообщил ей мое решение и предложил спуститься на первый или второй этаж, если ей страшно остаться здесь, на третьем, но она мне спокойно ответила:
– Обо мне не беспокойтесь, господин Бемрод; идите за вашим ведром с известью и за мастерком, а я тем временем буду еще искать – вдруг найдутся какие-нибудь сведения об этой бедной неприкаянной душе, которой Господь по милости своей предоставил на долгие годы место в чистилище, где она пребывает и поныне!
– Хорошо, Мэри, – согласился я, – у меня было желание остаться здесь, а вас послать к каменщику, но, если вам не страшно…
– Простите, господин Бемрод, – перебила меня служанка, – вам хочется, чтобы я туда пошла, а вы остались здесь? В таком случае…
– Нет, нет, – живо возразил я, – раз уж мы договорились, то пусть все так и будет.
И, перескакивая через несколько ступенек, я сбежал вниз, предоставив бесстрашной Мэри продолжить поиски.
Дорогой мой Петрус, я назвал ее бесстрашной, поскольку, даже учитывая, в конце концов, что мужество этой женщины, вне всякого сомнения, обусловлено низким уровнем ее душевного склада, который не позволяет чувствам простых людей быть такими же тонкими и глубокими, как у натур утонченных, я не могу, тем не менее, не отдать должное ее бесстрашию.
Ибо если я и не человек праведный, о котором говорит поэт Гораций,.[471] то, по крайней мере, человек беспристрастный, о котором говорит апостол Павел[472]
XI. Важная новость
Уже через четверть часа я вернулся с предметами, за которыми отправлялся.
Правда, я поостерегся сказать каменщику, для чего мне нужно на время его ведро и его мастерок и зачем я покупаю у него известковый раствор.
Быть может, он не захотел бы мне его продать; быть может, он не захотел бы дать мне на время свое ведро и свой мастерок.
Я сослался на необходимость починить стену пасторского двора.
Поскольку калитка в мой двор будет закрыта, кто может знать, какую стену я чиню?
Итак, я закрыл калитку и поднялся на третий этаж с мастерком, известковым раствором и ведром.
Пока я отсутствовал, Мэри не прекращала поисков, но ничего не нашла. Для меня стало очевидным: если какие-то бумаги и пережили все это бедствие, искать их следовало не в комнате дамы в сером, а в каком-то другом месте.
В конце концов, благодаря только что совершенному великому деянию я все же добился результата, убедившись в том, что в комнате совершенно никого не было.
Никакой призрак, никакое привидение, никакой выходец с того света не воспротивились предпринятому нами скрупулезному осмотру помещения.
Заделывая отверстие в стене, я оставлял за ней пустую комнату.
А раз так, то кто мог бы отныне выйти из этой комнаты? Ведь в ней не было даже того, что я какое-то мгновение боялся увидеть, – трупа!
Поэтому я велел Мэри закрыть окна, что было вполне естественно, поскольку она их и открыла.
Впрочем, выполнить это не составило ей никакого труда.
Затем она вышла.
Конечно, Мэри сделала робкую попытку отпроситься домой, чтобы приготовить мужу ужин, но мне был нужен помощник, и я ее задержал.
Зная меня только в качестве ученого и философа, Вы, дорогой мой Петрус, можете усомниться в моей способности выполнить затеянную мною работу, но, к счастью, отец, вырастивший меня, воспитал меня более разносторонним, чем Вы полагаете, научив меня основам разных ремесел.
Это прежде всего проистекало из его замысла сделать меня моряком дальнего плавания.
А потому «Робинзон Крузо» был любимой книгой моей юности.[473]
Так вот, мой добрейший отец хотел, чтобы я, оказавшись по воле судьбы на необитаемом острове, подобно герою Даниеля Дефо, смог бы, так же как он, найти в самом себе все те способности, какие хозяин Пятницы[474] столь находчиво использовал для облегчения тягот своей одинокой жизни.
Я был немного живописцем: доказательством тому могут послужить для Вас мои росписи в комнате Дженни.
Я был также немного столяром, немного слесарем и, наконец, немного каменщиком.
Так что мне следовало лишь вспомнить навыки, усвоенные в юности, когда я сооружал будки для собак, курятники и клетки для кроликов.
А теперь, в связи с «Робинзоном», я сообщу Вам об одном моем глубоком наблюдении, какого, осмелюсь сказать, до меня никто еще не делал.
Вот Вы скажете мне: то, что уже превращает и превратит в будущем английский народ в народ мореплавателей по преимуществу, а Англию – в королеву океанов, это ее местонахождение среди морей.
Но это не так, дорогой мой Петрус.
Все дело в том, что случай, а вернее Провидение, дало нашей стране самый увлекательный роман странствий.
В Великобритании любой ребенок учится читать по «Робинзону Крузо» или читает его, как только научится читать.
Хотя Робинзон Крузо пережил кораблекрушение, изведал одиночество, испытал треволнения, подвергался опасностям, – любой ребенок стремится стать им.
А чтобы стать им, любой ребенок мечтает быть моряком.
Так что не куда-нибудь, а именно к морю, к океану, к бесконечности устремлены взоры трех четвертей мужского населения Англии в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.
Так что же удивительного в том, что этот народ, для которого мореплавание является не только привычным делом, но и объектом честолюбивых устремлений, стал в один прекрасный день первым во всем мире народом-мореплавателем и первым во всем мире народом-негоциантом?!
Все эти размышления приходят мне в голову сейчас, когда я пишу Вам, дорогой мой Петрус, и заношу их на бумагу; но, должен сказать, возводя стену, я думал совсем о другом.
Когда окна были закрыты и комната погрузилась в прежнюю темноту, она вновь обрела мрачно-фантастический облик.
Чем дальше продвигалась моя работа, тем ближе к вечеру подходил день, и, хотя у меня не хватило времени даже на обед и я не позволил пообедать Мэри, ночь наступила очень быстро.
К счастью, мое мастерство возрастало в той мере, в какой я его применял; под конец мои руки управлялись с кирпичами так же умело, как руки настоящего каменщика.
Орфей[475] со своей лирой никогда не строил так быстро, как я возводил стену при помощи моего мастерка!
Правда, вместе с тем как отверстие сужалось, находящиеся в комнате предметы, как мне казалось, то ли оживали, то ли приобретали устрашающий облик.
В иные мгновения мне казалось, что я вижу, как связки веревок на полу свиваются и развиваются словно ужи; мне казалось, что дверцы шкафов, которые мы увидели открытыми и которые Мэри затем тщательно закрыла, вновь со скрипом открылись; наконец, мне казалось, что эти одежды, которые по моей вине упали на пол, подняв целую тучу зловещей пыли, вновь висят вдоль стены на прежней высоте, на том же месте, где они были, когда я вошел в комнату, и вновь обрели облик стоящей на ногах женщины, готовой двинуться в мою сторону.
Я сделал все эти наблюдения, но не решился сообщить их Мэри, опасаясь, что она сочтет меня духовидцем, а быть может, это и вправду было видением.
Однако, дорогой мой Петрус, я был убежден, что вижу, как свиваются и развиваются веревки на полу, как снова открываются шкафы, а одежды вновь занимают свое место на стене.
И в этом я был убежден настолько, что, быть может, ради большей уверенности разрушил бы результаты собственного труда, хотя мне для его завершения оставалось только бросить лопатку известкового раствора, но тут я услышал стук колес, а затем несколько ударов в дверь дома.
Я бросил на стену последнюю порцию известкового раствора, подровнял его мастерком и быстро спустился открывать дверь.
Я открыл ее и вскрикнул от радости: передо мною стояла Дженни.
Она бросилась в мои объятия и сразу же заявила:
– Радуйся, друг мой! Новость, которой мне следует поделиться с тобой, я принесла тебе сама: Господь по милости своей исполнил самое заветное и твое и мое желание: я беременна!
У меня снова вырвался крик, но не могу сказать, крик радости или ужаса, хотя знаю одно: я вскрикнул точно так же, когда под нажимом моего лома открылась комната дамы в сером.
Вам, дорогой мой Петрус, нетрудно понять: эта новость, которая в любой другой обстановке, в любое другое время стала бы полным осуществлением моих самых горячих желаний, теперь, в наших нынешних обстоятельствах, внушала мне самые страшные опасения.
Вы согласитесь, мой друг, как это странно, на самом деле, когда реальное совпадает с фантастическим.
Мое весьма спокойное отношение к даме в сером, мужество, которое я проявлял во всех случаях, когда в нем возникала необходимость, проистекали прежде всего из уверенности, что дама в сером бессильна предпринять что-либо против меня и Дженни, поскольку она могла приносить беду лишь детям, родившимся в пасторском доме, и особенно, если эти дети – близнецы.
Дженни уехала. Я воспользовался ее отсутствием, чтобы предпринять самое смелое действие, какое, быть может, когда-либо совершал смертный с тех пор, когда Геркулес освободил из преисподней Тесея,[476] а Орфей отправился к Плутону[477] с просьбой вернуть ему Эвридику. Я черпал свою отвагу по большей части из мысли, что Дженни бесплодна, и вот, в тот самый миг, когда под моей рукой исчезли следы моего почти легендарного похода в это новое царство мертвых, появляется Дженни и первое, что я слышу из ее уст, это: «Радуйся, друг мой! Я беременна!»
Беременна!.. Бедная Дженни! Теперь и ты, подобно другим матерям в пасторском доме, подвергаешься опасности встретиться с дамой в сером!
Поэтому я поклялся самому себе, что Дженни никогда не узнает о происшедшем в ее отсутствие.
Тем не менее правда и то, что сообщив мне новость, которую сердцу жены столь отрадно передать сердцу мужа, Дженни по исказившимся чертам моего лица увидела, что эта новость произвела на меня совсем иное впечатление, чем она ожидала.
Но, обладая столь проницательным умом, а вернее – столь умным сердцем, она тотчас догадалась, что же напугало меня в этой благословенной вести.
– Хорошо, – сказала она, посмеиваясь, – вижу, мой дорогой фантазер думает о даме в сером, а я, забыв о ней, надеялась, что и он больше не думает о ней!
– Ах, – отвечал я ей, – ты, дорогая моя Дженни, ты была далеко отсюда, в нашем очаровательном ноттингемском крае, в то время как я оставался среди этих мерзких гор, в этом сумрачном пасторском доме…
– Этот сумрачный пасторский дом станет веселым, улыбчивым и радостным, когда наш ребенок, наш Уильям или наша Дженни, наполнит его своим смехом и осветит своим присутствием!
– Да, – пробормотал я, – это так, если по милости Господней этот ребенок придет к нам один; а что, если у нас появятся двое близнецов?..
И с тяжким вздохом я вошел в дом.







