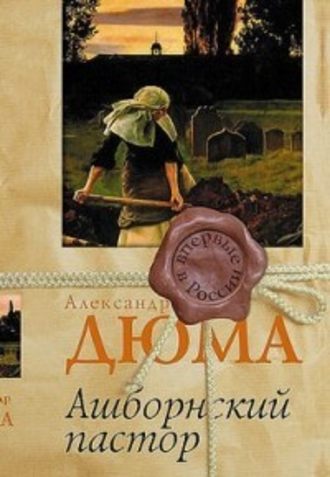
Александр Дюма
Ашборнский пастор
XVIII. Что может выстрадать женщина (Рукопись женщины-самоубийцы. – Продолжение)
Не помню, как я оказалась сидящей на земле и как пробыла в таком положении, без сил, подавленная, несколько часов: когда я пришла в себя, уже начало смеркаться.
За это время ко мне подошло несколько человек, они смотрели на меня, заговаривали со мной, но я видела и слышала их словно сквозь какую-то облачную пелену.
Пошатываясь, я встала и, сжав свою не державшуюся на плечах голову ладонями, пошла по дороге обратно в Уэстон.
За час я добралась туда.
Все вокруг было озарено дивным лунным светом; пастор стоял на пороге дома.
Жена его сидела на скамье, держа на обоих коленях по ребенку.
Эти дети, полные жизни, здоровья и сил, со смехом продолжали играть, драться, бороться даже на коленях матери.
Разлученная с мужем смертью, а с дочерью – нищетой, я, видя эту женщину рядом с ее мужем, с ее детьми, сидящими на ее коленях, испытала такое острое чувство зависти, что испугалась себя самой.
Поэтому, хотя я редко заговаривала с пастором и его женой, воспринимавших меня как обузу и, следовательно, едва переносивших меня, я остановилась и, чтобы преодолеть это низменное чувство, обратилась к женщине:
– Сударыня, вы счастливая мать, у вас двое прекрасных детей! Не позволите ли вы мне их поцеловать?
От моей просьбы женщина вздрогнула, словно от ужаса; ее муж протянул руку вперед, будто желая оттолкнуть меня; оба ребенка спрыгнули с материнских колен и бросились бежать с криком:
– Мы не хотим целовать даму в сером!
Увы! Так называли меня в пасторском доме и даже в деревне.
Черное платье, мое траурное платье, выцвело и стало серым, как я уже говорила, и мне дали прозвище по цвету моего платья.
Такое всеобщее брезгливое отношение ко мне просто уничтожало меня.
Только что оторвавшая от себя свою единственную любовь, я почувствовала себя в тройном кольце ненависти.
Вернулась я в пасторский дом с опущенной головой и со смертной тоской на душе.
Я вошла в неосвещенную комнату и в ту минуту, когда стала зажигать свечу, остановилась.
Зачем мне здесь свет?
В темноте ли, при свете ли, я все равно была одна.
Одиночество чувствуешь сердцем еще яснее, чем оно видится глазами.
Я провела мучительную ночь, быть может, еще более мучительную, чем первую после смерти моего бедного супруга.
Когда умер мой муж, у меня оставался мой ребенок.
Когда же отсутствовал мой ребенок, у меня ничего не оставалось!
Наступил день.
С предыдущего вечера в комнате еще оставалось немного хлеба и воды, так что в этот день мне не нужно было выходить из дома; я съела хлеб и запила его водой.
Что еще мне было нужно? Разве мои слезы не придавали одинаковой горечи любому питью и любой пище?
Я вышла из комнаты только на третий день, чтобы пополнить свои съестные припасы.
Живя так, как я прожила эти три последних дня, я могла продержаться полгода на оставшиеся у меня две золотых монеты.
А в конце концов, зачем мне жить как-то иначе?
У меня была книга, утолявшая все другие нужды, – Библия.
Я читала Библию, и, когда мои глаза от усталости сами собой ускользали от книги, взгляд мой поднимался к Небу, руки мои сами собой падали на колени и я думала о моей Бетси.
На пятый день я получила от нее письмо.
Дорогая бедная девочка! Она ждала оказии, лишь бы только мне не пришлось потратить на ее письмо один пенни, который почта берет за пересылку письма из Милфорда в Уэстон.
Простодушное дитя! Ей и в голову не приходило: за то, чтобы получить ее письмо двумя днями, двумя часами, двумя минутами раньше, я охотно отдала бы две мои последние золотые монеты!
Бетси писала мне, что г-н Уэллс (так звали ее хозяина) принял ее уважительно, но холодно; в предварительной беседе он перечислил все те обязанности, которые ей предстояло выполнять, затем ввел ее в нечто вроде стеклянной клети, где ей и предстояло пребывать, сидя за столом среди книг, реестров и папок с семи часов утра до пяти часов вечера.
Воскресенья, разумеется, исключались. В воскресенье у г-на Уэллса, непреклонного протестанта, в доме закрывалось все, вплоть до окон.
Именно в воскресенье Элизабет приглашала меня навестить ее. Мы могли бы провести вместе час в промежутке между двумя церковными службами.
Я ждала этого воскресенья с величайшим нетерпением, но накануне его я получила от дочери записочку и поспешно открыла ее; мне показалось, что ее почерк чем-то изменился.
Наверно, я ошибалась.
Элизабет просто-напросто сообщала мне, что г-н Уэллс пожелал увезти ее в деревню вместе со своими двумя дочерьми, а она не осмелилась воспротивиться этому решению, впрочем для нее самой приятному; что, следовательно, мне нет смысла приезжать в Милфорд, поскольку ее там не будет.
Бетси просила меня отложить мой визит на две недели.
К письму была приложена гинея.[531]
Бетси попросила г-на Уэллса, если это возможно, продать ее вышивки, работу над которыми она была вынуждена прервать из-за спазм, вызванных ее чрезмерным прилежанием. Господин Уэллс воздал должное этим вышивкам, подарив их своим дочерям, и те заплатили Элизабет, оценив их по своему усмотрению.
Два-три обморока моей бедной Бетси оценили в одну гинею!
Моему отчаянию и моим слезам не было предела.
Я поцеловала гинею и отложила ее, вздыхая и говоря самой себе: «Что ж, дождемся второго воскресенья…»
Но почему же она отложила мой визит до второго, а не до первого воскресенья?
Господи Боже, что станется со мною за эти две недели?
Я попробовала выйти и прогуляться по саду, но увидела, что смущаю обоих детей и внушаю беспокойство их родителям.
Однако о чем я их просила? О пустяке или почти о пустяке: позволить мне предаваться по вечерам своим мыслям под этим старым эбеновым деревом, где с наступлением темноты никто не решался сесть и помечтать.
С тех пор как сад перестал быть моим, мне это место казалось особенно привлекательным для того, чтобы на этой мрачной скамье, затерявшейся под густой листвой, предаваться мыслям об ушедших от нас.
Пришлось от этого желания отказаться: устав уэстонского прихода подтверждал мое право на комнату в пасторском доме, но в нем не было оговорено мое право на прогулки по саду.
В конце концов, время проходит как для счастливых, так и для несчастных, как для тех, кто страшится, так и для тех, кто надеется.
Мало-помалу столь долгожданный воскресный день приближался.
Предшествовавшие ему пятницу и субботу я провела в страхах.
Я поминутно вздрагивала при одной только мысли, что могу получить письмо, отменяющее мой приход.
К счастью, никакого письма я не получила.
Проснулась я на заре.
Хотя, принимая во внимание строгие семейные обычаи г-на Уэллса, дочь советовала мне появиться в его доме не раньше одиннадцати, то есть по окончании обеденной службы, в шесть утра я уже была готова отправиться в путь.
В семь, уже не силах справляться с охватившим меня нетерпением, я вышла из дома.
В восемь я уже подходила к окраине Милфорда, как раз к тому месту, где мы с Элизабет расстались.
В городе я оказалась на три часа раньше назначенного времени.
Я стала ждать под тем самым кустом, у которого сидела месяц тому назад, когда рассталась с моей бедной девочкой, приведя ее в Милфорд.
Но не прошло и часа, как ожидание стало для меня невыносимым.
Я поднялась, вошла в город, расспросила, в каком квартале живет г-н Уэллс, и зашагала к его дому, расположенному на углу улиц Святой Анны и Королевы Елизаветы.
Ошибиться было невозможно: на табличке, прибитой над входом, я прочла написанные крупными буквами слова:
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОМАСА УЭЛЛСА И КОМПАНИИ
Все двери и окна были закрыты, и дом походил на огромный склеп.
Обеденная служба начиналась точно в половине десятого.
Расположившись под стеной соседнего дома и опустив капюшон моей накидки на глаза как можно ниже, чтобы скрыть лицо, я снова стала ждать.
По крайней мере, отсюда я бы заметила появление моей девочки и на расстоянии нескольких шагов последовала бы за нею в церковь, ни на мгновение не теряя ее из виду.
Церковь стояла на улице Святой Анны, в полусотне шагов от дома г-на Уэллса.
В полдесятого раздались первые удары церковного колокола.
С третьим ударом, словно ожидавший этого сигнала, дом г-на Уэллса открылся.
Первыми показались две девушки, за ними – Элизабет, а затем – служанка, сопровождающая их на службу.
Бетси шла немного позади дочерей Уэллса.
Служанка шла вслед за ней.
Они шли таким образом, что Бетси должна была пройти совсем близко от меня; один шаг вперед – и я могла бы коснуться ее платья.
Я сделала этот шаг и протянула руку.
Сквозь вуаль, закрывавшую ее лицо (как мне показалось, еще более бледное, чем обычно), дочь заметила меня, но явно не узнала.
Должно быть, она приняла меня за бедную женщину, униженно выпрашивающую милостыню, так как извлекла свой кошелек, вытянула из него единственную серебряную монетку, которая в нем была, и дала ее мне со словами:
– Добрая женщина, вот все, что у меня есть; помолитесь за мою мать! Затем, поскольку, чтобы сказать мне эти слова и дать эту монетку, она отстала на несколько шагов от остальных и дочери г-на Уэллса заинтересовались, почему она задерживается, а служанка остановилась, поджидая ее, Бетси поспешно догнала их, и они продолжили путь к церкви.
На мгновение я замерла на месте, глядя им вслед, а затем поднесла монетку к губам.
– Бедное дитя! – прошептала я. – Я уже отложила твою гинею.
О, эта маленькая монета всегда будет со мной!
В день, когда я умру от голода, ее найдут зажатой в моей руке, которая будет лежать на моем уже остановившемся сердце. Но я никогда не умру от голода: мне для жизни надо так мало! Я завернула монету в письмо дочери, посланное мне дней пятнадцать-шестнадцать тому назад, и все это спрятала на груди.
Затем, когда три девушки и служанка уже поднимались по ступеням храма, я в свою очередь поспешила туда же, чтобы стать как можно ближе к моей девочке.
Добрую службу мне сослужила колонна: прислонившись к ней, я почти касалась Бетси.
Глядя из-под капюшона, я не теряла ее из виду; она благочестиво молилась.
Однако время от времени все ее тело сотрясал сухой кашель, отдаваясь болью в моей груди.
Я видела, как этот кашель вынудил Бетси два-три раза поднести платок ко рту.
Один раз она еще не успела спрятать платок, как я заметила на нем пятно крови.
Я едва не упала в обморок и прошептала:
– О Боже мой! Боже мой! Бедное дитя, которое так нуждается, чтобы молились за нее, просит, чтобы молились за меня!
В эту минуту я едва устояла перед сильнейшим искушением тут же показаться на глаза дочери и немедленно увести ее с собой.
Мне казалось, что туманный призрак, замаячивший передо мной на горизонте, не осмелится приблизиться к Бетси, если она будет под моей защитой.
Но поступи я так во время службы, это вызвало бы настоящий скандал.
Впрочем, какое можно дать оправдание такому странному решению? С другой стороны, разве мое материнское сердце дрогнуло бы так, будь эти угрозы пустыми?!
Две девушки, сидевшие рядом с Бетси, ничуть не выглядели обеспокоенными; не выказывала беспокойства и сама Бетси.
Я решила, что лучше выждать.
Когда служба закончится, я увижу дочь в доме г-на Уэллса и узнаю подробности о ее самочувствии.
О, какой же бесконечной показалась мне служба!
Каким святотатством было небрежение, подобное моему, если бы оно не оправдывалось столь святой в глазах Господа причиной!
Наконец, священник произнес последние слова; прихожане поднялись и стали расходиться.
Теперь в церкви уже не было никого кроме меня.
Оставшись одна перед лицом Бога, я упала на колени и умоляла его: если моей дочери грозит какая-то опасность, забрать мою бесполезную жизнь, а ее жизнь продлить.
Эту мольбу я шептала перед статуей матери Спасителя.
Мне казалось, что она, мать, понимает боль матери.
Я встала и поцеловала ее ступни, обнимая колонну, на которой была установлена статуя.
А затем глаза мои в свою очередь стали умолять о милости, которую только что просили мои губы.
Но сама я при этом оставалась безмолвной и неподвижной.
И вдруг по мраморной щеке статуи скатилась слезинка.
Что означала эта слеза? Мать, испытавшая все мыслимые страдания, не плакала ли она о том, что не может смягчить мою боль?
Я не поверила собственным глазам, но, став на стул, вытерла платком эту слезу.
Пальцы мои ощутили, как увлажнился платок.
Мне не первый раз приходилось видеть, как вода каплями стекает по влажному мрамору.
Быть может, то, что я приняла за слезу Пресвятой Девы Марии, было всего лишь сгустившимся на прохладном камне испарением человеческого дыхания.
Но совпадение выглядело столь удивительным, сознание мое было столь потрясено, что, делая выбор между каплей воды и слезой, я поверила в слезу, делая выбор между естественным явлением и чудом, я поверила в чудо.
Эта слеза была не чем иным, как ответом одной матери на мольбы другой матери.
XIX. Что может выстрадать женщина (Рукопись женщины-самоубийцы. – Продолжение)
Я встала, пошатываясь, еще более холодная, чем статуя, пролившая надо мной слезу, и направилась к дому г-на Уэллса.
Меня терзали самые печальные, самые мучительные предчувствия.
Мне казалось, что я увижу дочь бледной, лежащей в обмороке на кровати или на канапе, а вокруг нее – всю семью торговца.
Эта картина предстала передо мной так явно, что, казалось, стоит мне протянуть руку – и я коснусь холодной руки моего ребенка.
Тревога влекла меня вперед, а страх замедлял мои шаги.
Мне казалось, что на вопрос: «Где моя дочь?», я услышу ответ: «Увы, входите и увидите сами!»
Я поднесла руку к дверному молотку; дважды я поднимала его, не осмеливаясь ударить.
Наконец, я решилась на это со словами:
– Господи, да будет воля твоя!
Я услышала приближающиеся шаги.
Шаги были размеренными.
Дверь отворила служанка.
Лицо ее выглядело спокойным.
Но этого было недостаточно, чтобы снять мои страхи; мне была знакома душевная холодность наших новообращенных.[532]
Поэтому я колебалась, стоит ли расспрашивать служанку о Бетси.
Мой рот открывался и закрывался, не произнося ни звука.
Тогда служанка сама спросила меня:
– Не вы ли вдова уэстонского пастора, мать мисс Элизабет?
– Да, – пробормотала я. – Господи, ей что, очень плохо?
– Очень плохо? – повторила мои слова служанка, с удивлением посмотрев на меня. – Почему же очень плохо?
– Не знаю… я просто спрашиваю… я опасаюсь этого, – ответила я.
– Да нет, – успокоила меня женщина, – напротив, у нее все прекрасно, и она вас ждет… Проходите!
И служанка прошла впереди меня.
Я, пошатываясь и ударяясь о стены, словно пьяная, последовала за ней, все еще не веря в такую хорошую весть.
На моем пути распахнулись две двери; из них вышли две девушки и посмотрели на меня, но сурово, холодно, без единого слова.
Ну и пусть! Я пришла вовсе не к этим девушкам; Бетси – вот кого я искала; разговаривать по пути означало бы задерживаться: я была благодарна им за их молчание и продолжала следовать за служанкой.
Бетси ждала меня в маленькой комнате в конце коридора; из страха нарушить суровые порядки дома она вряд ли осмелилась бы пойти до двери мне навстречу.
Мне хотелось ускорить шаг служанки; я чувствовала, что моя дочь была там, что она ждет меня и вскоре я ее увижу; прошел уже месяц, как мы не виделись, а эта женщина, которая, наверное, никогда не была матерью, и не подумала ускорить шаг.
В комнату она вошла первой:
– Мисс Элизабет, вот особа, которую вы ждете. Оказывается для этой женщины я не была матерью: я была для нее особой, которую ждут.
Возвестив таким образом мое появление, служанка села в углу на высокий стул, как садится в классе хозяйка пансиона; затем она извлекла из кармана Библию и принялась ее читать.
Я готова была открыть объятия и воскликнуть: «Доченька! Дитя мое! Элизабет! Это я… твоя мать…»
Но эта женщина, с ее ледяным видом, с ее сухим голосом, с ее книгой заставила меня онеметь.
О, Элизабет, как бы там ни было, оставалась по-прежнему красивой, нежной и любящей! Только, по-видимому, суровость этого дома коснулась и ее.
Сердце Бетси жило, билось, любило меня, но его поверхность начинала каменеть.
Боже мой! Боже мой! Как долго сердце сможет этому противиться?!
Бетси, мое дорогое дитя, протянула ко мне руки и прижала меня к груди; она поцеловала меня, но робко, принужденно, словно стесняясь.
В этом храме цифр, расчетов и тарифов все было подчинено единообразным правилам, даже любовь дочери к матери.
И меня тоже сковало это оледенение; я вошла сюда с распростертыми объятиями, с устремленным к дочери взглядом, с дрожащими от нетерпения губами; когда я ощутила под ними этот лоб будто из слоновой кости, когда моим глазам предстала эта статуя Почтения, когда я прижала к себе это одеревеневшее тело – руки мои невольно опустились, глаза закрылись как перед смертью, а рот запечатлел на лбу, подставленном мне дочерью, скорее вздох, нежели поцелуй.
Боже мой, неужели этого я ожидала?! Разве за этим я сюда пришла?
О, сколько страхов, сколько тревог, сколько чаяний ради поцелуя в лоб! Боже мой! Боже мой!
И это во имя религии, во имя большего прославления тебя, Господи, возвели такую ледяную стену между сердцем дочери и сердцем матери!
Элизабет предложила мне кресло и, указав рукой на стул, спросила меня:
– Не позволите ли вы мне сесть перед вами, матушка? Вероятно, таким образом девицы Уэллс разговаривали со своей матерью.
Бедное хрупкое создание, позволю ли я тебе сесть?! Позволю ли я цветку, с которого при малейшем дуновении падают лепестки, тростинке, клонящейся под малейшим ветерком, искать защиты от ветерка, от дуновения!
Дорогое любимое дитя, не моя ли грудь – твоя опора?! Не мои ли колени – тот материнский стул, на котором ты должна сидеть?!
– О, да, да, садись, дитя мое, – воскликнула я, – ведь ты так слаба, что, кажется, сейчас упадешь!
При этом восклицании, безусловно показавшемся ей выходящим за рамки приличий, служанка оторвала глаза от книги.
Элизабет вздрогнула и слегка покраснела.
– Прошу вас, матушка, не обращайтесь ко мне на ты, – вполголоса проговорила она, – такое не в обычаях этого дома.
Служанка кивнула, что означало: «Да, это правильно!» В свою очередь вздрогнула и я, только не покраснела, а побледнела.
– О дитя мое, – спросила я тихо, – а будет ли в обычаях этого дома, если я, беседуя с тобой, возьму твою руку?
Элизабет бросила взгляд на служанку и поставила стул таким образом, чтобы незаметно со стороны ее ладонь могла лечь в мои руки.
Когда я взяла эту руку, руку моего ребенка, я не смогла удержаться и быстро поднесла ее к губам.
Этот жест заставил служанку обернуться.
– Матушка, – сказала Элизабет, – вам не следует целовать мои руки; это я должна уважительно поцеловать ваши.
И она почтительно поцеловала мои пальцы, что заслужило новый одобрительный кивок со стороны нашего аргуса.[533]
Сквозь напускную холодность я почувствовала любовь дочери, но так, как видишь огонек в алебастровой лампе,[534] – тусклый, приглушенный, дрожащий.
Боже мой, как много мне хотелось ей сказать! Как много вопросов хотелось ей задать!
Сердце мое переполнялось без меры!
Как же получилось, что мои уста стали такими немыми, такими бессловесными?!
Господи Боже мой! Кому же пришла в голову мысль отмерять любовь дочери к своей матери, как жалкому наемнику отмеряют, отрезают и взвешивают кусок хлеба?!
Эта любовь, не была ли она хлебом для моего сердца?! Зачем же хлеба, который оно искало так далеко и по которому столь изголодалось, дают так мало? Почему же после столь долгого ожидания мне было отмерено его так скупо?
Дочь сказала мне:
«Таково правило, принятое в доме господина Уэллса».
Да, но было еще кое-что, о чем эти скупые распределители любви не подумали. Дело в том, что девицы Уэллс видели свою мать ежедневно; дело в том, что ежедневно они ей давали то малое, что было позволено моей дочери дать мне лишь в конце месяца.
Не предъявлено ли в доме столь точных расчетов моему бедному материнскому сердцу долговое обязательство? Так почему бы не выплатить этот долг в срок?
Сидя рядом с Бетси, я, вместо того чтобы благодарить Бога, благословлять Провидение, упиваться своим счастьем, просила, требовала, тихо укоряла.
И все же разве я не должна была прочесть в устремленных на меня прекрасных глазах моей дочери все то, чего она не осмеливалась сказать?
Разве в нежном пожатии ее руки я не должна была вновь обрести ее любовь, которую она не отваживалась высказать?
Да; но прозрачность ее глаз, но дрожание ее руки, не были ли они проявлением лихорадки, пылающей лихорадки под этой ледяной внешностью?
Лихорадка, пожирающая ледяную статую, – не выглядело ли это странным и пугающим?
И еще этот повторявшийся время от времени сухой, нервный кашель, который я слышала не только на улице и в церкви, но зловещее эхо которого звучало еще и в глубине моего сердца; этот кашель словно предупреждал меня, что ребенок нуждается во всяческих заботах своей матери; этот кашель внушал мне страх еще больший, чем все остальное в этом доме, где мать не осмеливается любить своего ребенка.
О, если бы служанка вышла из кабинета хоть на минуту; если бы в эту минуту подальше от ее глаз я смогла обнять мою дочь, пересадить ее со стула мне на колени, прижать ее к сердцу, поцеловать ее в лоб, в щеки, в губы, обласкать ее всю! Боже мой, если бы она могла всегда быть рядом со мной, чтобы я имела право обращаться с ней как мать с дочерью! Боже мой, если бы я могла быть к ней холодной!
О дитя мое, твоя мать шестнадцать лет твоей жизни обращалась с тобой как с чужой, и вот теперь Господь ее наказал.
Часы прозвонили два часа дня.
Служанка встала.
– Боже мой! – вскричала я. – Что это значит?
Я испугалась, как пугается заключенный, который при каждом шуме, раздающемся в тюрьме, всякий раз, когда открывается дверь, думает, что это пришли объявить ему смертный приговор.
Бетси побледнела и сильнее сжала мою руку.
– Мне надо вас покинуть, добрая моя матушка, – сказала она.
– Покинуть меня? Но почему? – спросила я почти растерянно.
– В два часа десять минут в доме господина Уэллса обедают.
– Боже мой, так ты проголодалась? – в своем эгоизме спросила я.
Слеза увлажнила ресницу Бетси.
– Меня больше не спрашивают, проголодалась ли я, люблю ли я, – ответила она чуть слышно. – В два часа десять минут в доме господина Уэллса обедают, вот и все.
– Имейте в виду, мисс Элизабет, – вмешалась служанка, – вы рискуете опоздать к обеду.
– О нет, нет, будьте спокойны, – откликнулась, вся дрожа, Бетси, – передайте, я сейчас буду.
Служанка на мгновение остановилась; наконец, услышав звук открывающихся дверей, она сама двинулась в коридор, объявляя:
– Мисс Элизабет сейчас придет.
На один миг, на одну секунду мы остались одни.
Как только сопровождаемая взглядом Бетси служанка скрылась за дверью, бедное мое дитя обвило руками мою шею, прижало меня к своей больной груди и из глубины ее стесненной души вырвался крик:
– О матушка моя! Добрая моя матушка!
Затем, она поневоле прошептала слова, которые были долго затворены в ее сердце:
– Как я несчастна!..
– Что ж, – откликнулась я, – пиши мне каждый день, рассказывай мне обо всем, дитя мое.
– В доме господина Уэллса пишут только один раз в неделю и госпожа Уэллс читает письма.
– Но ведь если это госпожа Уэллс!.. – воскликнула я.
– О, – промолвила Бетси, – лучше бы их читал ее муж… Однако, тсс, тише, матушка!
И моя дочь, прежде чем попрощаться со мной, подставила мне лоб для поцелуя так же, как она это сделала при встрече.
Я надеялась, что она уйдет, а я останусь одна.
Боже мой, здесь нечего было красть – в этой комнате с серыми стенами, с занавесями из белого муслина,[535] с четырьмя плетеными стульями.
Можно было лишь смотреть на стул, где она сидела, можно было целовать то место стены, на которое опиралась ее голова, – вот и все.
Такого утешения меня лишили.
– Сударыня, – заявила служанка, – по вашей вине мисс Элизабет заставит себя ждать, и за это ее будут бранить.
Нашло же это бессердечное существо что мне сказать!
– Бранить тебя, моя Бетси! Бранить моего ребенка! Бранить ангела! О, нет, нет, не браните ее… Как мне отсюда выйти? Куда, куда мне идти?!
Я совсем ничего не помнила и не видела, куда мне надо идти.
Служанка, с недоумением воспринявшая мою взволнованность, наверное, сочла меня сумасшедшей.
Все же она меня пожалела и пошла впереди.
Пока она двигалась, повернувшись к нам спиной, я улучила минуту, чтобы взять руку дочери и горячо ее поцеловать.
Наша неумолимая тюремщица тут же повернулась.
– Я здесь, – напомнила она, – я здесь, И я пошла за ней следом.
О, Бог мой, почему эту религию называют реформатской? Ведь даже в католических монастырях нравы не столь суровы!
Во всяком случае, туда уходят ради любви.
Холодность в отношениях матери с дочерью – это куда хуже, чем ненависть между чужаками!
Не помню, как я оказалась на улице; я почувствовала только, как дверь вытолкнула меня наружу, и услышала, как она закрылась за мной.
Будь ты проклят, дом-гробница! Возможно ли, чтобы за пятнадцать фунтов стерлингов в год мать оставила тебе на съедение свою живую дочь?!
К себе в комнату я вошла со словами:
– Несчастная, а не пойти ли тебе в служанки, чтобы вытащить свою дочь из этой могилы?!







