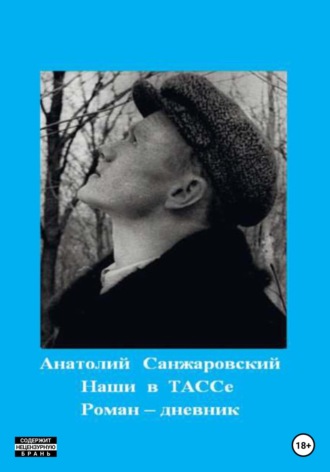
Анатолий Никифорович Санжаровский
Наши в ТАССе
10 ноября
Летучка.
Все жмутся к двери, чтоб при первом же случае слинять.
Фадеичев требует:
– Не стойте за дверью. Все войдите и дверь закройте. Лариса Павловна! Входите!
– Я не могу со стулом.
– Над головами пронесите.
Из-за двери голос:
– Объявляется внос Ларисы ибн Павловны.
Фадеичев неумолим:
– Проходите, проходите. Освободите проход!
Великанов полез поддержать:
– Как ответственный за пожарное дело, я тоже за то, чтобы проход был свободен.
Первым выступал в прениях Баратянц. Похвалил дежурного критика за обзор в лучших тассовских традициях и заявил:
– Такие обзоры не нужны. Надоели! Надо обозревать не вообще работу всего коллектива. А нужно изучать работу каждой редакции в отдельности за определённый срок. Сказать, как сработала та и та редакция. Указать, что надо сделать…
От Беляева передали записку.
Баратянц прочёл её и сказал:
– Я кончил.
В записке было:
«Каждая инициатива наказуема».
13 ноября
Бег вокруг лифта
Звонит из ЦК Медведев.
Пока искали Новикова, Татьяна говорила:
– Я рада слышать ваш важный руководящий голос!
– В выходные отрабатывал.
Сегодня Татьяна опоздала на два часа. Объясняет Новикову:
– Володь! Виноватая я. Проспала. Что делать? Будильник не слышу! Вчера мой грек пошёл гулять с привезёнными с курорта щенками Марсиком Аккуратовым (этот мой кобелёк зарегистрирован на моё имя) и со своей сучечкой Татьянкой, записанной на его имя. В лифте застрял. На полметра не доехал до семнадцатого этажа! Я бегала вокруг, кудахтала и высвободила его из клетки только в четыре ночи. Шесть часов сидеть в лифте! Собачки выли, грек выл, и я метала икру. Собачки уписались. Грек через щель пи́сал в шахту.
От волнения Татьяна закурила.
Петрухин демонстративно открыл форточку.
Татьяна пыхнула:
– Единственную в редакции женщину хотите простудить?
– Хоть ты и единственная, но тут лучше не воняй табаком. Вдобавок ты ещё и некультурная.
– Ты б про культуру молчал! – захлопнула Татьяна форточку. – Будешь ещё меня воспитывать!
Мы с Сашей вышли в коридор.
– Ну ты видел, как я её? – спросил меня Саша.
Я молча поднял его руку, как это делает судья на ринге в конце поединка:
«Петрухин! Советский Союз!»
19 ноября
Для бездельника цель жизни – успеть ничего не сделать.
В. Кафанов
ПОТЕРЯЛАСЬ ЗАПЯТАЯ
Из ЦК Медведев прислал тульский отчёт. В нём говорилось, что горняки добыли за пятилетку 4,7 миллиона тонн угля.
В пути со Старой площади до Тверского бульвара потерялась запятая, и в плотных тассовских листах уже значилось, что было получено 47 миллионов тонн угля.
Переполох!
Теперь на выпуске заведена папка для каждой редакции, и дежурные редакций должны читать копии прошедших материалов.
Косило[206] Калистратов пустился в рассуждения:
– Моё золотое правило: не спеши выполнять указание начальства. Оно даст другое. Не надо спешить печь блины с просырью. Ла-ла-ла нам не нужно, как сказал главный. Поэтому, между нами, я больше сижу без дела. В ожидании нового указания.
24 декабря
Утро. Еду в автобусе.
– Вы сходите?
– Я сходил дома.
Бузулук бренчит на воображаемой гитаре и мурлычет:
– Старикам везде у нас дорога,
Молодым везде у нас печёт.
– Олежка, – сказала Татьяна, – а я тоже могу лепить в рифму!
В мире ни одна зараза
Не живёт без унитаза!
Подал свой голос и Молчанов:
– Ещё ходит по улицам московским
Девушка, которую не встретил Санжаровский.
Калистратов вежливо похлопал в ладошки:
– Спасибо всем бардам. Только почему сегодня по «Маяку» не было юморной передачи «Опять 25»?
Татьяна:
– А это всегда – если кто помер. Услышала сегодня утром симфонию Моцарта. Ну, думаю, кто-то тю-тю. Так и есть. Шверник.[207] Ничего был дядька.
– И без того тяжелый у меня день утрат, – жалуется Калистратов. – На членские взносы[208] отстёгивай… Уй!..
31 декабря
С подступающим!
Бузулук мечется из кабинета в кабинет, суёт всем руку и нарочито громко и весело кричит:
– С подступающим! С подлегающим! С наступающим!
Входит Калистрато де Сьевý. Сияет. За ним влетает радостная Аккуратова. Не терпится ей выболтнуть сокровенное, наконец-то содеянное в последний день года.
Она, Севка, Герасимов готовят общий материал, «пускают» новую линию метро. Потому табунятся.
– Сева! – с порога шумит Татьяна. – Ну ты доложил Александру Ивановичу про Дези?
Сева потирает руки:
– Да вот набираюсь духу…
Он боком подходит к углу стола Медведева:
– Александр Иванович! Легендарный Бузулук горько поплакался на главном выпуске: «А мою жену вчера лишили премии…» А Тореадоровна – знаете ж, какая она дама-молоток! – и ухни: «Подумаешь! А мою непорочную Дези лишили девственности!»
– Ты, – подсказывает Татьяна, – расскажи, как фонарём подсвечивали, чтоб убедиться, что всё шло как положено.
Медведев одобрительно усмехнулся:
– Такие вещи надо записывать и делать книгу.
Но до книги не дошло.
Позвонили ему из «Правды» и сказали, что информацию Бузулука о шарикоподшипниковом заводе нельзя публиковать: не всё готово к сдаче.
– Олег! – мрачнеет Медведев. – Ты с кем её выпускал? Кто-нибудь из РПЭИ её видел?
– Не видел. С Тореадоровной мы сработали…
– Ты что, в её аппарате? Звони в министерство и снимай!
После звонка в министерство Олег снова подсел на «приёмный» медведевский стул:
– Там одна вошка по очистным сооружениям не хочет на акте приёма ставить свою царапину.
– Срочно дуй на выпуск и снимай материал!
С трагедией на лице Олег плетётся на выпуск. Долго кумекает над текстом, как поделикатней снять информацию. А тем временем Тореадоровна попросила Фадеичева позвонить начальнику строителей всей Москвы.
Евгений Михайлович и спрашивает по кремлёвской вертушке главного строителя столицы:
– Вчера вы отрапортовали, что удачно завершили год. Вот передо мной лежат ваш рапорт и рядом информация о том, что шарикоподшипниковый не сдан. Как всё это понимать?
Главный строитель испуганно:
– Понимать однозначно. Завод сдан! Сдан! А этого ассенизатора за своеволие я после праздника выгоню!
И через минуты «очистник» подписал акт о приёмке. Информацию не пришлось снимать.
Вот такая новогодняя метаморфоза.
Посмеялись над ней в редакции и Артёмов пустился расписывать свою историю:
– Ребята! Я о том предновогоднем случае, после которого тёща больше не посылает меня за ёлками. Как-то попросила она меня по телефону: «Вань! Вырвала по дешёвке ёлку. Помоги привезти домой». Я на такси и к ней. Радость такая! По пути взял чекушку. Что она нам с таксистом!
Приехали.
Возились, возились… Не идёт ёлка в машину.
Дал я таксисту десятку в старых, отпустил. А сам теперь выпил и пошёл к метро. Не пускают. Один друг и советует: «Ты сунь ей десятку и беги!»
Я долго смотрел на дежурную. Она – на меня. Приготовил я десяточку и вперёд. Пробегая мимо дежурной, сунул ей десятку. Ошибки не было. Она ловко схватила моё подношение и чисто машинально крикнула:
– Эй, дуб, куда с ёлочкой?
Не успел я влететь в вагон. Милиционер тормознул у самой двери:
– Извините. С вас штраф[209] 15 рублей.
Козырнул и отпустил с ёлочкой.
Вышел я из метро, снова выпил…
Узнала тёща, во что обошлась её ёлочка, и стало ей плохо. Неважно и я себя чувствовал.
Наша нарядная ёлушка цвела на столе в техническом секретариате. Все пьяные вскладчину восхищались ею.
Слышалось:
– Желаю тебе богатого любовника, океан любви и море золота!
– А я желаю тебе океан здоровья и море любви.
В полпятого я попрощался с елочкой до понедельника, когда вернусь дежурить с утра на выпуске.
Вышел на улицу.
Куда идти?
Взял в продуктовом бутылку пунша, молока, четыреста граммов домашней колбасы и в Сандуновские бани. Постригся. Помылся. Пять лет с плеч долой!
Дома пёк блины на электроплитке и ел сразу со сковородки, запивая из бутылки молоком.
Уже 23.
Один.
Звал приятель на праздник к себе. Не пошёл.
Сижу в пальто, пишу в дневник.
Уже около полуночи.
Проснусь в 71-ом.
Вышел на веранду.
Стеной валил снег. Он засыпал приступки. Я схватил веник и стал сметать с них снег. Пусть приступки будут чистыми, чтобы всё в Новом году шло ко мне легко и быстро.
Пожалуйте, мой господин Новый Год, в мой дом. Будьте только радостными. А впрочем, будьте самими собой. Как я.
По радио дежурное цэковское поздравление.
Перезвон курантов.
Гимн.
Ну и что?
За стеной храпит баба Катя.
Вот что.
.
1971
1 января, пятница
Вначале было Слово, затем Бог создал женщину, которая каждому мужчине давала слово, что он у неё первый.
Б. Крутиер
Экономьте время – влюбляйтесь с первого взгляда.
Л. Ишанова
САХАРНАЯ ГОСТЬЮШКА
С утра протопил печь и в два помчался на метро «Маяковскую» встречать Надежду ибн Борисовну от роду двадцати лет.
Приехала она вовремя и деловито спросила:
– Что будем делать?
– Читать «Отче наш».
Она весело выставила большой палец:
– Вот это дело, отче!
– Тогда ногу в стремя! Едем ко мне как и договаривались!
Вошла она в мой чум и просияла:
– А ты хныкал, что у тебя волчий холод. А тут Сахара!
– Протопил…
– Тогда я раздеваюсь…
Я помог ей снять пальто, шапку. Повесил их на длинные гвозди в бревенчатой стене.
Она поправила волосы и кокетливо разнесла края платья в стороны, слегка в поклоне присела с улыбкой:
– Видишь, я не крашусь. Только глаза чуть подсинила. Чтоб с перепоя не казаться такой ужаленной.[210] А вообще я юна, мила, несексуальна.
– Япона мать! Примбамбаска не тут не самозванка? На своём ли она месте?
Надежда налегке обиделась:
– Япона отче! У нас все примбабульки пляшут строго на своих местах!
– А как же ты принимала госэкзамены у младшего братца по поцелуям?
– Он тренировался на мне.
– Я могу поступить к тебе на курсы?
– Ну уж если пройдёшь по конкурсу. У нас слишком жёсткий отбор.
Мы присели на непорочный мой диван, который я перекрестил.
Диван капризно скрипнул.
Больше не на что было сесть. Стульев у меня не было. Табурет краснел лишь под электроплиткой. На ней я готовил еду.
Как говорят французы, женщину можно оскорбить, не приставая к ней.
Да ну как я мог и подумать, чтоб вульгарно оскорбить свою сахарную гостьюшку?!
Лишь на второй день к вечеру мы вспомнили, что люди иногда едят.
Я нажарил огромную сковородищу картошки на сале.
Надежда ибн Борисовна ела и хвалила:
– Особо мне понравилось, как ты режешь картошку. Я так не умею. Эх, лешева я хозяюшка из села Помелова из деревни Вениковой… Пирожок испеку, так и корова не ест!
– А наша коза наворачивает всё! – похвастался я. – Научишься. Какие твои годы? Терпение и умение, говорил паук, плетя паутину.
4 января
«И вечный бой»
У кого совесть нечиста, тому и тень кочерги виселица.
Сегодня Молчанов загорелся идеей открыть отдел «И вечный бой». И впихнуть в отдел лишь Марутова и Бердниковича.
Эти два тундряка уже который месяц носятся друг за другом с булыжниками за пазухой. И началось с пере- стройки.
Худо-бедно, а всех редакторов перевели в литсотрудники. А Марутова ну всё никак. Не соглашается. При переводе он лишался части зарплаты, и тут он стоял намертво. Это стояние портило Колесову кровь. Все пошли в ногу – один грязнит картину! Куда это годится?
Не мытьём, так катаньем!
И по колесовской указке стали Марутова шельмовать. Попросту выживать из редакции.
Быстренько нашёлся персональный критик. Бердникович. На каждом собрании, – то ли профсоюзном, то ли партийном, – на каждой летучке Бердникович тащил по кочкам Марутова, нёс несусветную ахинею.
Но… Влезши в сечь, не клонись прилечь.
Лучше биться орлом, чем жить зайцем!
И белый Марутов отбивался сегодня на общем собрании как мог:
– Стало нормой методически бранить мои дела. Для этого используется любая трибуна. Это немыслимо. Я болел, а меня на собрании хаяли! Снова вывели человека из строя. Что у нас делается с честными людьми? Раньше главный редактор повторял один рефрен: «К Марутову замечаний нет». А сейчас? Когда Бердникович, эта Моська… Как сказано не мной, «Моська – родоначальница критики снизу». Когда эта Моська перестанет клеветать на меня? За клевету ты, Бердникович, ответишь! Вот увидишь! Выйдешь отсюда в коридор и реально увидишь!
В перерыв Бердникович вышел в коридор и не только увидел, но и услышал, как с авральным воплем «Великий популизатор! Клеветник!» к нему подлетел коротышка Марутов и с подпрыгом дважды отоварил кулаком бердниковичские скулы.
На войне Марутов был сержантом. В Сталинграде кричал по-немецки в рупор фашистам: «Сдавайтесь!» Бердникович был тогда подполковником. И вот сержант при людях дал по вывеске[211] подполковнику-ябеде.
Бердникович побежал в суд.
Марутов тоже не присох на месте. Побежал. Побежал дальше и выше. В горком. К самому Гришину. К члену Политбюро, к которому был вхож: горком был марутовским объектом.
И этой тяжбе не видно конца.
Вот и решил Молчанов собрать спорщиков в отделе «И вечный бой». Может, совместная работа их умирит?
Только Коля Великанов в это не верит. Сегодня за обедом он выговорил Марутову:
– Почему меня никто не поддержал, когда я года три назад на летучке облаял Бердниковича косильщиком?[212]
Марутов заоправдывался:
– Ну он же тогда не был подлецом!
– О святой Гарегин Гарегинович! Ведь люди растут. По закону природы. Был бездельник. Выбился в подлецы.
11 января
Гостиница «Ленинградская».
Через несколько минут здесь начнутся советско- японские переговоры по рыбе. Посол Тору Никагава не приехал. Его заменит Ариста.
Я спросил у японского журналиста, как имя Аристы.
– Не знаю.
Я узнал и говорю япошику:
– Его имя Всесуки.
– Не-ет… Он не Все Суки. А Кесуки!
24 января, воскресенье
Видеть можно только сердцем.
Антуан Сент-Экзюпери
ПО-БЫСТРОМУ
В два приехала Надежда. Я встретил её на платформе и сразу со станции мы пошли побродить по нашему милому Кускову.
Кидались снежками, бегали друг за дружкой, дурачась. Потом почалили ко мне.
– Только мы по-быстрому. Ладно? – сказала она.
– Можно и по-быстрому, – буркнул я, не вдаваясь, что именно она имела в виду. – Мы, стахановцы, готовы на всё!
Я выставил всё, что у меня было.
Вчера весь день бегал по магазинам. Хотел купить что-то необычное. Взял армянского лаваша, свежих помидоров, торт «Прага». Сделал салат.
А она ко всему этому и не притронулась.
– Я только пообедала.
– Специально? Знала, что в гости едешь?
Мы выпили пунша.
И у неё прорезался интерес к лавашу.
– Его пекут мужчины, – рассказывал я, нагоняя страху, – в железных подвалах. Разводят посреди огонь, накаляют стены и бросают на них тесто. Бороды обвязывают марлей, чтобы не пожечь.
Ей нравился лаваш, а мне нравилась она.
Она ела лаваш и говорила:
– Разве я тебе нужна? Тебе нужна…
– Ну что ты за меня твердишь, кто мне нужен? Я лучше знаю, на каком суку мне висеть.
Сегодня она показалась ещё краше. Сияющая, молодая.
– Мне хорошо с тобой! – сказал я. – Хочешь, я поцелую тебя в пятку?
– Что за дела? Какая-то кривая лирика. Почему именно в пятку? А если я вчера перед сном не мыла?
– Изредка б и можно…
Было уже поздно, когда я поехал её провожать.
Я проводил до выхода из её метро.
Прибежал на вокзал – электрички уже не ходят.
Первая моя электричка будет только в шесть утра.
Ночь я перетёр на вокзальной скамейке, не унывая.
Со мной была моя радость. Надежда!
25 января
Князев
Отмечали 25-летие работы в ТАССе Валентина Ивановича Князева.
– Очень точно и хорошо он пишет, – сказал Терентьев. – У него один недостаток. Не бывает ошибок! Но, видимо, на радость ТАССу он не расстанется с этим недостатком.
Артёмов:
– Я всё время работал с Князевым и постоянно вижу его в справочной. Уточняет, проверяет… Доходит до своей подписи. Достаёт своё удостоверение, сверяет и гасит галку. Для меня, старого тассовца, Валентин – воплощение высшего принципа партийности литературы. Он выкладывается весь в материале. Хоть и говорят, рождённый в ТАССе писать не может… Но! Может! Получил премию к столетию Ленина. Вот!.. Уже в годах. А у него на голове ни одной седой ниточки. Всё молод наш юбиляр. А пришёл он сюда с войны. В гимнастёрке с медалями. Скромный, застенчивый…
Выступил и наш Новиков, незабвенный Владимир Ильич:
– Я начинал под крылом Валентина Ивановича. Вот вырос. Его работа – хорошая школа для молодых. У него надо учиться, учиться и учиться, как завещал Ильич.
Голос с места:
– Который? Вас же, Владимиров Ильичей, три у нас на этаже!
30 января, суббота
Вечер.
Жду Надежду.
Мне не терпелось её встретить.
Я поминутно вылетал к калитке, хромая.
В четверг я солил мясо, прислали из дома, и напоролся на гвоздь в крышке от посылки.
Врач дал освобождение на бланке «Справка о временной нетрудоспособности служащего в связи с бытовой травмой, операцией аборта». Сделали три укола. Перевязали.
Наконец бежит моя радость:
– Я думала, ты лежишь, концы тут отдаёшь…
– Некому отдавать.
В благодарность я глажу её по плечу и всю закиданную снегом веду в своё дупло.
– Дай веник. А то я тебя всего намочу.
– Мочи, восторг мой, что есть мочи.
На веранде я обметаю её веником.
– А знаешь, чего я припоздала? Приявилась попозжее срока? Прела на педсовете вместо братца Павлика! Его сынуля Валерка курит и плохо учится. Папка с мамкой родили, бабка в деревне вырастила, а я, двоюродная сестра, отдувайся по педсоветам. Павлик эпизодически его метелит. Да толку… Папка отдерёт, сынуля со страха закурит. И так всё время. Ни матери, ни отца не боится. Одну меня боится.
– Неужели ты такая страшная? Почему же я тогда тебя не боюсь?
– Тебе не дано.
От холода я занавешиваю окно байковым одеялом.
Она надвое усмехается:
– Тебе чего? Мяса?
– Давай.
– Давай не будем.
– А если будем, то давай. Чёрт его знает, почему мне хорошо с тобой, радостно? Ты как чистая волна. Всё море в нефти, чёрное. А тут – чистая волна!
– Нет. Я луч света в твоём тёмном царстве.
– Солнце!
Раз, раз и свет погас.
Часа в три ночи она проснулась и запросила чёрного хлеба с солью.
– И хлеб, и соль вы получите, мадам. Главное, доживите до рассвета. Днём я нажарю картошки с мясом.
– Корочку от сала – мне! Поджаренная она вкусная. Я её с хлебом.
– А я эту корку выбрасывал…
– Не разбрасывайся. Собирай для меня. Я безотходный автомат!
2 февраля
Из Нижнедевицка брат Гриша написал:
«Семья Дмитрия растёт. 19 октября появилась на свет божий девчушка. Людой назвали. Горластая, курносая. Вылитая старшуха[213] Ленка. Отец очень хотел сына, а Бог послал дочь. Ленка говорит, не могли больше денег собрать и потому не купили мальчика».
5 февраля
«Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было».
СОЛИСТ ПЕТРУХИН
9.00. «Выступает» солист Саша Петрухин:
– Ребята! Вчера на партбюро Медведев представил нас котятами. Все мы ничего не умеем. Всех нас надо учить редактировать и писать. А вы-то сами, – метнул сердитый взгляд на Медведева, – ничего не умеете. Думаете, нам приятно сидеть здесь и смотреть, как вы в углу злитесь? Вы, Медведев, злой, плохой человек и кроме зла вы нам ничего не приносите.
– Ты что, – набычился Медведев, – собрание начинаешь? Выступать нечего! Работать надо. Уже девять часов и звонок был.
– Ничего. Об этом мы ещё на партсобрании скажем. Нам не нужен такой злой зав.
– Можно заменить. Хоть ты десять лет здесь, а это место – Медведев с достоинством оглядел свой угол, – не смог занять. К слову, не ходи на коллегию в министерство. Беляев приглашает тебя на планёрку.
– Зачем?
– Узнай у него.
Оказывается, вчера Саша диктовал в машбюро нетассовский материал и за это ему сегодня влили на планёрке.
Иду на обед с Калистратовым и Великановым.
– Ну что, Коль, – говорит Сева Великанову, – вчера выпил?
– Да приговорил бутылочку… Под качественный бутерброд… Дома скандал. Ежовая маруха[214] грозится уйти.
– Ты б её по чувству ласково щёлкнул. Мол, сама пожалеешь. Ведь свято место пусто не бывает!
– Да говорил… Она всё равно: «Уйду. Ты только о себе. В январе сто рублей пропил. Денег не носишь. Ты тратишь деньги на любовниц». – «Да нету у меня любовниц. Я алкоголик». – «Тогда лечись!» – «Я неизличимый алкоголик».
Возвращаемся с обеда.
– Запах в комнате, – говорит Молчанов, – как в казарме, когда входишь в неё утром после ночного караула. Надо сказать Аккуратовой, чтоб потеплей одевалась и разрешала открывать нашу форточку. Ну… Во все дыры нос суёт!
– Хоть нос картошкой, а стёрся! – выкрикивает Бузулук.
Молчанов блаженно гладит себя по животу:
– В понедельник на весь день мы с Севой уйдём пить пиво – учиться на курсах повышения мастерства.
– А почему, – заныл я, – не записали меня?
– Записывали только малоквалифицированных, – сказал Молчанов. – А тебя мы отсоветовали записывать. Ты у нас почти Гидро (Ги де) Мопассан. Ты читаешь уже «Литературку», даже печатаешься в ней. А мы до этого ещё не доскакали.
Вошла Аккуратова, «внештатный зам Медведева» и оповестила:
– А сегодня мой Марсик будет есть шницель по- чешски.
– Приятного аппетита Марксику! – вскинул руку Сева. – А общественность, Таня, желает: потеплее ты одевайся, чтобы кофточку-форточку держать открытой.
– Пусть общественность сначала купит мне кофту.
– Нет проблем! – сказал Марутов. – Завтра принесу женину кофту. Только из химчистки.
– Какие ж мы нищеброды, – припечалилась Татьяна. – Дожила до кофточки с чужого плеча… Живём, как в Китае: в школе – дань, чиновнику – сунь, гаишнику – вынь, а зарплата – хунь!
Медведев на обеде. Мышки озорничают.
Сева говорит:
– Смело ты Саша, сегодня лупанул. Действительно, входишь в комнату, а в углу сидит злой, угрюмый человек. Не хочется и входить!







