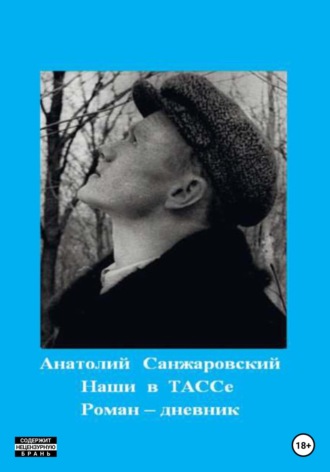
Анатолий Никифорович Санжаровский
Наши в ТАССе
30 июня
Молчанов:
– Главное напиться и не поскользнуться. Я купил себе трусы, – взгляд на Аккуратову, у неё муж грек, – в голубых полосах цвета греческого флага.
Медведев, убегая на планёрку, наказывает сам себе:
– На планёрке будьте зорки!
Женщина случайно позвонила Калистратову.
Он кокетничает:
– Хотите узнать учреждение, где мы работаем? Да по-разному называют! Меня как зовут? По-разному. Нет, я не забываю. Я назову десятка три имён, которыми меня зовут. Что вы? Что вы? Я не связываюсь с милицией. Я строго блюду заветы старого комбинатора… Я случайно взял трубку. Я не подхожу к телефону. У меня телефонобоязнь.
Сева кладёт трубку. Олег серьёзно говорит ему:
– Тебе звонила врач-психиатр.
– Не намекай, что работать надо. Вижу пустой стол. Ну и что? Зато у меня солнцем полна голова! Обжёгшись на девочке, дую на бальзаковку… Я сейчас спокоен. Пример надо брать с Милы (тридцатипятилетняя старая спесивая дева). Спокойна, выдержана, как старое марочное вино.
Вбежал Марутов и в горечи мотает головой:
– Лишнюю строчку убрали… Зато аромат заметки пропал!
17 июля, суббота.
С полдня позагорали с Надеждой на нашем кусковском пруду. Потом гуляли по всей усадьбе до самого вечера…
Праздник души…
19 июля, понедельник
Элиста, керчь, нижнедевицк
Вскочил рано и побежал в Чухлинку на поезд до Быкова.
Я в отпуске. Поеду к своим маме и братьям в Нижнедевицке. Но сначала полечу в Элисту и в Керчь.
На мои копейки не очень-то и отдохнёшь.
Я выцыганил в журнале «Турист» командировку. Это оплата проезда, суточные. Всё-таки подмога.
Сначала лечу в Элисту. Задание «Туристские тропы Калмыкии».
На дворе только пять утра. Только встаёт солнце.
Самолёт летит быстро.
В Москве было плюс одиннадцать, в Элисте уже тридцать три.
Я чувствую, как жара давит на меня.
Мотаюсь по Чёрным землям. То и дело натыкаюсь на листки «Столовая закрыта. Нет воды». Как люди живут без воды?
Есть не хочется. Пью один чай. Вот экономия!
В три ночи приехал из степи в гостиницу. Кровать горяча. Вот уж жара!
Самолётом в Ростов.
Автобусом до Таганрога.
Морем до Керчи.
Рыбный институт. Плантации мидий.
Аджимушкай. Спускался в каменоломни.
Подземный гарнизон в войну.
Из Керчи домой ехал на поезде.
В Воронеже пересел на пригородный поезд до Рамони. Оттуда было письмо в «Турист» в защиту реки Воронеж. Надо было проверить и дать короткую заметку в журнал.
Вот наконец-то и мой милый Нижнедевицк…
Отдых дома был трудный.
Это уже в обычай.
Ладил с Гришей погреб.
Цемент, песок, кирпич, вода… Вот мои игрушки.
Раза два позагорал на речке Девице. (Она справа.)
Как-то раз сходил с Гришей в лес за дикими орехами и яблоками. И все прогулки.
В огородчике между кустами помидоров отписывался для «Туриста».
Перегрелся. Под мышкой было сорок тепла. Озноб.
Мама брала какие-то таблетки у медсестры-соседки.
Уцелел.
26 августа
Покаялка
На перекидном календаре на столе я красно написал:
Выход к рампе А.Сана
Вышел к рампе в срок.
Вернулся из отпуска Козулин. Поёт:
– С моря дует ветерок, ветерок.
С юга я везу трипперок, трипперок…
Философ Калистратов делится с Козулиным последними новостями:
– Колюшка Великанов подзалетел со своим орденоносным поносом в больницу. Съел огурец, а водкой не запил. Гриб да огурец в жопе не жилец. Ему исправно таскали передачи. Антизнобин наливали в авторучку. Взяла сестричка авторучку расписаться за приём передачи и обнаружила зарядное устройство.[254] Насухач загорает теперь Колюшок.
– И чем же он сейчас в больнице промышляет?
– Выводит племенных мандавошек.
Робко, бочком подходит к Калистратову Молчанов:
– Сев! Ты куда засунгарил мой материал? Похоронил?
Севка показывает пальцем на папку с готовыми заметками:
– Он здесь, в братской могиле.
Потею над покаялкой.
Заместителю Генерального директора ТАСС
Ошеверову Григорию Максимовичу
от литсотрудника редакции промышленно-экономической информации Санжаровского А.Н.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Исполняющий обязанности заместителя заведующего редакцией промышленно-экономической информации Калистратов В.Л. написал на меня докладную, в которой утверждает, что второго сентября я вышел на работу с опозданием на четыре часа.
Дело вот в чем.
Со дня на день я откладывал обмен паспорта. Из милиции напомнили, что за проживание с просроченным паспортом я буду оштрафован. Первого сентября я попросил тов. Калистратова отпустить меня на следующий день в милицию.
– Хорошо. Иди. Только не забудь по возвращении отправить телеграммы, – сказал он.
В своей докладной тов. Калистратов поставил все с ног на голову. Он утверждает, будто бы я отпрашивался до десяти утра. Это не так. Разговора о том, когда я должен вернуться, не было. Да я и сам не знал, когда смогу вернуться. Ведь в десять часов только открывается паспортный стол. А огромная в полсотни человек очередь? А более часу на дорогу?
В милиции я пробыл до часу дня. что, кстати, подтверждает и прилагаемая справка участкового инспектора. В случае надобности это может подтвердить и начальник паспортного стола.
Я не был предупрежден о времени отправки телеграмм и потому считал, что это можно сделать в течение дня. Ощущения пожарной срочности этих телеграмм у меня не было. В противном случае я либо отправил телеграммы первого сентября, оставшись после работы (я получил их в 18 часов), либо вовсе не отпрашивался бы в милицию.
Я, конечно, виноват, что, задерживаясь в милиции, не позвонил в редакцию. Этого я не мог сделать, поскольку ближе полутора километров не было телефонов-автоматов.
Поначалу я не стал писать объяснительную, основываясь на таких личных наблюдениях. Многие в ГРСИ ходят в рабочее время не только в милицию и к врачам, тратя немало времени, однако никто от них никаких объяснительных не требует. Причина моего отсутствия не менее уважительная.
За три года работы в ТАСС у меня не было ни одного случая опоздания. Факт, который никто не может опровергнуть. В том числе и тов. Калистратов.
8 сентября 1971
С Севкой мы были приглашены на рандеву к Ошеверову.
Как поганчук де Калистрато ни рвал попу,[255] а ошеверовского выговора так мне и не выхлопотал.
Всё обошлось.
10 сентября,
День моего рождения
Я во фраке.
С Надеждой ходили вечером в ресторан «Москва».
Мне тридцать три.
Возраст Ильи Муромца.
Хватит сиднем сидеть. Надо идти.
Но куда?
13 сентября
В коридоре перекрик:
– Кто хоронит Хрущёва?
– Баратянц!
Конечно, Михаил Баратянц никого не хоронил. Он просто готовит отчёт о похоронах.
Хрущёв и мёртвый подпекает.
Умер одиннадцатого.
В тот же день об этом первой сообщила Америка.
Американский корреспондент радио Шапиро был близок с дворничихой хрущёвского двора. Носил ей конфеты. Она рассказывала ему, кто и когда бывал у Никиты Сергеевича.
Дворничиха позвонила американу и сообщила о смерти опального вождя.
13 октября
Каждому шкету по паркету
Если у вас нет выбора, значит, его сделали другие.
А. Петрович-Сыров
Генералитет нашей редакции разметало колесовским вихрем.
Медведева воткнули на выпуск, Новикова притёрли в замы зава редакции международных связей.
А кого нам в отцы сунули? Баринова. Корреспондента из Иванова. (До этого был в Сыктывкаре.)
Такой напасти никто не ожидал. Бузулук с Молчановым ополчились против него с первой же минуты:
– Чтобы дергал нас за ниточки из медвежьего угла сыквтыкарский барин? Нас, столичных асов журналюг? Не будет этого!
Медвежьим углом у нас звали тёмный угол со столом, за которым сидел Медведев. Есть и другая версия. «Медвежий угол – место, куда взрослые медведи ставят своих медвежат».
– Мы не любим, когда гниды кашляют вслух! – ворчал Бузулук. – Убирая Медведева, нам грозили: вот приедет барин, барин вас рассудит. Это барин из северной пурги никогда нас не рассудит! Нужен нам этот вечно улыбающийся чайник со свистком!
С первого же дня всё покатилось кувырком.
Вот вихляющейся походочкой вваливается опоздавший Молчанов и мурлычет:
– Я пивную не миную… Траля-ля-ля-ля-ля…
Ищи ветра в поле, а нас в «Метрополе»…
Следом тащится Бузулук.
Баринов был странен тем, что он всем улыбался в любом случае. Это всех пугало.
Баринов с приклеенной улыбочкой здоровается и спрашивает у Олега о жизни.
Олег капризно:
– Он ещё задаёт техницкий вопрос, как я живу. Это моё лишное тело. И, глядя в потолок, тоскливо толкует: «Мечты у нашего народа какие-то скучные: то коммунизм построить, то долги по зарплате получить». Сказано не мной.
Бузулук и Молчанов помыкали Бариновым как хотели. Они решали судьбу каждой заметки. Баринов лишь с улыбочкой подмахивал их решения.
Баринов продержался ровно месяц. С тринадцатого сентября по сегодня. На прощание он сегодня утром положил каждому на стол по яблоку.
На весть об уходе Баринова Олег лишь усмехнулся:
– У матросов нет вопросов и претензий тоже нет. Рыгалетто – рыгай всё лето! Ну что я говорил? Если воробей родился в конюшне, это не значит, что он жеребёнок!
Так почему же не удержался Баринов?
Марутов под большим секретом кинул свою версию:
– Колесов не взял его, потому что за месяц не смог уволить одного из нас. Баринов просил ещё два дня. Но тот не дал. Только сказал: «Если неугодник в течение десяти минут не несёт заявление об уходе, уходишь ты!»
Сегодня вернулся из отпуска Калистратов.
Олег приветствовал его стишком:
– Де Калистрато нас приветил
И, в гроб сходя, блоху словил.
И Калистратовым заткнули медведевскую брешь.
25 октября
Всю жизнь пытался строить из себя дурака – способностей хватило лишь на придурка.
В.Антонов
Уходя от нас в Дом журналиста на занятие, Сева отечески наказывал Бузулуку:
– За меня пойдёшь на планёрку. Ради Бога не высовывайся. Молчи. Не спрашивают – молчи. Спросят – тоже лучше промолчи.
На планёрке Медведев протащил по кочкам сельскую редакцию. Не миновал и Бузулука: «Олег! У тебя недержание воды. А заслонки поставить не можешь!»
Медведевская распеканция подожгла Олега и, прибежав в редакцию, он зло бухнул Миле:
– Замятин велел сдать подборку о товарах к трём!
Переполох. Панченко в панике.
Аврально забегала.
В семнадцать Калистратов на ватных ножках понёс подборку Иванову. У Иванова глаза на лоб прыгнули:
– Что сдаёте? Кто просил?
Ложь Бузулука всех затрясла.
За десять минут до окончания рабочего дня Сева сказал:
– Олег! Утром ты просил, чтоб я провёл собрание, поскольку некоторые опоздали. Ты в девять звонил с вокзала и по телефону проверял опоздавших. Кстати, что ты делал в девять на вокзале, когда ты должен был быть на рабочем месте?
– Об этом надо говорить отдельно и тихо. Позже расскажу.
– Ты просил утром обсудить опоздавших. Но ты сам опоздал! Вот лично тебя мы и обсудим! Но главное – почему ты врёшь? Почему ты соврал, что Замятин велел делать подборку? Манкируешь гендировским именем, как напёрсточник!
– Я не говорил.
– Есть четыре свидетеля. Подтвердят, что говорил!
– Мда, – сказал я. – Скоро Брежнев через Бузулука будет давать нам указания…
Татьяна:
– Бузулук! Тебя из дому выгоняет Лиза. Ей надо в присутствие к восьми. Ты провожаешь её до работы и припираешься в редакцию до поры. Не спится. А сегодня и сам на полчала опоздал. Знай, что нет надсмотрщика, я б опоздала. А то припёрлась как дурка ко времени.
Калистратов:
– Бузулук работал при всех прижимах. Песенку про журналистов[256] любишь, а три строчки тебя обижают. Ты не хочешь давать короткую информацию. Но учти. Не соглашаться с начальством – плевать против ветра!
– Я за санитарию! – вскочил Бузулук. – Брошу плевать. Дамен унд херен! Простите. Сева! Сиди спокойно в медвежьем углу и руководи нами, заблудшими и неразумными. Больше я не буду запускать такие шары.
– А зачем ты всё-таки запустил?
– Из самых добрых порывов! Мила на ходу спала. Отдача от неё была круглая сиротская нулёвка. Чтобы подтолкнуть её, придать хоть малое ускорение, динамику её беспробудной лени, я и болтни непотребь. Тогда мне это казалось верхом удачи. Как мудрые китайцы говорят? Когда не знаешь, куда идти, любой шаг кажется правильным. Счёл я свой поступок единственно нужным и болтнул про замятинский приказ. Доброе желание правило мною!
– Как же линчевать за добрые намерения?
На том дело и усохло.
Когда народ схлынул по домам, Олег сказал Севе:
– Я своё остроёбие угомоню… Проснулся в пять. Державно пукнул и стал собираться. Проводил жену в командировку к раннему поезду. Время до работы было. Толокся на вокзале. Наблюдал жизнь вокзала. Вот еле катит носильщик свою телегу. Того и жди, запутается в бороде и упадёт. Выбрались деревенские бабы с кошёлками из вагона, и одна кричит: «Насильник! Потаскун! Возьми меня первой!». О! Как же прекрасно говорит моя Россиюшка!
27 октября
Утро. В конторе я один. Первым позвонил Олег:
– Я задержусь. Димке покупаю тапки. Скажи Севе, буду через пятнадцать минут. Он неизвестно куда отфутболил мою статью. Я ещё буду ему вихры трепать.
Звонит тут же Калистратов:
– Толя, это Сева. Решил зайти в фотографию. Потом загляну к врачу на перевязку. У меня ножка ещё бо-бо. Если кто спросит, скажи буду через пятнадцать минут.
Какая точность! Каждому нужны лишь пятнадцать минут. Но уже полдесятого. Я всё один.
К одиннадцати вошёл Олег, мурлыча:
– Пехота топчется в пыли.
Капрал кричит: «Рубай! Коли!»
А я хочу рубать компот…
Не знакомый мне парень хлопнул Олега по плечу, и он ответил на приветствие:
– Здоров, Серебристый!
Скоро прибежал Сева и тут же метнулся на планёрку.
Олег тоскливо посмотрел ему вслед, с отчаянием в голосе напевая:
– В твоих глазах метался пьяный ветер…
После обеда Сева накатился на Олега:
– Ты где был с утра?
– Где и ты.
– Хватить морочить пятки![257] А предупредить слабо́?
– Я предупреждал Анатолия.
– На пятнадцать минут! А где ещё два часа болтался? Сказать можешь? Сколько говорить? Какова степень усвояемости? Можно надеяться на усвояемость? Колесов на планёрке говорил о повышении ответственности дисциплины. Колесову я должен писать каждый день рапортички: такой-то сидел на месте, такой-то уходил туда-то и на столько… Колесов сам собирается пройти по комнатам и узнать кто где.
– Поделали из нас цепных сторожей, – буркнул Олег, открывая форточку.
Татьяна закопытилась:
– Если тебе надрали уши, то нам не жарко.
– Поменьше бы выступала…
Люся Ермакова пытается из-за моего плеча прочитать, что я пишу в дневнике:
– Толя! А что ты пишешь в ящике? Ты романист или анонимщик? Что ты записываешь? Внезапно пришедшие мысли?
– Внезапно ушедшие! – отвечаю я.
Молчанов:
– Он напишет роман «Четверть века среди идиотов». А сам я пишу новую книгу «Марсик на работе и дома».
Татьяна:
– Скажи мне одной, а там не волнуйся. Разнесём! И почему ты сопишь, когда пишешь в столе?
– Вкладываю всю силу. Но пишу не про ТАСС.
Молчанов:
– Кто не пишет для ТАССа, того пошлют копать фундамент под расширяющийся ТАСС.
Намечалось построить новое здание в 25 этажей.
Но московскому папке[258] плеснула моча в башню, и от 25 этажей уцелел лишь бетонный куб в шесть этажей. Карлик… Карлуша- телевизор…
3 ноября
Сопровождал брежнева…
Колесов вернулся из командировки. Сопровождал Брежнева в Берлине и Париже.
При отлёте из Парижа он с трапа суматошно вопил:
– Политический!.. Политический!..
Наш парижский корреспондент Красиков передал материал в Москву, спросил, почему Колесов выкрикивал слово политический.
Оказывается, в советско-французском коммюнике надо выбросить слово политический.
Вошла Аккуратова. Поздоровалась:
– Ав-ав!
Вслед за нею безысходно залилась Панченко:
– Ав-ав-ав-ав!..
Бузулук почти лёг на стол, таращит глаза снизу вверх и тяжело ухает:
– Ув-ув-ув- ув- ув!..
Не редакция, а захудай собачня.
Калистратов притащил с планёрки:
– Клименко получил выговор за то, что на венке Конёнкову забыл указать Совмин, назван только ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР.
Молчанов вздыхает:
– У нас равноправие. Жрать хочешь – берись за нож!
Аккуратова ему:
– Ты не ласковое теля, чтоб две матки сосать.
4 ноября
Вижу лишь её ноги
Скоро праздник.
Светозарный Бузулук поёт:
– С чего начинается Родина?
С поддачи в родном кабаке…
Я сказал Севке, что у меня разболелась нога, и поехал в Люберцы. Надежда купила стол. Надо переплавить в Лобню, где на днях она получила квартиру.
Она встретила меня у магазина.
– Рубль есть?
– Есть.
Отнесла продавцу.
Как добираться до электрички?
Кинул стол на хребет. Тащу. Глаза в землю. Вижу лишь её ноги. Она шла впереди.
За такси с Казанского до Савёловского отстегнул трояк. Сунул в поезд – вошёл Сашка, брат её.
По Лобне целый километр тащил по грязи. Впереди Надежда, сзади Сашка. Уговаривают остановиться, передохнуть. А я знай пру. Без останову.
«Если донесу, мужика покажу. Что-то значу».
Донёс!
Она меня поцеловала, и я, довольный, поехал домой.
6 – 8 ноября
Один.
Надежда сказала, что на праздники поедет домой в Мансурово. Девятого у неё отгул. Будет только десятого.
Отписывался по командировке.
9 ноября
Молчанов:
– Трудно будет сегодня крематорию. Столько жмуриков оприходовать…
Бузулук постукивает в раздумье пальцем по столу:
– Дизелист-мозолист! Это не дурачество, а борьба за качество!
10 ноября
Любовь – это рыбалка: не клюёт – сматывай удочки.
Л.Сидонский
В любовном треугольнике один угол всегда тупой.
А.Зотов
БЗЫКИ
Аккуратова:
– После праздника я стала кашлять по-царски.
Что-то быстро вернулся с планёрки Калистратов. Олег ему выговорил:
– Сраненько прибежал с планёрки!
– Не забегай поперёд Колесова.
Вечером я встретил у «России» Надежду.
Боже! Да ней лица нет!
Пальто с белым воротником и белыми рукавами в грязи. Зато улыбается.
– Как отдохнула? Вижу, перепила.
– Точно.
– Как там дома?
– А я откуда знаю. Не была.
– А где же?
– В Ялте… С Римом….
– С к-к-к-каким?
– У … твою мать! Он один!
Я обалдело смотрю на неё и плохо её вижу:
– Ты ж собиралась проводить праздники в своей деревне Мансурово… А… Неужели и в самом деле была в Ялте?
Я ходил с нею в мастерскую ей за шторами, за хлебом, молоком и всё задавал один и тот же вопрос. Она смеялась и твердила:
– Да, была. Пока не говорили, трудно было, а сейчас легче.
– Боже мой… Какая подлянка… За что ты мне в душу грязным сапогом? За всё доброе?
– Не будь добрым.
– Это уже конец человека…
– А ты ликуй! Я подкинула тебе о сюжетку про беспонтовую[259] машерочку! Гуляла с одним, а на юга рванула с другим!
– Да не нужен мне твой сюжет… Неужели ты была в Ялте? У меня не укладывается в голове…
– У тебя много чего там не укладывается. Слушай, отвали от меня. Ну подумаешь, дунька с закидонами… Дай раз в рожу и отвали.
– Тоже научилась…
– Дай раз по витрине и отвали.
– А что это ты ограничитель устанавливаешь? Что ты мне всё указываешь, сколько раз дать тебе по циферблату. Всего лишь один раз! Ишь, ограничение! Да я тебя убью! Иди-ка сюда, иди, – толкаю её в тёмный угол и кладу руку ей на горло.
– И вправду, задушишь.
– Если ты точно была на юге.
– Точнёхонько! Вправду.
– Не верю! Скажи – выдумала. Скажи… Скажи…
– Была, – тихо и спокойно проговорила.
Накрапывал ленивый дождь.
Мы стояли в тёмном дворе-колодце. Совсем редко проходили люди.
Я молча смотрел ей в глаза, равнодушные, пустые, и не знал, что делать.
– Я хочу видеть лицо, глаза человека… Я в них смотрел в четверг, когда притащил стол. Ты цвела, улыбалась, поцеловала, легонько толкнула за дверь, и я радостно покатил домой. Я был счастлив. Ты улыбалась. А за неделю до этого, в день, когда я всю субботу парился в очереди, – ты была в кассе за билетом до Ялты. Ну где здесь человек? Где че-ло-век? К чёрту маски!
Она смотрела мимо меня. Мы шли по Петровке.
– За такое тебя в этот дом не сдашь, – кивок на дом 38, милиция.
– Так брызни на меня сюда, на Петровку…[260] Да пошёл бы ты!..
– Как совместить?.. Ты в самом деле была?
– В самом деле.
– Почему мне не сказала?
– Ты б пустил? Знаю, какой ты бешеный раздолбай.
– А разве я не мог бы свозить тебя на юг?
– На какие шиши? Да и я хотела с ним.
– А я? Как ты могла целовать в четверг?
– Я всё могу!
– Ты так…
– По рукам пойду?
– … скурвишься быстро.
– Не бойся.
– Если бы я знал в четверг, я бы бросил стол с пятого этажа. Тебя бы – следом. Меня вытолкнула и побежала готовиться к самолёту?
– Я боялась, Сашка проболтается.
– Тот-то ты погнала его мыться… Ну… Ты съездила. Это факт. Мне важен процесс. Ты ни разу обо мне не подумала?
– Подумала… Так… Ухаживай за мной поменьше. Ты же знаешь… «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Рим это хорошо усвоил. А ты безнадёжный ученик.
– Я не умею выпендриваться. Что на душе, то и в поступках.
– А зря.
– Я не верю, что ты ездила.
– Доказательства? Подробности? Я опоздала на полчаса. Вылетели в двенадцать. В Ялте сняли две комнаты. В комнате у меня цветы. Пробежали по местам, где купались летом…
– Постой! Так ты уже прошлым летом мотались с Римом в Ялту?
– Ну!
– А почему мне не сказала?
– А ты мне много говоришь? Лето. Уехал… Не взял…
– Куда б я тебя взял? В командировку на Чёрные калмыцкие земли?
– Ну на Чёрных ты ж не год был?
– Не год. Так из командировки я приехал к своим в Нижнедевицк. В деревню. Тебе очень интересна деревня? Не надоело своё Мансурово?
– Ну… Замнём для ясности… Были в туалете, куда ездили на такси из Симеиза в Ялту. Я там пила одна. Реально. Он закодированный алкаш. Не заливает за хобот.
– Хва-тит!
– Ну ты же просил ясности…
– Ничего я не просил. Это ты у меня просила мой новый немецкий портфель. В Дрездене брал. Хотела с моим портфелем выкачуриваться? Как всё продумано, как всё целенаправленно, как всё спокойно и как всё низко! Мне стыдно, что со мной так поступают. Я напишу этому Риму всё, что о нём думаю.
– Ты этого не сделаешь. Потому что этого хочу я. У меня вы оба как подопытные кролики. Что я хочу, то и делаю с вами. Отвалили бы вы оба! Как же вы мне оба надоели!.. Слушай! Ну что за дела? Куплю я себе брючки, над-д-дэну и подамся-ка на вечер в МГУ сечь новых кадров!
– Тоже мне экзекуторша… Мамка в панамке… Посиди и всё пройдёт…
– Валите оба от меня!
– Пусть он отваливает первым. Уступаю первенство старшему.
– Нет. Тебе быть первым. Старшим не надо перечить.
– Поконаемся. Чтоб без обиды…Не верю! Не верю! Не верю! Не верю!.. Ты не была на юге. Ты разыгрываешь. Ну скажи, что это розыгрыш!
– Это правда!
– Доказательства?
– Билеты… Покажу…
– Что билеты… Ты себя показала, свою душу. Как ты могла бегать со мной везде по магазинам, а в кармане держала южные билеты? Рассказала бы, как это у тебя совмещается?
– Чтоб потом ты написал?
– О подонках, о грязи на душе человека никогда не буду писать. Этого и так в жизни разпредостаточно. Я буду писать о том, чего нам не хватает. О чистоте, о святости в отношениях людей.
Лютовал дождь со снегом.
Худые мои туфли промокли.
Я посадил её в автобус и побрёл в ТАСС на дежурство в дружине.
Но почему-то забрёл в свою комнату.
Надо бы попечатать.
Пробую… Не печатается… Не могу.
Я бессмысленно смотрел вокруг – на стены, на чёрные окна – и не видел их. Я видел одно, непередаваемое в словах и так угнетающее душу – видел измену. Видел её равнодушное циничное лицо. Я не хочу её видеть. Закрываю глаза. Но я всё равно её видел. Видел душой.
В штабе дружины я взял наряд – меня сразу и отметили. Мол, отдежурил.
Домой я пришёл в полночь. Не ел. Лёг. Таращу глаза в потолок.
Утром поймал себя на том, что смотрел в потолок.
Спал я или нет? Не знаю.







