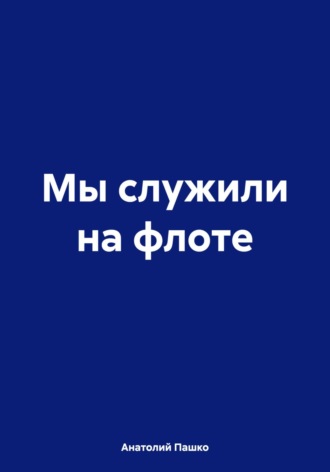
Анатолий Николаевич Пашко
Мы служили на флоте
Вот он! Настоящий враг.
I
На календаре был конец января 1985 года. То было время «застоя». Так назовут время моей юности все те же учёные. На одной шестой суши земного шара от Балтийского моря до великого Тихого океана ещё располагался такой же великий и могучий, хотя и находящийся за железным занавесом, Советский Союз. Даже в настоящее время, зная про кровавые 37-39 годы, «Архипелаг Гулаг» и многое другое, темное и страшное, несмотря на мой нескрываемый скептицизм, перемешенный с солидной долей иронии, я люблю СССР времен «застоя». Человек не волен выбирать родителей и место для рождения. СССР был не только моим домом, но и домом для моего поколения. Как человек может не любить родителей и дом, в котором вырос и прошел путь взросления? Чем дальше машина времени увозит нас от СССР, чем больше мы сталкиваемся с несправедливостью и бардаком в нашей жизни – чем больше ностальгия. Несмотря на всё отрицательные стороны, очень много хорошего было в СССР. В те, уже далекие времена, простые люди были намного человечнее, не охвачены пороком стяжательства. Про моё поколение, про тех, кто родился до середины 1970-х годов, очень точно в одном из интервью высказался известный российский режиссёр Владимир Хотиненко: «…Мы формировались в четкой системе жизненных координат. А постперестроечное поколение – ни в какой!».
Еще не возглавил ЦК КПСС, находящийся под каблуком у своей жены, американского агента влияния, партийный функционер М.Горбачёв. По СССР, прикрываюсь лозунгами «демократизация» и «перестройка», ещё не начала свое движение, метко подмеченная народом историческая «Тройка»: Райка, Горбачёв и «перестройка», которая, по моему мнению, в конце концов, и привела к гибели империи под названием «СССР».
Для объективности нужно сослаться на мнение ученых, которые настаивают, что «Тройка» в гибели империи не причастна, что это закономерный исторический процесс. Таким образом, себе же противореча, они отрицают роль личности в истории, ссылаясь на законы развития общества, что одно вытекает из другого, и как бы человеку с его мыслями и его внутренним миром в этих законах места нет, что простой человек просто игрушка в руках истории.
Наберусь наглости, и возражу учёным: «Господа и товарищи, учёные! В далеком 1985 и 1986 году мы, простые моряки, находясь на боевой службе, считали, что имеем прямое отношение к истории, к противостоянию с врагами первого в мире государства рабочих и крестьян. Отсюда вытекал высокий уровень сознательности и ответственности у моряков при несении вахты и внутренних нарядов. Никому не надо было напоминать о воинском долге. Тем более потенциальный враг был порой в пределах видимости или скрывался в нескольких десятках кабельтовых под килем корабля.
На срочной службе я не задавался вопросом: «Что БПК «Стройный» делал вдали от родных берегов в Средиземном море?» Полагал, что так надо было ради безопасности нашей Родины. Только значительно позже я нашёл ответ на этот вопрос.
Виной всему Холодная война. США после окончания второй мировой войны возомнили себя мировым полицейским, и точно, как сейчас, постоянно имели в Средиземном море значительные военно-морские силы. Так называемый 6-ой оперативный флот ВМС США. Советский Союз, отойдя от катастрофических последствий второй мировой войны, накачав морские мускулы в виде новых многоцелевых кораблей, решил также иметь на постоянной основе в Средиземном море свой флот. В результате того противостояния во внутреннем море человечества в 1967 году появилась 5-ая Средиземноморская эскадра ВМФ СССР. Оперативное объединение кораблей ВМФ, предназначавшееся для решения задач на Средиземном театре военных действий в период холодной войны.
А говоря нормальным человеческим языком, в случае начала войны 5-ая Средиземноморская эскадра должна была бы отправить 6-ой оперативный флот ВМС США, как Герасим «Му-му», прямо на дно. Хочешь мира – готовься к войне.
В состав 6-ого оперативного флота США входил один авианосец и порядка шести крейсеров и эсминцев. Авианосец – это мобильная авиабаза, способная оперативно переместиться в любую точку океана или моря. Руководство ВМФ СССР считало, что наибольшую угрозу представляет именно этот плавучий аэродром, и отправлять на дно, прежде всего, нужно именно этого супостата.
С февраля 1981 по сентябрь 1985 года командующим 5-ой Средиземноморской эскадры был контр-адмирал Селивонов В.Е.. Контр-адмирал наш корабль не посещал, но нас, моряков срочной службы, постоянно им пугали. В подтверждение моих умозаключений, я сошлюсь на его воспоминания. По словам контр-адмирала Селивонова В.Е., средства противоздушной обороны американского авианосца типа «Нимиц» способы сбить одновременно 24 ракеты, хотя в этих способностях противоздушной обороны контр-адмирал всегда сомневался, но для гарантии, с запасом, на авианосец всегда были направлены 30 советских ракет. Возможно, чтобы не раскрыть военную тайну контр-адмирал не договаривает, и в глубине лазурных вод Средиземного моря, как волк за стадом овец, невидимая для американских кораблей охраны кралась за авианосцем наша, советская подлодка, а может даже две. Я собственными глазами видел, что минимум два американских эсминца всегда опекали авианосец от возможных советских ракет.
В 1992 году БПК «Стройный» был продан в Индию, как грустно шутят моряки, «на иголки», т.е. на металлолом. Я не раскрою тайну, говоря, что «Стройный» был в состоянии отслеживать и при необходимости спустить с небес на воду 16 воздушных целей. Возможности противоздушной обороны американского эсминца – мне не известны.
Для того чтобы у американцев не было времени перехватить ракету с близкого расстояния, рядом с авианосцем всегда находился один из боевых советских кораблей. В начале 1985 года этим кораблем предстояло стать «Стройному».
Узнав, чем в ближайшее время предстоит заниматься «Стройному», командир корабля капитан второго ранга Зюбрицкий А.С. построил личный состав на вертолетной площадке. Мне всегда импонировало в командире такое качество как искренность в общении с подчиненными. Он никогда не лукавил. Говорил кратко, по существу, но только правду, без всяких замполитских штучек, типа «Родина в опасности».
«Мужики! – не по-уставному начал командир. – Нам предстоит осуществлять слежение за американским авианосцем. Вы должны знать, что в случае войны, мы не имеем права геройски пойти на дно, пока хотя бы одна наша ракета не приземлится на взлётной площадке этого морского монстра. Я в вас верю».
Сказал, как отрезал. Просто и понятно. Это тот классический случай, когда у матросов не было вопросов, потому что всё понятно.
А это действительно был и есть железный морской монстр.
II
Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», бортовой номер 69. Один из десятка атомных авианосцев проекта «Нимиц». Имеет два атомных реактора. Длина 333м. Это – больше чем длина трёх футбольных полей. Высота 72 м. Представьте дом в 27 этажей. Когда мы подошли к «Дуайт Эйзенхауэру» то клотиком (высшая точка на мачте корабля) едва доставали до его палубы, т.е. расстояние от ватерлинии до палубы 16 метров, что выше пятиэтажного дома. Скорость 30 узлов или 56 километров в час. Авиакрыло от 50 до 80 самолетов различных модификаций, где основную массу составляли истребители-бомбардировщики. Плюс до 20 вертолетов.
Обслуживало этого монстра американского кораблестроения 3200 моряков. С ними дополнительно на борту находилось 2480 личного состава авиакрыла. Итого: без малого шесть тысяч человек. Одно слово – впечатляет, но не страшно. Я всегда знал, что мы сильней. По крайней мере, духом. Мы служили за идею, верили, что защищаем Родину, а они – за деньги.
По-видимому, наш командир дословно понял приказ стать тенью авианосца. Нагнав это морское чудовище на необозримых просторах Средиземного моря, «Стройный» лихо, маневрируя, прошёл между двумя американскими эсминцами сопровождения, и остановился по левому борту от авианосца всего в пару кабельтовых. Невооруженным глазом можно было рассмотреть лица американских моряков, находящихся на взлетной полосе авианосца. Мне даже показалась, что ещё немного и наш командир в лучших пиратских традициях даст команду достать абордажные кошки и идти на абордаж, так близко мы находились от этого плавучего аэродрома. И плевать, что этих проклятых «янков» значительно больше. Говорят, что наглость – второе счастье.
«Янки» такой наглости не ожидали. Сначала нас нагнал один из эсминцев. Изучив нас досконально от ватерлини до самых ходовых огней, эсминец вальяжно отвалил, как бы говоря: «Ничего серьезного они не представляют». А вот это, батенька, Вы зря! Залп в упор из пяти торпедных стволов, ракетных и артиллерийских установок показался бы авианосцу вторым Пёрл-Харбором. С такого расстояния и слепой не промазал бы, если бы что.
Это прекрасно понимал капитан авианосца. Целую неделю думал, как нас проучить и придумал всё-таки, а у нас пока началась настоящая работа.
III
Слежение. Во-первых, слежение заключалось в том, что мы как приклеенные тенью следовали за авианосцем. Всё время держались на одинаковом расстоянии от потенциального врага. С вышеуказанной благородной целью, так как американцы не только чтобы погреться под теплыми лучами солнца покинули родные дома и приплыли в Средиземное море.
Казалось, нас они не замечали, и у них каждый день шла кропотливая работа по тренировке их летчиков и всего экипажа этой плавающей громадины. Целый день, за исключением обеда и следующего за ним адмиральского часа (о нём я остановлюсь отдельно), у них шли полёты. Деньги налогоплательщиков они не жалели, на авиационном топливе не экономили. Летчики целыми днями носились на своих «Фантомах», как угорелые.
По телевизору часто показывают, как американские самолеты один за другим лихо осуществляют посадку на авианосец. Байки. Не верьте. Собственными глазами видел, что с первого раза только один из трёх удачно приземлялся на палубе. Некоторые по два, а то и три захода делали, прежде чем их «Фантом» мирно успокоится на верхней палубе. Всё дело в том, что посадка палубной авиации специфическая. Авианосец хоть и длинный, но взлетная полоса для боевых самолетов коротковата. Взлетают они с помощью катапульты, которая придает самолету значительное ускорение. С взлетом у летчиков проблем не было, а вот с посадкой совсем другое.
Самолеты вещь скоростная и нужно как-то гасить скорость при посадке. На земле с этим – проблем никаких. Коснувшись земли шасси, самолет катится, пока законы физики его не остановят. А в море, где она посадочная полоса? Спасли положение всё те же законы физики.
При посадке на палубу летчик заранее выбрасывает трос, который одним концом закреплен к корпусу самолета, а на конце другого прикреплен крюк-гак. При посадке крюк зацепляется захватом за один из нескольких тросов, натянутых поперек посадочной полосы и, таким специфическим тормозом гасится скорость самолета. Никакой электроники и кибернетики, одна механика.
В теории всё просто, а на практике – нет. Я неоднократно наблюдал, как самолёт плавно заходит на посадку, под ним уже болтается трос с крюком», и вдруг, самолет свечей уходит в небо. Это значит: промазал, крюк не зацепился за продольный тормозящий трос, и, чтобы не свалится в море – летчик врубает «форсаж» и уходит на второй круг.
IV
Во-вторых, слежение заключалось в том, что при взлете самолетов радиометристы станции воздушного обнаружения передавали курсы полетов самолетов на эскадренный корабль, где держал свой вымпел командир эскадры. Там отслеживали дальше их маршруты движения в безоблачном Средиземноморском море.
Кроме того, для радиометристов, обслуживающих боевые артиллерийские и зенитно-ракетные установки началась настоящая работа по реальным воздушным целям. Благодаря американским летчикам, мы тоже время не теряли и повышали свой уровень профессиональной подготовки. В учебке я изучал станцию «Вымпел», но одна беда – её в учебном отряде так и ни разу не включили. Теория без практики мертва. Перед выходом на боевую службу у нас было пару выходов в море, где работали по воздушной цели. Обычно это был одиночный самолет, про которого все знали, в каком секторе воздушного пространства он находится и с учетом того, что он летел всегда прямо и не менял высоту – обнаружить его и захватить на сопровождение боевой станцией труда большого не составляло. Мой командир отделения Слава Ламкин учил меня, как работать на станции, но этого было недостаточно. Моё становление как оператора-радиометриста состоялось в Средиземке.
Другое дело с самолетами авианосца. Они взлетали десятками. В воздух поднималось до 20 самолетов сразу, а то и больше. С детским азартом летчики отрабатывали фигуры высшего пилотажа и, находясь на разных высотных эшелонах, отрабатывали тактику воздушных боёв. На экран станции «Вымпел» было страшно смотреть. Он был весь в засветках. Каждая засветка была воздушной целью. Курсив станции, следуя за круговым вращением антенн стации, раз заразам высвечивал очередную воздушную цель.
Обнаружить воздушную цель небольшая проблема. Станция сама её обнаруживала и высвечивала на экране. Другое дело её захватить для сопровождения. Это зависело от мастерства оператора-радиометриста. После обнаружения станцией воздушной цели оператор должен был вручную захватить цель. Для этого оператор должен был светящуюся на экране точку, обозначающую воздушную цель, обставить двумя небольшими полосками-захватами (типа знака «Равно» на клавиатуре любого компьютера только в вертикальном положении), так чтобы святящая точка оказалось точно посередине, и быстренько нажать кнопку «Захват». После чего умная станция сама ведет цель, а оператору только нужно только дождаться, когда воздушная цель войдет в зону поражения. Умная станция сама подскажет, и когда нажать на ножную педаль «Огонь». В таких случаях умная стация «Вымпел» никогда не промажет. Она же машина, и руки от волнения у неё не трясутся.
В теории вроде всё гладко и понятно, а на практике начинаются проблемы. На станции должны работать три человека. Два оператора, каждый из которых управляет отдельной полоской-захват и старшина или командир отделения, задача которого вовремя нажать на гашетку-педаль «Огонь» и отвечать на команды из БИП (боевого информационного поста). Жизнь показала, что двоим оператором работать не удобно. Нет синхронности. Кто-то обязательно подтормаживает. Один оператор захват к цели подведет быстрее, второй опаздывает, а цель то перемещается. Начинай захват заново. Плюс вечная нехватка людей.
Личный состав команды «Вымпел» постоянно нес наряд по камбузу. Корабельный устав требует, чтобы по объявлению тревоги экипаж занимал места согласно боевого расписания. Это правило. Но тревога тревогой, а есть то хочется всегда. Тревога может длиться 3-4 часа, а то и полдня. Когда готовить пищу? Кто-то скажет, что для этой цели на корабле есть кок. Да он есть, но он один не в состоянии приготовить обед на 260 человек. В помощь коку на камбуз выделяется два рабочих по столовой, которые моют котлы, чистят овощи и картофель и, самое главное, наводят идеальный, постоянно поддерживающийся порядок, который по стерильности не уступает операционным хирургических отделений в больницах.
С учетом жизненных реалий мой командир отделения Слава Ламкин учил меня и Леху Турсина работать на станции по одному, двумя руками одновременно, вращая две ручки «захвата». Лучших условий для тренировки и придумывать не надо. Каждый день, после утренней чашки кофе, у американцев на авианосце начинались полеты. На своих «Фантомах» они носились как черти, что даже забывали про свой знаменитый ленч, а у нас начинались тренировки по работе с воздушными целями.
Оператор боевой станции уничтожения воздушных целей не вправе работать по понравившейся ему цели. Он работает в системе противоздушной обороны корабля и подчиняется БИП (боевой информационный пост). Экран станции синхронизирован с приборами БИП. Они определяют каждому оператору воздушную цель. Её могут сбросить по каналу передачи «ЦУ» (целеуказание). Дополнительная подсветка будет её высвечивать на экране. По неизвестным причинам, но с довольно частной периодичностью, «ЦУ» не проходило. Её просто отключали. Это называлось «Тренировка операторов в словиях приближенных к боевым условиям». Куда ещё боевое. Враг на расстоянии вытянутой руки и кружит в небе чёрным вороньём. Тогда «ЦУ» передавали по громкой связи. Например, мне передали команду: ««Вымпел» ваша цель на 11 часов». Это значит, что я должен экран станции радара представить часовым циферблатом и в секторе «11 часов» обнаружить предназначенную мне цель и вручную захватить её на сопровождение. И так до бесконечности. Мне больше нравилось работать в режиме одинокого охотника.
Когда командование было довольно работой радиометристов станций, оно давало команду: «Приступить к тренировке по воздушным целям самостоятельно». Я обожал эту команду. Ты сам охотник. Радар высвечивает тебе на экране воздушные цели. Выбирай любую. Крутя ручки захватов, ты как хищник подкрадываешься к мирно летящему самолету. Мирно летящий – это я перегнул. В небе кружили боевые истребители-бомбардировщики, готовые стервятниками с небес обрушиться на жертву.
И вот самолет точно по центру полосок-захватов, и ты включаешь кнопку «Захват». Умная станция миганием лампочки-индикатора сообщает: «Цель сопровождаю, данные для стрельбы вырабатываются, при нахождении цели в радиусе поражения – можно открыть огонь». Со словами «…Попался гад», ты довольный жизнью и собой потираешь руки. А руки так и чешутся спустить десяток «янки» с небес на воду, чтобы не выпендривались и припомнить им Вьетнам. Слава Ламкин, видя мой нездоровый охотничий азарт (теперь это называется ярким проявлением патриотизма), лично контролировал переключатель гашетки «Огонь». Перед дембелем он мне как-то сказал: «Пашко! Когда я буду на гражданке и услышу, что началась Третья мировая война, я точно буду знать, что развязал её ты, сбив пару американских самолетов. Умерь свой «ура патриотизм» и ненависть к мировому империализму в лице американских летающих «гадов»».
«Гад» – летчик, сидящий в кабине американского «Фантома» идти на заклание жертвенным бараном никогда не собирался. Как только в его кабине зажигалась лампочка, обозначающая, что самолет сопровождается боевая станция, вспоминал всё, чему его учили в военной академии. На экране станции хорошо было видно, что до летчика дошло, что он сопровождается. В этот момент святящая точка, изображающая самолет, могла поступать по-разному: она могла резко устремиться вверх или наоборот резко падать к уровню моря, или со сверхзвуковой скоростью лететь по диагонали, или, черт знает по какой траектории, уходя из радиуса поражения и обнаружения, а то могла совсем внезапно пропасть с экрана.
Компьютер станции не всегда справлялся за выкрутасами летчика и иногда терял цель. Со словами, «…врешь, «гад», от меня не уйдешь», оператор снова включался в игру. Последнее зависело от мастерства радиометриста, его расторопности, интуиции предугадать действия летчика, и заранее, пока цель повторно не обнаружит радар, в место предполагаемого нахождения цели подвести полоски-захват. Это удавалась не всегда.
Американские летчики тоже времени не теряли и на нас тренировались, оттачивая свое мастерство. Сотрудничество было взаимовыгодным.
Хвастаться не красиво, но за время боевой службы я стал похож на пограничную собаку, которую никакие уловки нарушителя не могут сбить со следа. Я «насобачился» работать на станции до такой степени, что через полгода после возращения со Средиземного моря во время контрольных стрельб подтвердил звание «Лучший боевой пост «Вымпел»» на эскадре (его ещё до меня завоевал Слава Ламкин), и спас репутацию лучшего корабля эскадры от неминуемого позора. В подтверждение своих слов, я вынужден отступить от хронологии повествования и остановиться на этом эпизоде, так как он является красноречивым подтверждением, прежде всего, технических возможностей артиллерийского комплекса «Вымпел», а потом моих способностей как оператора-радиометриста.
V
Осень 1985 года. «Стройный» вышел в море на контрольные артиллерийские стрельбы. Командование 7-ой Атлантической эскадры ВМФ проверяет профессиональную подготовку радиометристов и артиллеристов артиллерийского комплекса «Турель». Корабельная система управления огнем АК-726 «Турель» состоит из носовой и кормовой артиллерийской башни, где на общем лафете установлены два 76мм спаренные орудия, и двух РЛС (радиолокационных станций), позволяющих вести огонь автоматически из постов радиометристам.
По замыслу учения должен был прилететь самолёт, который сбросит большой парашют. Задача для радиометристов станции «Турель» проста как две копейки: обнаружить парашют в воздухе и порвать его артиллерийским огнем на британский флаг. Просто и понятно. Это на словах. На деле оказалось для «Турелистов» невыполнимой задачей.
Корабль прибыл в район стрельб. Стали дожидаться самолет. Его сначала обнаружила РЛС дальнего обнаружения. Затем слышу по громкой связи бодрый доклад постов кормовой и носовой «Турели»: «Цель вижу, сопровождаю». Все идёт по плану. Ничего не предвещает беды для «Турелистов». Они работают по плану первым номером им и карты в руки.
Я работаю в обычном тренировочном режиме, то есть, особо не напрягаюсь. К этому времени я командир отделения, а Слава Ламкин на дембеле и уже пару месяцев как наслаждается у себя на малой Родине астраханскими арбузами. Леха Турсин где-то в наряде в районе камбуза. Старый старшина команды то ли уволился на дембель, то ли списался на берег (история темная и я ему не судья), так что на станции как обычно работаю я один. В кресле старшины команды сидит командир отделения комендоров «Вымпел», мой одногодок моряк срочной службы родом из Карелии, которого в главе «Годковщина» я принял за шпиона. По боевому расписанию комендоры должны находиться возле своих колонок ручного управления огнем, но за бортом собачий холод, и командир отделения греется у меня в посту, а его подчиненные наверху. Мои руки заняты ручками «Захватов», и командир комендоров исполняет роль моего старшины. Когда идет по громкой связи вызов с БИП, он включает тумблер связи, сам не отвечает, а протягивает к моему рту микрофон, чтобы я смог отвечать на команды и не отвлекался от крана радара.
По громкой связи слышу команду:
– Самолет сбросил парашют. «Турель» носовая – БИПу. «Турель» кормовая. Ответьте БИПу! Цель наблюдаете? – а в ответ тишина. Носовая и кормовая «Турель», как белорусский партизан на допросе у немцев, молчат. Никто не хочет первым признаться и попасть под командирский гнев.
– «Турель» носовая, «Турель» кормовая! Вам сброшено целеуказание.
РЛС «Турель» была завязана на станцию дальнего воздушного обнаружения «Ангара», которая могла сбрасывать на экран РЛС «Турель» уже обнаруженную цель. По всемирно известному закону «Подлости», целеуказание на посты «Турель» не прошло. Тучи над личным составом «Турели» стали сгущаться. В небе и эфире запахло грозой. Сухое потрескивание в эфире свидетельствовала, что на БИПе уже накопилась отрицательная энергия, которая так и рвется наружу. Молния начали проблескивать на грозовом небе.
– «Турель! Дьюнов! Если не ответишь – я лично спущусь к тебе в пост и пристрелю тебя на месте, – это командир БЧ-7, капитан 3-го ранга Пикалов Максим Борисович прогремел сухими предупреждающими раскатами по громкой связи.
Мичман Дьюнов, Сан Саныч, был старшиной носовой и кормовой команды «Турель», добрейший души человек, зная суровый нрав командира БЧ-7, не стал рисковать и дожидаться приведения в исполнение приговора.
Это был «залёт». Причём конкретный. Перед стрельбами представители завода изготовителя РЛС «Турель» прибывали на корабль. Целую неделю они доводили до ума работу двух станций. Мичман Дьюнов, имея рост под 180 см, и вес, приближающий к этой цифре, только в килограммах и застрявший меду стрелками 140-150 кг, в силу природной лени, и морского «пофигизма» всё это время продрых в кубрике для мичманов. По окончанию работ он добросовестно подписал инженерам настройщикам акт о проделанной работе, работу станций не проверил, но командиру БЧ-7 молодецки доложил, что обе станции работают как часы, что призовой кубок по стрельбе у него без пяти минут как в кармане. Был за ним грешок: любил Дьюнов показать свой высокий уровень КПД (коэффициент полезной деятельности) и обосновать необходимость своего существования на корабле в чине мичмана.
– БИП, кормовой «Турели», – заплетающим языком, понимая, что жить ему осталось совсем немного, максимум до прихода в базу, начал Дьюнов, – ЦУ не прошло. – Пауза, и дальше голосом полным раскаяния и надежды, что повинную голову не секут, промямлил: – Цель, не наблюдаю.
– БИП, носовой «Турели», – следом бойко разорвал минуту повисшего молчания в эфире командир отделения носовой «Турели» Вовочка, радуясь в душе, что всё «подарки» достанутся мичману Дьюнову, а до него, может, и очередь не дойдет. – Цель не наблюдаю, – и от греха подальше и дальнейших расспросов тут же отключился.
Впоследствии, внутренним расследованием причин позора команды «Турель» виновник был установлен. Им оказался командир отделения носовой «Турели». Мы всё его ласково прозывали Вовочка. Так же добрейший души человек, но на своей волне. Ему сам чёрт был не указ. После боевой на строевом смотре он умудрился проверяющему контр-адмиралу дать на жизнь три рубля, за что был прямиком отправлен на гарнизонную губу. Об том в отдельной главе.
Оказалось, что после окончания работы инженеров – наладчиков, со словами «…ни хрена они не понимают» Вовочка полез усовершенствовать систему прохождения целеуказания, а также полез в самое святое любой станции: настройку работы «мозгов» станции. Он был командиров отделения, а самое главное «годком», и остановить его никто был не в состоянии. Ладно, усовершенствовал бы он только носовую станцию, так он с самими благими намерениями не поленился и сходил в кормовую «Турель», где также внёс существенное усовершенствование в работу станции. Данный факт был подтвержден по возвращению в базу срочно вызванными инженерами завода-изготовителя, обслуживающими станцию. В ходе разборок свою вину он признал частично. Признал свою вину Вовочка лишь в том, что, приведу его же слова, «…маленько не докрутил».
– Кто наблюдает парашют? – раздался из динамика голос командира. Вопрос этот относился ко всем радиометристам.
Расчёт «Вымпела» официально в учениях участия не принимал, поэтому я позволил себе расслабиться. За краном я не следил, и мысли мои были далеко отсюда с той, с которой познакомился в отпуске, и дальнейшие знакомство с которой радовало воображение многообещающими перспективами. Только при условии, что она меня дождется, так как служить мне еще почти два года. Потому смотрел я на экран радара, как баран на новые ворота. Баран в байке видел хоть ворота, а я ничего вообще не видел.
Хотя мое сознание было ох, как далеко, а вот слух нет. Он пограничной собакой отслеживал ситуацию и команды, передаваемые по громкой связи. Услышав вопрос–указание, я тут же прильнул к экрану радара, и, работая на уровне инстинктов, выработанных постоянными тренировками на боевой службе в Средиземном море, подогнал полоски-захват в квадрат вероятного нахождения цели. Не успела цель засветиться маленькой точкой на экране вслед за очередным круговым поворотом курсива радара, как я успел её захватить полосками-захват и включить «Захват». Единственное, что я заметил: цель поразительно быстро перемещалась к уровню горизонтали, но одним глазом я успел заметить, что она в зоне поражения. Такое у меня уже в практике было. Американские летчики часто использовали данный прием, чтобы избежать сопровождения боевой станцией. Они камнем падали вниз, затем резко на малой высоте, сливаясь с уровнем моря, на большой скорости пытались уйти из зоны поражения и сбросить с себя невидимые цепи сопровождения самолета боевой станцией.
– БИП, «Вымпелу»! Цель вижу и сопровождаю. Она в зоне поражения! – доложил я.
– «Вымпел»! Огонь! – узнал я голос командира БЧ-7.
Нет проблем. Нажав ногой гашетку, а дал короткую очередь. Цель с экрана пропала. Это значит, что попал. Я только хотел доложить, что цель поражена, как раздался из динамика грозный окрик-вопрос:
– Пашко! – дальше слово на букву «б» и немой вопрос: – Ты куда стрелял? Дробь!
Команда «Дробь» обозначала прекратить стрельбу. С матом чуть посложней.
Происхождение «мата» одна из загадок русской ненормативной лексики. Всё те же, всё знающие ученые, утверждают, что мат принесли на русскую землю проклятые гунны, возглавляемые «Бичом Божьим», Атиллой. При великом переселении народов. Гунны как народ исчезли с исторической арены, но мат успел перейти к татарам. Татары в свою очередь перепортили не только всех русских девиц, но и привили русскому человеку свои матерные слова.
Для объективности нужно сказать, что те же ученые данную гипотезу в настоящее время отвергают, как не состоятельную, и утверждают, что мат имеет корни во всех языках индоевропейских народов. Тогда почему он прилип только к русскому? Значит, почва благодатная была, раз закрепился.
Оставим это на совести всё знающих ученых, а в армии мат прижился крепко и свою разговорную нишу в общении военнослужащих покидать в ближайшее время не собирается. По воспоминаниям однополчан даже великий писатель Лев Николаевич Толстой, нося на плечах погоны офицера русской армии, любил прибегнуть к крепкому словцу, и делал это настолько мастерски, что равных ему в этом в полку не было.
При всём величии и могуществе русского языка, жизнь показывает, что только матом, причем только одним матерным словом порой можно наиболее эмоционально выразить свое недовольство чей-либо глупостью и одновременно показать серьезность всего положения вещей. Так и в моем случае.
Слово, произнесенной командиром БЧ на букву «б», означало, что Пашко не падшая женщина, а Пашко натворил что-то такое, выходящее из ряда человеческого понимания, что не может произойти никогда ни при каких условиях.
– Всё, Пашко! Поздравляю! Отныне твой дом – тюрьма! – это как всегда вышел со мной на связь мой Мозг.
– С чего ты взял? – огрызнулся я.
– Сам подумай. Командир БЧ ругается матом. Значит, что-то произошло.
– Не может быть. Всегда из сектора огня всех выводят, – неуверенно проговорил я, хотя страшные догадки стали во мне потихоньку зарождаться, а Мозг только подливал бензин в пламя моих страхов.


