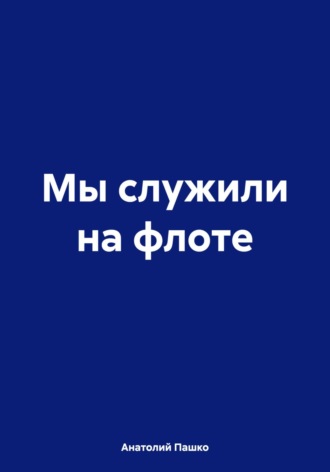
Анатолий Николаевич Пашко
Мы служили на флоте
II
Другие новости были более обыденные и прозаичные, имели отношение непосредственно ко мне. Во-первых, мой командир отделения Слава Ламкин дембельнулся, а с ним дембельнулся так же второй мой ангел-хранитель, земляк из Волковыска, Володя Матушинец. Только благодаря им первые полгода на корабле я не сломался и выстоял, живя в беспределе, имя которому «годковщина». Это значило только одно: теперь я могу рассчитывать только на себя.
Вторая новость то же была не радостной. Исчез из списков экипажа корабля мой мичман, старшина команды «Вымпел». Взял и резко уволился. Матросская молва говорила, что были веские причины. Бог ему судья. Хотя я ни разу не видел его с тестером в руках, или ползающего на коленях по палубе поста над многолистовой электрической принципиальной схемой того или иного прибора в поисках установления причины поломки, но как отец-командир, он был отличным. Был строгим, что касалась службы, но никогда не был самодуром. Так как мы с Лехой Турсиным не «тормозили» и морскую службу тянули как положено, закрепленный для приборки участок на шкафуте всегда радовал сиянием медяшек (небольшая закрепленная на верхней палубе медная табличка с номером шпангоута) и в посту всегда был идеальный порядок – мичман закрывал глаза на наш эпизодический кратковременный сон в посту во время многочисленных и продолжительных аварийных тревог. Первое время после его увольнения мне лично его не хватало.
Третья новость тоже имела отношение ко мне. По возвращению из отпуска я не нашел в кубрике моего боевого товарища Лёху Турсина. Оказалось, что Лёха убыл в учебку старшинского состава, учиться на командира отделения. Однако, на следующий день командир БЧ-7 капитан третьего ранга Пикалов Максим Борисович, прямым текстом поставил меня в известность, чтобы я губы не раскатывал и не расслаблялся, что командиром отделения предстоит быть мне. Я робко пытался возразить, что Турсин учится на командира отделения. Капитан третьего ранга не был склонен аргументировать своё командирское решение, лишь кратко отрезал по-военному: «Из вас двоих, я вижу, что пока самый адекватный Вы, матрос Пашко, а дальше посмотрим». У Максима Борисовича были веские основания так говорить, так как мы с Лешей уже успели попасть в поле его зрения и до самого дембеля оттуда не выпадали. Все два с половиной года куролесил мой товарищ Леха, но почему-то по иронии судьбы с ним вторым номером выступал всегда, без вины виноватый, матрос Пашко. Насколько я был не виновен, судите сами.
Лёха Турсин
I
Прежде чем начать повествование о наших с Лёхой похождениях на морской службе я напомню, что представлял собой моряк Северного Флота Лёха Турсин. Леху призвали на службу в 23 года. С его слов, он был уже женат и в браке имел сына, но, на мой взгляд, заливал как курский соловей. За время службы он ни разу не похвастался фото сына или красавицы жены. Ростом и силушкой обладал он богатырской. Его дурость была соразмерна его росту и богатырской силушке. Природа не может всё вложить в одно человеческое тело соразмерно, поэтому количество его серого вещества в головушке не соответствовало его росту и силушке. Хотя всё те же, всё знающие учёные, утверждают, что умственные способности не зависят от объема серого вещества в голове.
С Лёшей военная судьба меня свела ещё в учебном центре. Тогда я ещё не знал, что эта проказница решила нас повязать толстым швартовым концом до самого дембеля. Именно Лёша в учебке, хлебанув вина, с тесаком в руках носился за поросятами на свинарнике, а меня из-за него ночью кололи старшины, так и не найдя ответ на вопрос: «Почему из рабочей группы на свинарнике только я трезв?»
Первый раз, по-настоящему, Лёша меня подставил в рамках борьбы с «годковщиной», когда причину появления глубокой синевы на своей заднице свалил на меня. Командир БЧ после замполита то же вёл со мной беседу на тему, наличия синеватых разводов на заднице у одного и их отсутствия у другого. Я был достойным внуком белорусских партизан и твердо держался на «допросе». Кроме того, Максим Борисович был настоящим командиром и неплохо разбирался в людях, но чем чаще я и Леха представали перед его грозными глазами, тем короче становились наши беседы, тем длительнее капитан третьего ранга всматривался то в меня, то в Лёху, пытаясь понять, что же происходит в наших головах. Логическому объяснению многие наши похождения не поддавались.
Второй раз близко с нами командир БЧ познакомился, а точнее попались мы ему с поличным, во время операции под кодовым названием «селедка». Залёт был конкретный.
Как-то в конце 1984 года при подготовке к выходу на боевую службу продовольственная служба к трапу корабля доставила две бочки селёдки. Это только в морских афоризмах утверждается, что на флоте всё круглое кантуется. Ничего подобного. Всё поднимается на корабль на матросских руках, и не имеет значение это круглое или квадратное. Исключение составляют только корабельные ракеты и торпеды, а многое другое, начиная от тюков с ветошью и всевозможных ящиков и коробок с продуктами питания и другим корабельным барахлом, сюда же входят мясные туши убиенного крупного рогатого скота, кончая снарядами к пушкам, заносится на корабль на матросских руках.
В этот раз тоже не стали нарушать добрую морскую традицию. Тут же на причале представитель продовольственной службы лихо вскрыл бочки, словно это были не деревянные бочки, а обычные консервные банки. Нам с Лёхой предстояло перетаскать всю селёдку на корабль. Для этой цели в качестве носилок нам вручили внушительного размера лагун (металлическая емкость типа кастрюли, только значительно больших размеров, с крышкой и ручками для подъема и переноса), который тут же был нагружен селёдкой. Маршрут перемещения селедки пролегал по родному левому шкафуту, который мы с Лёхой драили до самого дембеля три раза в сутки. А селедка так и притягивала к себе наши взгляды. Ещё бы…
Это была не какая-нибудь балтийская или атлантическая, а настоящая, нагулявшая вволю рыбного жира на безразмерных морских просторах Северного моря северная селедка. Каждая рыбина весом 500-800 грамм. Таких размеров сельди я никогда до этого и после в своей жизни не видел. Селёдка предназначалась на стол офицеров и мичманов. Поэтому, когда Лёха предложил пару селёдок приватизировать для укрепления наших ещё не окрепших организмов витамином D – я недолго колебался, хотя, будем называть вещи своим именем, воровать не красиво. Это не обсуждается. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как-то изрёк: «Чистая совесть – у человека с короткой памятью». Я на память не жалуюсь.
Пока я думал, как это сделать тактически грамотно, Лёха, который предпочитал действовать, а потом получать по заслугам, преступил к процессу хищения принадлежащей Северному Флоту сельди. Мы только что поравнялись с нашими барбетами на надстройках и поставили лагун на палубу, чтобы передохнуть, как Лёха быстро нагнулся над лагуном, и молниеносным броском руки одна за другой отправил две самые крупные сельди в барбеты.
Не успели мы взять лагун в руки, как с барбетов донеслось не сулящее ничего хорошего грозное: «Кто?»
Из барбетов выскочил воинственно настроенный командир БЧ-7 капитан третьего Пикалов М.Б.. а за его широкой спиной семенил наш мичман, старшина команды «Вымпел». Я только потом от нашего мичмана узнал, что во время совершения нами противоправного деяния командир БЧ-7 с участием старшины команды решил проверить барбеты. Они только поднялись на надстройки и подошли к барбетам, как Максим Борисович получил мощнейший удар почти килограммовой селедкой в плечи. От второй летящей селедки он успел увернуться, и она досталась мичману. Кто говорил, что селедка не летает? Ворошиловский стрелок, блин! С другой стороны, даже если Турсин промазал бы – нас бы это не спасло. Это закон подлости во всей своей красе. Попались с поличным.
В мгновение ока офицеры спустились на палубу. Командир БЧ повторил свой вопрос:
– Кто?
– Матрос Пашко, – это свалил всё на меня мой боевой товарищ Лёха Турсин, и для наглядности, чтобы не было ни у кого сомнения, указал пальцем на меня.
– А ни фига себе девки пляшут! – это произнёс мой пораженный предательством мозг.
И мне оставалось только втянуть голову в плечи, так как надо мной навис всем телом капитан третьего ранга, и, кроме того, в этот момент он словно дубинкой размахивал селёдкой в руке – была высока вероятность, что эта селёдка, в конце концов, приземлится на моей голове.
Затем проследовал албанский вопрос:
– Зачем?
– Кушать сильно хочется, – выдал себя с потрохами Лёха, и его физиономия приобрела выражение лица ребенка, которого минимум три дня не кормили ни родители, ни в детском садике. Казалось, ещё немного – и он расплачется от несправедливости.
– Детский сад с барабаном, причём дошкольная группа, – это была реакция командира БЧ на виновато-просящую физиономию Лёхи. Подумав немного и улыбнувшись своим мыслям, капитан третьего ранга вручил Лёхе селёдку, которую он крутил в руках как дубинку, и задал каверзный вопрос: –Тебе хватит? – плохо он знал моряка Северного Флота ЛёхуТурсина.
– Никак нет! Нас двое.
– Молоток! Уважаю! – произнёс мой восхищенный мозг. Правда, это услышал только я.
Командир БЧ от такой наглости аж подпрыгнул на месте, но отступать было поздно. Максим Борисович забрал вторую селёдку у мичмана и также торжественно с подвохом спросил:
– А теперь как?
–Достаточно, – произнёс, нисколько не смущаясь, Лёха.
На этом инцидент был исчерпан. Только Лёхе двух селедок было недостаточно. На втором круге нашей прогулки по шкафуту с лагуном селёдки Лёха точно также могучим броском отправил в барбеты ещё три селёдки, несмотря на мои недостаточно убедительные призывы прекратить это безобразие и такие же попытки достучаться до совести Лехи. Ближайшее будущее показало, что Лёха знал, что делал, ибо после окончания погрузки селёдки на корабль, в барбеты не поленился и повторно поднялся наш мичман. Прикрываясь заботой о нашем здоровье, со словами «ещё обожрётесь» – он самым наглым образом, с его слов, «для нужд мировой пролетарской революции» конфисковал две самые крупные селёдки. Натуральный беспредел.
Только зря он так плохо о нас думал. Лёха никогда не был жадным, поэтому вечером мы, прихватив хлеба и своих таких же, как мы четверых «карасей» из нашего дивизиона, устроили настоящее пиршество. Селедка оказалось, что надо. Настоящая североатлантическая. Я ел вместе со всеми эту лоснящуюся рыбным жиром селедку, и, как не странно, меня нисколько не терзали муки совести. Только где-то там, далеко, под коркой головного мозга возникла мысль, что, если бы Максим Борисович узнал, чем закончился его психологический эксперимент – он точно поубивал бы нас.
Забегая вперед, скажу, что мои страхи были напрасны. Никогда Максим Борисович не поднял руку на молодого моряка. Никогда Максим Борисович не наказывал виновного, не взвесив, как говорят юристы, отягчающие и смягчающие обстоятельства, особенного, когда проступок совершал молодой моряк. Он был мудрым и справедливым командиром. За это мы его уважали, а вот представители «годковщины» за глаза прозывали «Бык». Если в кубрике раздавалось: «Бык идет» – самые отмороженные «годки», как крысы разбегались по норам или становились образцово дисциплинированными моряками Военно-морского Флота. Ибо калённым железом выжигал Максим Борисович малейшее проявление «годковщины». На боевой службе как в Средиземке так и в Африке он, если был не на вахте, лично приходил по подъему и контролировал его проведение. Кроме того, он требовал, чтобы на всех мероприятиях присутствовали мичмана БЧ, старшины команд. Лично подрубал шконку или будил «годка» ударом ноги под зад, если последний считал, что по сроку службы может плевать с большой колокольни на корабельный распорядок. На самые грязные работы, типа чистка цистерн, капитан третьего ранга Пикалов М.Б. отправлял только старослужащих моряков.
Были наглецы, которые пытались возразить, что по сроку службы не положено, но после посещения каюты командира БЧ, возвращались шёлковыми. Никто, из визитеров каюту командира БЧ, никогда не обмолвился, как проходило перевоспитание нарушителя воинской дисциплины, но результат был на лицо.
Кто-то из внимательных читателей скажет, позвольте, а как понимать главу «Годковщина»? Повторюсь, на боевой службе и выходах в море «годковщина» притихала, а по возвращению в базу возрождалась во всей своей античеловеческой красе. По одной лишь причине: по окончанию рабочего дня командир нашей боевой части капитан третьего ранга Пикалов М.Б. точно так же, как и другие офицеры и мичмана корабля, спешил на берег к семье.
Максим Борисович не только кнутом держал в повиновении вверенное ему подразделение, не забывал он и про пряник. Кто дружил с головой и корабельным уставом, тянул службу, как положено – имел возможность воспользоваться всем разнообразным спектром поощрений. Нужно в увольнение – нет проблем, а также ряд других, мелких, но приятных поощрений: благодарственное письмо родителям, фото у развёрнутого флага корабля. Естественно, отпуск. Например, автор за 2,5 года службы на корабле дважды был в отпуске, а мой товарищ Лёха Турсин – ни разу. В чём он сам был виноват. При минимальном моём участии.
II
Через два месяца на корабль вернулся Лёха. На его погонах красовались по две узкие ленточки желтого цвета. Смотрите! Завидуйте! Настоящий старшина 2-ой статьи Турсин Лёха. И естественно, как всякий порядочный мужчина Лёха предложил мне обмыть его «лычки» на погонах. Несмотря на кличку «алкаш» я категорически отказался, но это его не остановило. Кто же знал, что мочить он их будет специфически, в одиночку, а я нашел ответ на вопрос: «Куда деется мой одеколон?»
Как-то после Лёхиного возвращения после ужина я спустился в пост. Едва я открыл броняшку, как мои органы осязания уловили устойчивый запах одеколона. За рабочим столом восседал мой боевой товарищ Лёха и с нескрываемым удовольствием трескал батон. Перед ним на столе стояла одна пустая и вторая на половину пустая бутылочка из-под одеколона.
– Ах, вот куда всё время пропадал мой одеколон», – озарило меня.
– Толян! Будешь? – дружески предложил мой боевой товарищ.
И пока мой мозг переваривал увиденное, Лёха вылил оставшийся одеколон в кружку, одним махом отправил эту смертоносную жидкость себе в бездонную утробу и продолжил поглощать батон. Только батон это был не обычный, а «Мурманский».
Общеизвестно, что обычный белый батон долго не сохраняет свою свежеть, но в советское время на мурманском хлебозаводе нашли способ как на длительное время сохранить его вкусовые качества. Батон после выпечки стали пропитывать спиртом и упаковывать в целлофан. Перед употреблением необходимо было такой батон поместить в электропечь на 10-15 минут – и румяный, только что с печи батон к вашим услугам. Без помещения такого батона в электропечь есть его было невозможно. На вкус он был горьким и противным. Наш корабельный медик говорил, что мурманские батоны пропитывались не обычным этиловым спиртом, а добавляли какую-то химическую гадость, чтобы поклонники Бахуса не поели их сырыми.
И вот, на моих глазах мой боевой товарищ ЛёхаТурсин закончил второй батон и взялся за третий. Я только успел произнести: «Лёха! Что ты творишь?» Накаркал, блин!
Организм Лёхи хоть и был богатырский, но и он не смог безболезненного переварить славную продукцию химической и пищевой промышленности Советского Союза. Лёху сначала вырвало, и тут же его мощное тело съехало с кресла на палубу. Лицо моего бедного товарища стало покрываться какими-то нездоровыми белыми пятнами, и он из последних сил прохрипел: «Пашко, помоги!».
С криком «Турсин помирает! Скорей, помогите!» – я влетел в корабельное помещение лазарета. К счастью, дежурил сам начмед, капитан медицинской службы. Схватив медицинскую сумку, он бегом последовал за мной в пост. Во время бешенной скачки по кораблю я попался на глаза дежурному по кораблю. Дежурным был мой командир БЧ – капитан третьего ранга Пикалов М.Б. Так что в пост мы спускались уже втроем.
Лёха, скрутившись, лежал на палубе и жалобно скулил: «Помираю, помогите!».
– Что с тобой? – склонившись над Лёхой спросил начмед.
– Живот, – только и пролепетал в ответ Лёха, и дальше, как заезженная заклинившая пластинка стал жалобно причитать: – Помираю, помогите!
– Пашко! А ну ка, дыхните! – прогремел капитан третьего ранга. Максим Борисович если приступал к разбору – то всегда переходил на уставное «Вы», что было предвестником больших проблем для кое-кого.
Я дыхнул сначала на командира БЧ, и для надежности, повторно, на начмеда.
– Доложите, что случилось с Турсиным, – продолжил гневно капитан третьего ранга.
Сначала ложное чувство товарищества не давало мне возможности открыть рот, но после командирского наезда:
– Вы, что язык проглотили? Или уши заложило?
А тут ещё начмед взялся за меня:
– Пашко, я должен знать, чем Турсин отравился. Дорога каждая минута.
Я вынужден был заговорить тем более, что обстановка, а точнее бардак, наведенный Лёхой в посту, красноречиво говорил, что произошло.
– Матрос Турсин выпил две бутылки одеколона и сожрал (язык не повернулся сказать «съел») два с половиной проспиртованных батона, – единственное, о чём я дипломатично не обмолвился, так по какому поводу Лёха устроил гулянку.
– Сколько? – переспросил начмед.
Повторять мне не пришлось. Две пустые бутылки из-под одеколона сиротливо стоящие на рабочем столе и на половину съеденный батон, а также три целлофановые упаковки были наглядным подтверждением моих слов.
– Пашко! Почему Вы допустили, что матрос Турсин отравился? – продолжил воспитательную беседу со мной командир БЧ, когда Лёху на носилках унесли в лазарет.
– Я что, ему в кружку свой одеколон наливал или проспиртованный батон насильно в рот пихал? – хотелось мне бросить в глаза капитану третьего ранга. – Это всё авторская идея и практическая реализации матроса Турсина, – но я промолчал.
– По вашей вине матрос Турсин совершил это вопиющее нарушение воинской дисциплины.
– Ни фига себе! Я ещё и виноват, что этот добрый молодец нажрался одеколона. Возможно, мне стоило сбегать на берег для него за водочкой? – так и хотелось мне бросить в лицо командиру.
– Это из-за вашего молчаливого попустительства и беспринципности как командира отделения произошло моральное падение вашего подчиненного, – продолжал бубнить командир.
Я тогда ещё не знал, что это высший пилотаж, перевернуть всё с ног на голову, и заставить тебя в это поверить, что так и должно быть. Пикалов Максим Борисович не знал, что я крепко запомню его слова о роли и месте командира отделения по поддержанию воинской дисциплины и отвечу ему его словами на наш очередной залёт. Правда, это будет перед самым дембелем, а пока решил немного отмазаться в глазах грозного командира.
– Я это не мог осуществить чисто физически, так как на моих глазах разыгрывалась только финальная стадия морального падения Турсина, когда он приступил к метанию «фарша» и свалился на палубу.
– Почему не доложили, что Турсин склонен к распитию спиртных напитков? – гнул свою линию капитан третьего ранга.
– Почему? Почему? Да по кочану, – как и хотелось бросить в лицо командиру, но я молчал.
– Допустите ещё что-нибудь подобное, – и капитан третьего ранга так и не закончил, что нас ждёт, но напоследок погрозил пальцем перед моим носом.
Уточняющих вопросов я не стал задавать, так как даже мой всё знающий Мозг молчал, ибо он то же не знал, что в будущем выкинет Лёха, и как на это буду реагировать я.
А с Лёхой ничего не случилось. В него только залили около ведра жидкости в качестве промывочного средства желудка и для надежности дважды поставили клизму. После чего он блаженно заснул, а утром следующего дня Турсин с позором был выгнан с лазарета. Ибо, проснувшись после этого промывания желудка, Лёха почувствовал дикий голод и одним махом съел завтрак, предназначенный ещё для троих больных, к несчастью для последних, находящихся вместе с Турсиным в лазарете. Когда об этом узнал начмед, он со словами «иди матросик с Богом, служи!» выставил Лёху за комингс (порог). Начмед ещё не знал, но что-то ему подсказывало, что это не последний визит лазарета Лёхой.
Визита к начальнику БЧ Турсину избежать не удалось. Какую кодировку или установку произвёл Максим Борисович Турсину, – я не знаю, но результат был на лицо: Лёха перестал есть натощак фирменные проспиртованные батоны мурманского хлебозавода, и одеколон перестал таинственным образом пропадать из матросских рундуков. Умел Максим Борисович подобрать ключик к каждому матросу.
Наша служба своим чередом до очередного залета. А он себя не заставил ждать. Это был чисто мой залёт, но пострадал Лёха, и по моей вине. Каюсь. Грешен.


