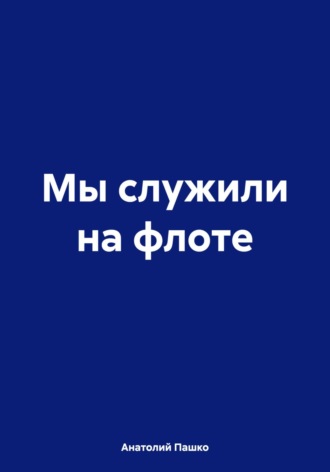
Анатолий Николаевич Пашко
Мы служили на флоте
– Сто пудов, – безапелляционно продолжил мозг, – или ты сбил самолет или отправил на дно невинный мирный буксир из группы обеспечения стрельб.
– Не каркай! – огрызнулся я, хотя недоброе предчувствие черной кошкой стало подкрадываться к самому сердцу.
– «Вымпел», командиру! – разорвало эфир.
– «Вымпел» на связи, – не теряя надежды на лучшее, и пока ещё уверенно ответил я, а проклятый Мозг решил меня добить окончательно.
– Сейчас, ты услышишь что-то интересное… Однозначно, если не посадят – то до самой пенсии будешь платить за буксир, который по твоей вине уже минут как пять лежит на дне.
– Ты когда-нибудь заткнешься? – злобно наехал я на Мозг и покорный судьбе стал ожидать вердикт командира.
– «Вымпел!», объявляю благодарность! – произнес по связи командир.
– А ни фига себе! Он только что кого-то угрохал, а ему благодарность. Смотри, чтоб под эту благодарность ты лет на 10-15 в лесоруба где-нибудь на Калыме не переквалифицировался. Ты где предпочитаешь лес валить в районе Воркуты или Калымы? – продолжал нудной бабой гундосить Мозг.
– Чтоб тебя заклинило! – взорвался я, сгорая от нетерпения узнать, что же я натворил. Наконец, до него дошло, что он не прав, и обиженный Мозг на этот раз заткнулся надолго.
– Пашко! – по фамилии вышел на связь командир. – Только что с эскадренного корабля, контролирующего стрельбы доложили, что Вы над самой водой в щепки разнес падающий ящик, в который был уложен парашют. Молодец! Это мастерство высшего класса: попасть в небольшой ящик из-под снарядов.
Ах, вот, где собака зарыта. Оказывается, с самолета сбросили ящик, в который заранее был уложен парашют. На высоте ящик раскрылся, и парашют повис в воздухе, а ящик, согласно закону притяжения, устремился вниз, только не к земле, а к воде. Я же умудрился рассмотреть на экране рада этот едва видимый для РЛС падающий ящик, взять его на сопровождение и в последнюю минуту поразить. Командир БЧ-7 ящик не видел, так как ни одна РЛС его не видела, а он видел только, что я стреляю почти по самой воде в молоко и отсюда его эмоциональная реплика.
Не скрою, мне было приятно слышать лестный отзыв командира о моих успехах, как оператора-радиометриста, но стрельбы на этом не закончились и в эфире опять пронеслось: «Кто наблюдает парашют?»
В ответ тишина. Ни носовая, ни кормовая «Турель» категорически не хотели общаться с БИП по вышеуказанной причине. Комендоры, находящиеся в артиллерийских башнях, также молчали. Им простительно. За бортом была темень. Они реально через свои призменные прицелы ничего не видели, да, как и оказалось, парашют висел на значительном расстоянии от корабля.
Я прильнул к экрану радара и без особого труда нашёл парашют и взял его на сопровождение. Это было сделать не трудно. Парашют находился в том же секторе, только приборы показывали, что его равномерно сносит в сторону противоположную от корабля. Видно попал в воздушный поток.
– БИП, «Вымпелу», – стал я вызывать боевой-информационный пост.
– БИП на связи.
– Цель вижу и сопровождаю, но она вне зоны поражения.
Я должен немного пояснить, всё знающий «Google» по поводу тактико-технических характеристик АК (артиллерийский комплекс) 630 «Вымпел» сообщает, так же на сайте завода изготовителя можете почерпать сведения, что дальность обнаружения воздушной цели РЛС комплекса до 45 км. После обнаружения цели оператор накидывает на неё невидимые «захваты», и умная станция начинает вырабатывать данные для стрельбы и сопровождает её до зоны поражения. Оператору остается только дождаться, когда цель будет в зоне поражения и нажать гашетку «Огонь». Дальность поражения воздушной цели до 4000 метров, надводной – до 5000 метров. В моем случае парашют находился на расстоянии в 4500 метров. Можно конечно открыть огонь раньше, но снаряды просто не долетят до цели.
– «Вымпел»! Огонь! – после минутного молчания последовала команда.
Так как я молчал и намеривался повторно сообщить, что цель вне досягаемости, по связи прошла повторно.
– «Вымпел»! Повторяю, Огонь! Доложить, как понял!
– БИП, «Вымпел». Команду понял. Открываю огонь, – после чего я дважды нажал на гашетку «Огонь».
Две короткие очереди, по сорок 30-мм снарядов каждые, одна за другой устремились навстречу парашюту. Снаряды до парашюта не долетели Разрывы снарядов «Вымпел» наконец-то высветили в темном небе парашют. Его заметили комендоры «Вымпела». Он по-прежнему висел в небе.
В эфире тишина. Докладывать, что цель поражена – не имело смысла. Команда прекратить стрельбу не поступала. И в этот момент, когда я раздумывал, что делать, меня по второй линии стал вызывать один из комендоров «Вымпела»:
– «Вымпел», «Колонке»! Пашко, Толян, будь человеком! Дай стрельнуть. Переключи управление огнём на ручное управление.
Артиллерийский комплекс АК 630 «Вымпел» состоял из РЛС обнаружения и сопровождении, телевизора и приборов управления огнём четырёх 30-мм шестиствольных автоматических установок, которые по две были установлены на каждом борту. Конструктором было предусмотрено также резервное, ручное управление огнем. Возле барбетов орудий были установлены две визирные колонки. Визирные колонки вращались в круговую, имели две ручки, прицел для стрельбы и приспособление для открытия огня. Если радиометристы обслуживали РЛС и приборы управления и относились к корабельной интеллигенции, БЧ-7, то комендоры обслуживали артиллерийские установки и относились к БЧ-2. Всех моряков комендоров БЧ-2 за специфический шеврон на парадной форме голландки прозывали «Рогатыми». Комендоры «Вымпела» считали себя обиженными. Они всю свою службу чистили стволы, смазывали и следили за работой механизмов, снаряжали ленты подачи снарядов в установку, а стрелять им позволяли с визирных колонок крайне редко, практически никогда. Дело в том, что при осуществлении стрельб всё цели, будь то низколетящие воздушные цели, или сваренные пустые бочки, изображающие плавающие мины, или плавательные средства, являющиеся мишенями, поражались радиометристами «Вымпела», управляющими комплексом из поста. Комендорам просто не оставалось по чём стрелять. У них руки чесались, так хотелось пострелять, а тут прямо случай подвернулся.
В эфире тишина. Командир отделения комендоров слезно смотрит на меня, как ребенок готовый расплакаться, из-за того, что ему не дали любимую игрушку. Ах, была не была! Без команды я переключаю управление огнём на визирную колонку правого борта. Радостно возбужденный командир отделения комендоров птицей улетает в барбеты. Почти одновременно открывают огонь две спаренные установки. Грохот орудий долетает в пост.
Привлеченный грохотом орудий в посту появляется мой подчиненный Леха Турсин. Я сажу его за экран радара и устремляюсь в барбеты. Хочется посмотреть на стрельбу. А посмотреть есть на что.
За визирной колонкой в танкистском шлеме стоит один комендоров, крепко сжав ручки наведения прицела. Одна за другой, разрывая темноту, красными вспышками уходят короткие очереди снарядов из шестиствольных установок, сливаясь в одну красную линию. Каждый десятый снаряд трассирующий. Сначала снаряды разрываются яркими вспышками, недолетая до парашюта. Во всполохе вспышек на черном небе ярко прорисовывается парашют. Но вот корабль, управляемый твердой рукой, дал ход и устремился навстречу парашюту, сокращая расстояния, и красные нити тянутся всё ближе и ближе к парашюту. И вот этот миг настал. Снаряды стали разрываться в центре парашюта. Пару секунд – парашюта нет. Разорван взрывной силой снарядов в клочья.
Комендоры оторвались по полной. В пылу азарта расстреляли основную и запасную ленту боепитания, а это 3 000 снарядов. Артиллерийская вечеринка удалась. Всё барбеты правого борта завалены гильзами от снарядов.
По результатам стрельб комендоры получили оценку «Отлично», а я подтвердил завоеванное до меня звание «Лучшего поста «Вымпел»» на эскадре. Всё-таки правы были древние обеленные сединой греческие старцы, утверждая, что количество переходил когда-то в качество. Мои каждодневные многочасовые тренировки в Средиземном море при осуществлении слежения за авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» тому подтверждение. Но вернемся обратно в Средиземное море.
VI
Февраль 1985 года. Средиземное море. БПК «Стройный» всего лишь в пару кабельтовых от левого борта авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» тенью следует за ним, не увеличивая и не сокращая расстояние. Командир авианосца, выжимая максимальное количество узлов из ядерных реакторов, сначала пытался на максимальной скорости оторваться от назойливого соседа, но не тут-то было. Хотя внутри нашего «Стройного» стояли газотурбинные установки, наш командир гончей борзой уцепился за дичь и свободно, без нашего присмотра, прогуливаться по Средиземному морю авианосцу не позволил. Тогда командир авианосца решил продемонстрировать силу.
Был обеденный перерыв, плавно переходящий в адмиральский час, когда большинство моряков, плотно пообедав, отправлялось бай-бай в любимую шконку (кровать). Обед на ходах не в 13.00, а 12.00. До построения в 15.00 – два с лишним часа. Спи матрос. Служба всё равно идет, приближая с каждым днём всё ближе дембель.
Я молодой моряк, а говоря попросту «карась». Моя очередь быть бочковым. Бочковой получает на камбузе пищу на одну или две команды и раскладывает или наливает по тарелкам. Сначала в первую очередь обедают «годки», «подгодки» и «полторашники». После них едят «караси». «Годковщину» ещё никто не отменял. В конце бочковой должен помыть всю посуду.
Обед прошёл без эксцессов. Посуда помыта. Осталось только сходить на корму и покормить рыбок. Несмотря на то, что никто из моряков отсутствием аппетита не страдает, всегда остаются остатки супа, каши и хлеба. Всё это сливается в бочок и идет за борт. За борт можно выливать только с кормы.
Уважаемые «гринписовцы» и другие защитники природы заранее категорически заявляю, советский моряк никогда окружающую акваторию не засорял, он только подкармливал бедных рыбок. Вы знаете, отчего тунец и сардины такие жирные? Они откормлены на макаронах по-флотски и матросских кашах. Если питались бы одним планктоном – не больше балтийской кильки были бы. Средиземноморские рыбки не хуже американцев выучили наш распорядок и с нетерпением ждали, когда им перепадет с матросского стола, постоянно крутясь стайками в корме «Стройного».
Я с кормы правого шкафута покормил рыбок и заметил, как с авианосца взлетел одиночный истребитель-бомбардировщик. Это было необычно. Они тоже не дураки были поспать в адмиральский час. В адмиральский час у них так же всё затихало. Самолет взлетел, развернулся и на малой высоте зашёл в корму авианосца. Первой мыслью было, что летчик двоечник и не умеет садиться с первого раза – вот неуча в обеденный перерыв и заставляют отрабатывать посадку на палубу. Как я ошибался.
Американский истребитель-бомбардировщик не собирался садиться. На малой высоте он пролетел между авианосцем и «Стройным». Расстояние между кораблями было всего пару кабельтовых, то есть не больше 100 метров. Я стоял на корме под вертолётной площадкой и, раскрыв рот от удивления, рассматривал самолет. Уж больно изящен и красив он был. Казалось, ястреб-стервятник, сохранив формы и очертания, перевоплотился в металл и прилетел с американского континента. Этот самолет одновременно притягивал к себе внимание плавностью и изяществом формы, которыми нельзя было не восхищаться, и парализовал сознание исходящей от него хищнической звериной угрозой.
Когда самолёт поравнялся с нашим кораблем, мне показалось, что американский летчик помахал мне рукой. Но это было не дружеское приветствие, а циничный привет от убийцы, так как в это же время из бомболюка посыпались бомбы. Теперь я знаю, что такое «ковровое бомбометание». Я стоял словно кролик, парализованный взглядом удава убийцы. Мозг кричал мне:
– Полундра! Сейчас накроет.
Дальше… взрыва не было слышно. Сначала мощнейший жесткий удар по корпусу корабля ниже ватерлинии потряс корабль, и стена воды одним махом накрыла корабль. Хорошо, что на правом шкафуте в корме был пост дежурного по кораблю, и хорошо, что хорошо всё кончается.
С той минуты наш командир не стал искушать судьбу и стал держаться от авианосца на значительном расстоянии, и рассмотреть авианосец в деталях можно было только с помощью мощной оптики.
Ещё целый месяц мы были тенью авианосца, пока командование не отправило с дружеским визитом «Стройный» в югославский город-порт Сплит.
Сплит
I
После месяца непрерывного слежения за авианосцем всему экипажу «Стройного» командование преподнесло подарок в виде дружеского захода в югославский город Сплит. Это сейчас Сплит город-порт независимого государства Хорватия. В далеком 1985 году Хорватия входила в состав социалистической республики Югославия, которая только в 1991-1992 году начнет потихонечку распадаться на шесть независимых и одно частично признанное государство, а к 2006 году полностью исчезнет с политической карты мира. Это будет всё в будущем, а пока нас ждал отдых в дружеском порту.
На подходе к порту нас встречал катер с югославским лоцманом. Одетый во всё белое лоцман поднялся на борт «Стройного». Под его чётким присмотром мы лихо пришвартовались левым бортом к причалу.
Я, как большинство моряков, часами стоял на вертолетной площадке и рассматривал необыкновенный чудо-город Сплит.
По живописной набережной под развесисто-лопушистыми пальмами днем и вечером безмятежно прогуливались, и наблюдали за сказочным закатом местные жители. Они словно жили в каком-то другом измерении, непонятном нам, советским людям, где нет повседневной толкотни и бессмысленной в большинстве случаев ненужной беготни. Они жили и наслаждались каждой минутой своей жизни.
Утром так же не спеша и деловито на небольших рыбацких катерах уходили в море немногочисленные местные моряки, а вечером всё те же рыбаки, соблюдая достоинство, и гордые от своей значимости в этой жизни, также не спеша и деловито выгружали улов, поджидающим их скупщикам рыбы.
Поражала взгляд архитектура города. Дома невысокие, всего 2-4 этажа, но все, даже самые захудалые и невзрачные дома (как оказалось самые древние) и даже дома на самой окраине города, где по логике должны были жить не самая зажиточная часть населения, были покрыты оранжево-красной черепицей. Однако красный цвет не был цветом крови, а имел совсем другой, жизнеутверждающий оттенок. И этот радующий глаза цвет разливался по крышам зданий до самых гор, подступающим к северной окраине города. Нависая над городом, горы величественно отражались в спокойных водах залива, охраняя тихий курортный город от жизненных напастей и буйных ветров человеческой истории.
В голове всплывали знания, полученные на уроках истории и почерпанные из книг. Сплит – это же город, находящийся на древней земле известной под названием Далмация, а Далмация – это страна иллирийцев, древнего, самого первого известного исторического народа Балканского полуострова. Ещё в V до н.э. древнегреческий историк Геродод упоминал этот древний народ. С ними воевали древние греки, и когда-то очень давно, еще до Рождества Христова, жадные до чужих территорий римляне положили глаз на этот, благодатный к людям край, и включили его в состав своей империи. Естественно, как вся история Рима, включение в состав империи не было мирным, и несогласным местным жителям пришлось познакомиться с римским мечом в ходе, так называемых, Иллирийских войн. Правда, это было так давно, что римляне стали считать Далмацию не провинцией, а исконно римской территорией.
Кроме того, Сплит – это же Родина одного из римских императоров по имени Диоклетин. Диоклетин вошёл в историю не только как реформатор римского государства, но он прославился тем, что, находясь в здравом уме, со словами «…а пропади оно всё пропадом» добровольно отрекся от абсолютной, никем и ничем неограниченной власти, и «ушёл выращивать капусту». После отречения от власти императорский пенсионер вернулся в Сплит, где ранее построил дворец, типа фазенду для летнего отдыха, и занялся сельским хозяйством, в чём очень преуспел. Когда римские сенаторы пришли просить Диоклетина вернуться к исполнению обязанностей императора, он отказался, аргументируя свой отказ тем, что если бы они видели, какую замечательную капусту он выращивает – то больше не стали бы к нему приставать. По одной из исторических версий, римские сенаторы шибко обиделись и затаили обиду на первого известного римского предшественника Мичурина. Восемь лет ещё они позволили самовольно ушедшему на пенсию императору наслаждаться жизнью и заниматься селекцией капусты, и, в конце концов – его отравили. Не императорское дело капусту выращивать!
Стоя на вертолетной площадке и наблюдая за городом, я был благодарен судьбе, что нахожусь на земле исторической Далмации, но хотелось большего: побродить по его узким и тихим улочкам, прикоснуться кончиками пальцев к застывшей в камне истории.
И случилось чудо. Командование флота сделало нам второй, истинно царский подарок: всем морякам выдали югославские лиры и стали спускать на экскурсию в город.
II
В советское время военных моряков за границей спускали с кораблей на берег пятерками: офицер, мичман и трое моряков срочной службы. Только одна беда: на всё про всё – 4 часа. Естественно, на берегу моряки спешили зафиксировать на фото свою физиономию на фоне местной достопримечательности, чтоб было чем на гражданке похвастаться, и, если выдавали денежки – немного приборахлиться. Рожденным, после ухода с исторической арены Советского Союза тяжело понять, что промышленность первого государства рабочих и крестьян довольно успешно штамповала ракеты и танки, а ежедневными бытовыми потребностями рядовых граждан не грузилась, и не жаловала своих граждан изобилием ширпотреба. Советские граждане были жадны к обычным для западного обывателя необходимым и доступным в повседневной жизни вещам, и, находясь за границей, пытались компенсировать хотя бы для себя эту нехватку ширпотреба.
Лично я приобрёл полиэтиленовый чудо-пакет, жевательную резинку, набор фломастеров и открытку с видом на набережную Сплита. На Родине у нас этого в магазине было не купить. Это сейчас никого не удивишь красочными полиэтиленовыми пакетами, бичом мировой экологии, грозящим погубить само человечество. Во времена брежневского застоя отечественная промышленность предлагала для похода в магазин только плетёную авоську, что-то наподобие куска рыбацкой сети с ручками, увековеченную Юрием Никулиным в фильме «Бриллиантовая рука», с которой он на такси ездил в булочную, а затем в которую пытался положить пистолет.
А это был цветной, ляписный, со спортивными западными машинами и полуобнаженными, в пределах допустимости советской морали, заманчиво улыбающимися девицами пакет. Втюхивавшее мне данный пакет местное лицо, больше похожее на лицо цыганской национальности, на ломанном английском языке утверждало, что чудо-пакет выдерживает до 20 кг нагрузки.
Вообще, общение с местным населением было проблематично. Хотя те же самые ученые утверждают, что хорватский язык относится к славянским языкам индоевропейской группы, хорваты категорически отказывались понимать русский язык. Делали отрешенный вид типа «…моя твоя не понимать», а вот заломить цену на базаре и поторговаться – это, пожалуйста.
Судьба ко мне иногда бывает благосклонна. Я попал в группу, где старшим был, хорошо меня знающий (об обстоятельствах знакомства следующей главе) корабельный медик. Капитан медицинской службы, он же начмед корабля, довольно сносно говорил на английском и интересовался историей. Когда я вспомнил про «капусту Диоклетина» – мы тут же нашли общий язык, и прогулка по городу была направлена на поиски развалин «фазенды» Диоклетина.
Еще ранее, рассматривая город с вертолетной площадки, я обратил внимание, что в восточной стороне города к самой воде подступает крепостная стена и видна пятиярусная колокольня, а рядом с ней какое-то здание специфической кубической формы, очень похожее на первые дохристианские мавзолеи. История была и есть – мое хобби на всю жизнь. О своих наблюдениях я поделился с начмедом, как только мы спустились по трапу на причал. Подавив недовольство мичмана и двух других матросов, рвущихся в центр города, попить пивка и поглазеть на местных женщин, так на всё остальное денег не хватило бы, капитан медицинской службы повёл группу к манящей к себе стене.
Немного поплутав по городу, пройдя по узенькой мощёной камнем улочке под мощной и высокой крепостной стеной, мы довольно быстро оказались в центре мощёной небольшими прямоугольными каменными плитами внутренней площади. Площадь имела правильную форму и была окружена с трёх сторон колоннадой со столбами из красного гранита и мрамора. Примыкающие здания были построены из светло-белого камня, который так и светился под лучами весеннего теплого солнца. Меня не покидало ощущение, что это внутренний дворик какого-то дворца. Мы замерли от увиденной величественной красоты и монументальности. Неужели, это дворец Диоклетина? Или это восстановленный в наше время для привлечения туристов муляж?
Табличка на английском языке, установленная на площади, свидетельствовала, что мы находимся на центральной площади дворца Диоклетина. Увидев наши с медиком восторженные глаза, к нам подошла, скучающая от отсутствия туристов, с большими добрыми глазами пожилая женщина – местный гид. Она довольно бегло говорила на английском языке и согласилась ответить на наши вопросы и сделать бесплатно небольшую экскурсию. Переводчиком выступал наш капитан.
От неё я узнал, что дворец Диоклетина, больше похожий на цитадель, неплохо сохранился до наших дней, что здесь всё подлинное, что кубическое здание, которое я видел с корабля, – католический храм, но католическим храмом он был не всегда. Гид поведала, что Диоклетин был не только здравомыслящим и прогрессивным правителем, но и ярым гонителем христиан. Католический храм на самом деле являлся усыпальницей Диоклетина. В конце жизненного пути в нём похоронили великого римского пенсионера-императора. Однако, когда христианская религия стала в Риме государственной религией, христианское население Сплита в наказание за гонения христиан – выкинуло прах императора на обочину истории, а его мавзолей превратили в католический храм и построили рядом колокольню; и отныне – никто не знает, где могила Диоклетина. Влюбленная в свой город, с большим воодушевлением гид рассказывала и водила нас по католическому храму и храму Юпитера, дошедшим до наших дней. Жаль не удалось попасть на колокольню, находящуюся рядом с католическим храмом и с высоты птичьего полета полюбоваться местными пейзажами. В подвалы дворца, к моему сожалению, мы также не попали. Они были закрыты.
После познавательной небольшой экскурсии, пока мои корабельные товарищи бродили среди лотков многочисленных продавцов сувениров, я не спеша ходил среди мраморных колон и стен величественных древних зданий, нетронутых временем и рукой человека. Бережно и трепетно прикасался к ним руками, пытался услышать биоритм и почувствовать дыхание древней цивилизации. Сознание переносило меня в то далекое время, когда на этой площади со ступенек колоннады, облаченный в праздничную тогу, выступал перед жителями сам Диоклетин. Подумать только, этому творению рук человеческих рук, памятнику истории, почти 1700 лет! Моему восхищению не было границ. Я восхищался не только древностью, красотой и изяществом монументального исторического комплекса строений, а также был в восторге от самого момента моей жизни. Я говорил судьбе: «Спасибо, что дала возможность это увидеть и прикоснуться, пусть не на немного, руками к истории, и при чём, за казенный счёт».
Даже мой постоянно скептически настроенный мозг не выдержал и в конце экскурса в историю восторженно изрек: «Ни фига себе, «фазендочку» Диоклетин построил!» Я с ним первый раз не спорил и не пререкался. Это было класс!!!


