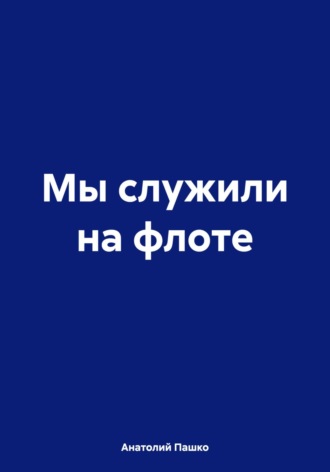
Анатолий Николаевич Пашко
Мы служили на флоте
– Всё, – сказал мне мозг, – молдавану хана. Сто пудов, душа отлетела на небеса беседовать к праотцам.
Ваня тихонечко лежал на палубе и признаков жизни не подавал. Его короткие волосы на голове стояли дыбом. Но больше меня поразили его усы. Перед заступлением в наряд Ваня тщательно расчёсывал их расческой, трепетно и нежно укладывал один волос к другому и с гордостью рассматривал их в зеркале со всех сторон. Они представляли ужасную картину. Наверное, тайга после падения Тунгуского метеорита выглядела лучше. Всё волосы усов стояли хаотично дыбом, только под им известными углами. Этакий маленький ёжик в круговой обороне.
– Володя, что это было? – это первое, что Ваня произнёс, после полведра, вылитой на него воды, и трёх смачных оплеух по физиономии, которые понадобились, чтобы привести его в сознание. Ваня у нас богатырь, и меры применялись богатырские.
– Это электричество, Ваня, – по-философски ответил ему Володя, с трудом сдерживая себя, чтобы не рассмеяться.
До самого вечера Ваня в ступоре сидел на рундуках, бормоча что-то на молдавском, типа «Хара-Кришна. Хара…», тряся периодически головой. На все вопросы:«Что с ним?» – согласно легенды утвержденной Володей Матушинцем , я отвечал, что Ваня медитирует и просил не мешать.
– Смотри, как его торкнуло, – не унимался мой мозг, – а мозга у него всё-таки есть, – продолжало ехидно моё неугомонное серое вещество. – Только их у него мало. От удара электрического тока раскидало их по всей его богатырской голове. Вот сидит и трясет ей. Собирает мозга обратно в кучу.
Так вот, за Матущинцем стоял всё тот же Ваня, покоритель корабельного электричества, и как боевой конь рвался в бой с беспределом. Володя умел настраивать его на определенную волну. Ничего хорошего это не предвещало. Только не мне, а «полторашникам».
– Ты, – Володя ткнул в меня пальцем, – в кубрик!
Ага. Как бы не так. Я вышел только из БИП и тут же прижался к переборке. Ох, как сладка месть. Есть всё-таки немного справедливости на этом свете. А на БИПе шло разъяснение неписаных правил «годковщины». Речь Володи была коротка, так как через короткое время по характерным ударам тел по переборке, я понял, что Ваня перешёл к практической части. Полным ходом шла проверка на крепость грудных клеток, а затем «полторашники» приступили к «Ловле крабов на палубе».
В скором времени Лабуса перевели на другой корабль, а «полторашники» из дивизиона связи больше меня не трогали. Я и сам старался глаза им не мозолить.
IV
«Годковщина». Многие, с кем я общался по этому вопросу, к ней относятся положительно. Мотивируя тем, что благодаря ей они из маменькиных сынков превращались в настоящих мужчин. Никогда не разделял их точку зрения. Для меня «годковщина» – это была прежде всего постоянная борьба за право остаться человеком, потому что если опуститься, как потом смотреть будешь, прежде всего, себе в глаза. Сколько раз во время службы мне хотелось бросить в глаза некоторым ублюдкам: «Я человек, а не раб или слуга».
Трудно, прежде всего, было морально. Мозг отказывался воспринимать реальность. Первые полгода на корабле было очень сильное разочарование: как в самой службе, так и в людях.
В «годковщине» было что-то общее с религией. Религия гласит: «Потерпи немного – и на том свете будешь вознагражден за труды свои праведные». В «годковщине» подчиняться и терпеть унижение – нужно было только один год, плюс полгода в учебке, а дальше – «малина». Твой час. Полтора года «караси» в твоём распоряжении. Дуркуй, заставляй их делать за себя всё что хочешь и многое другое. Никто тебя не остановит и не осудит.
Но проблема была в том, что я не собирался следовать принципам «годковщины» ни будучи «карасём», ни тогда, когда вышел из этого состояния. Я повторяюсь, но я не был железным дровосеком. Кое-где я подстраивался под «годковщину», но в основных вопросах, касающихся моего человеческого достоинства – я был несгибаемым. За время службы я никогда никому не стирал форму, ни разу не подшивал воротничок, и никогда не застилал за кого-нибудь шконку. За что был бит неоднократно и нещадно. По крайней мере, первые полгода.
Даже на боевой службе в Средиземном море, каждую субботу после помывки в кубрике было построение «карасей», и «торжественная» передача годками последним формы одежды и постельного белья для стирки. Я, как всегда, за отказ от стирки самый первый получал несколько раз в грудную клетку и шёл в пост зализывать раны. Буквально месяца через два годки поняли, что в этом вопросе подвижек с моей стороны не будет – и меня оставили в покое, то есть, всё меньше и меньше находилось желающих, которые стремились меня заставить стирать. Эту фишку просёк Леха Турсин и сделал мне предложение – от которого я отказаться не смог.
На боевой службе в Средиземном море, а это начало 1985 года, каждую субботу после большой приборки, по инициативе Лехи, я приносил свои простыни в пост и отдавал Лехе. Леха таскал необходимое количество воды. После чего я закрывал его в посту на замок и шёл в кубрик в очередной раз проверять грудную клетку на прочность. А мой напарник Леха стирал свои и мои простыни. Кто-то скажет, что я поступал со своим сослуживцем не порядочно. Да, согласен, но только частично. Нельзя быть немножко беременным, но я никогда не говорил, что я кристально чистый. За некоторые свои поступки мне стыдно даже сейчас. С другой стороны, это была его инициатива. Это я в кубрике отмазывал его от «годков», рассказывая сказки о его местонахождении, и это мое, а не его тело страдало от побоев. С его стороны, это была только маленькая услуга, за причиненный мне моральный и физический вред, и кто кому оказывал большую услугу – это ещё вопрос.
V
«Время собирать камни»
Июнь 1985 года. Наш «Стройный» только что вернулся с боевой службы из Средиземного моря. Буквально через сутки меня отправили в отпуск. Отпуск я заслужил своим трудом и добросовестным отношением к службе ещё перед выходом на боевую службу. Отпуск – это десять суток, не считая дороги, нормальной человеческой жизни, где нет «полторашников», «подгодков» и «годков», где к тебе обращаются по имени, а не презрительно бросают: «Эй, карась!» Воздух гражданки и нормальная человеческая атмосфера взаимоотношений пьянили и кружили голову лучше любой водки; но даже водка не давала забыться и забыть, что ты – «карась», забытое Богом, доведённое побоями «годков» до безропотного и униженного состояния человеческое существо в морской форме. «Карась» – есть «карась». И этим всё сказано…
Даже тепло родительского дома не смогло отогреть мою загрубевшую и зачерствевшую душу. Прошёл всё лишь только год службы, но за этот год я уже потерял страх. Страх перед офицерами (об этом чуть ниже), «годками» и, самое главное, перед физической болью. Мои убеждения и взгляды на жизнь кристаллизовались и цементировалась.
Я плохой христианин. Христианство учит прощать своих врагов. Я не собирался прощать тех, кто меня унижал и пытался день за днем по каплям выдавить из моей души человека.
По возвращению из отпуска я узнал, что мои ангелы-хранители Слава Ламкин и Володя Матушинец уже ушли на дембель, а с ними целая толпа «годков». Остались только «Ара» и Виктор номер 2, с которыми у меня было острое желание поговорить без свидетелей, но я понимал, что время ещё не настало. Уже был горький опыт. История с Лабусом для меня закончилась благополучно только благодаря Володе Матушинцу – иначе мог иметь большие проблемы со здоровьем. Сейчас заступиться за меня было некому. Сказать, что остальные, новые «годки» (лето-осень 1985 года) в нашем дивизионе в основной своей массе были адекватными – у меня язык не поворачивается. Нужно было думать и очень хорошо думать, прежде чем в открытую сразиться с «годковщиной». Домой возвращаться по инвалидности не хотелось. Теперешние «годки», а это призыв «Ары», были пацанами невысокого роста, худощавыми и явно небогатырского телосложения. Экземпляры богатырского телосложения, типа Вани-молдована, дембельнулись. С каждым из них я бы, наверное, справился, но проблема была в том, что ерундой они начинали заниматься в кубрике или на БИПе, когда собирались в стаю, а стая может разорвать или затоптать.
Меня по-прежнему в вечернее время гоняли на приборку на чужие объекты и посты, но каждый раз все реже и реже, так как я стал командиром отделения, хотя это не играло никакой роли в иерархической лестнице «годковщины», но давало основание иногда отмазаться от работы на чужих объектах. Причина была совсем не в этом.
Во-первых, в начале осени 1985 года я перешел к методике индивидуального терроризма и психологического воздействия в отношении конкретных личностей. Когда мне кто-то из старослужащих наносил удар из-за моего отказа выполнять его очередную прихоть, то я, сжимал кулаки, всем своим видом показывая, что после следующего удара – отвечу ударом и когда-нибудь я его убью. В большинстве случаев это действовало. Я же «борзый карась», а не простой «карась».
Во-вторых, пришли молодые «караси» и легче было их озадачить, чем связываться со мной, «борзым карасем», которого не сломили до конца куда более крутые «годки» чем они. Тем более после истории с Виктором номер два.
С Виктором номер два я давно искал встречи без свидетелей, но он с Лютым были не разлей вода, только всегда вместе. Тусовались в основном на БИПе или в кубрике, а там всегда были посторонние, которые могли помешать нашей плодотворной и, самое главное, я надеялся продуктивной беседе. По моему разумению, настало время собирать камни. Как не странно, к Лютому у меня претензий не было. Лютый был основным идеологом «годковщины» в нашем дивизионе, но, как не парадоксально, он ни разу меня не ударил. Оснований сводить с ним персональные счеты я не находил. Как влюбленный юноша мечтает поскорей остаться с девушкой в интимной обстановке, так и я сгорал от нетерпения и молил судьбу свести меня поскорей с этим хохлом тет-а-тет. Этим прозвищем мы «караси» за глаза называли Виктора номер два. Судьба услышала мои мольбы.
И вот я на БИПе осуществляю приборку, а проще говоря, мою палубу. Кроме меня и хохла – ни души. Мозг не дает покоя и постоянно твердит:
– Будь мужиком! Что ты тянешь резину, брось заниматься ерундой, кидай ты эту ветошь, подойди и врежь хохлу по зубам. Ты же этого хочешь.
Я уже упоминал ранее, что у моего мозга есть особенность, вступать со мной в пререкания. Хотя Виктор номер два был ярко выраженным садистом, мог беспричинно нанести удар, а то и избить любого молодого моряка, но я не мог без повода начать драку. Он должен меня ударить первым, тогда у меня будет моральное право ответить. А мозг не унимается:
– Сопляк! Он может и не ударить. Ты, что простишь унижения? Забыл, как получал от него по зубам? Другого такого случая может и не быть. Проклятое чувство джентльменского поведения. Первым ударить я никак не мог. Это было выше меня.
У Виктора номер два была дурная привычка. Он любил воображать себя крутым каратистом под тёплым небом страны Восходящего Солнца. С этой целью он ставил молодого моряка по стойке «Смирно» и с криком раненой обезьяны, которой кто-то в одно место вставил кусок бамбука и забыл его оттуда достать, отрабатывал на нём удары руками и ногами. Я на это рассчитывал. Как назло, этот раз ко мне Виктор номер два никакой агрессии не проявлял. Проклятый комплекс. Нужно было, что предпринять. Я дал команду мозгу:
– Думай! Ищи выход.
– Есть! – радостно ответило серое вещество, словно у него уже был готовый план действий, и добавило: – Доверься мне.
Как раз, ко мне подошла будущая жертва. Виктор номер два ещё не знал, что в этот раз именно он будет жертвой коварного плана моего мозга. Значительно позже, осваивая азы оперативного искусства, от умудренных многолетним опытом преподавателей я узнал, что любую ситуацию необходимо не только контролировать, но и желательно управлять ею; а, чтобы объект разработки себя проявил – нужно вокруг него создать те условия, в которых он себя обязательно проявит. Мозг, этот генератор идей, видно об этом уже знал, или получил эту информации по своим каналам уже тогда. Мозг дал команду моему телу – и, в результате, тело, контролируемое и управляемое мозгом, делает вид, что случайно проливает воду из кандейки на флотские брюки Виктора номер два.
Реакция жертвы была предсказуемой. Хохол взревел праведным гневом уважаемой испанской матроны большого семейства, которая только что узнала, что её любимую дочь какой-то негодяй обманным путем лишил невинности, и при этом речь о замужестве её доченьки не идет. Негодяя в обоих случаях нужно было наказать.
Перехватив контроль над телом у мозга, с виноватым видом я принял вертикальное положение и стал напротив Виктора. Излив на меня ушат словесного поноса, в котором только слова «карась» и «тормоз» были самыми безобидными и нейтральными, хохол перешел к действию и въехал мне кулаком в грудь.
Вздох долгожданного облегчения вольной птицей вырвался из моей груди. Вот он, тот момент, которого я так долго ждал. О котором мечтал и с мыслью, о котором засыпал на протяжении всей моей «карасёвской» жизни. Дальше события развивались уже по моему сценарию.
Я тут же нанес прямой удар по зубам. Бил не сильно, старался не выбить зубы, а только разбить губы, чтобы он, недочеловек, почувствовал: какова она, собственная кровушка, на вкус. От невиданной наглости зрачки глаз Виктора стали размером с куриное яйцо на подворье моей бабушки, но я не дал ему прийти в себя, как тут же сделал шаг на встречу и с разворотом тела от пояса нанес невидимый для глаз Виктора бандитский удар в солнечное сплетение. С волками жить – по-волчьи выть. Да какие они волки? Шакалы. Волк благородное животное.
В этот удар я вложил всю силу и ненависть. Удар получился мощным и сокрушительным. Хохол беспомощным снопом рухнул на палубу и стал жадно, как рыба, только что вытянутая из воды на берег, хватать ртом воздух, одновременно корчась от разлившейся по всему телу острой боли.
Сцену под названием «Возращение долга», нужно было доводить до логического завершения. Когда у Виктора восстановилось дыхание, и он стал способен соображать, что происходит, схватив его левой рукой за горло, я прижал этого мерзавца к переборке. С трудом сдерживая себя, чтобы не превратить его лицо в кровавое месиво, я бросил ему в глаза, чеканя каждое слово:
– Ещё раз меня ударишь – убью! – и чтобы он понял серьезность моих намерений, кулаком правой рукой врезал в переборку рядом с его ухом.
Только в тамбуре БИПа я облегченно вздохнул. То, чего я так долго ждал, почти целый год, сбылось, но на душе спокойней не стало. Чувство опасности черной кошкой проползло в моё сердце и не собиралось его покидать.
В данной ситуации я рассчитывал, что Виктор номер два не посмеет рассказать своим годкам о том, что «карась» его избил. Не по-мужски это – жаловаться, что тебя кто-то обидел. Я тогда слабо ещё разбирался в людях. Как я впоследствии узнал, хохол оказался ещё и порядочной сволочью. Своему призыву он рассказал, что во время приборки я сзади подкрался к нему, чем-то его оглушил и беспомощного избил. А ведь ударил я его по-настоящему только один раз. Расплата за содеянное не стала долго себя ждать. Мне последовало указание после отбоя прибыть на БИП. Ох, не зря у меня кошки на душе скребли.
– Бить будут, – это снова активизировался мой мозг, – и очень сильно. Ты поднял руку на самое святое, на «годковщину». Такое на корабле не прощается. Нужно что-то предпринимать.
– Сам знаю, – огрызнулся я. Но ничего толкового в голову не приходило.
Ситуация была серьезной. Одно дело, когда «карась» послушен и его учат, чтобы не тормозил, т.е. придают ускорение. Один, два удара – и ты свободен. Совсем другой случай, когда открытый протест. Это гарантированное избиение. Это приведение к покорности зарвавшегося «карася» и нужно проучить его так, что б другие запомнили, чтобы отбить любую попытку к протесту у остальной массы «карасей».
Побоев я не боялся. Боялся, чтобы не покалечили. Как потом на гражданке объяснить матери, что сын не в бою за Родину пострадал, а был покалечен такими же защитниками Отечества? Если кто-то думает, что я перегибаю палку и сгущаю краски – этим читателям я задам один вопрос, на который сам и отвечу: «Вы знаете, о чем я молил Бога на первом году службы на корабле?» Всё о том же, чтобы не отбили какой-нибудь жизненно важный орган, чтобы не покалечили и по этой причине не комиссовали. Насколько всё было серьезно. Самый главный аргумент в споре с оппонентами я берегу на конец главы про «годковщину». Но, наверное, всё-таки в мозгах что-то отбили, раз я пишу про то, о чём мужчины предпочитают хранить молчание. Уж больно это бьёт по самолюбию.
Вариантов было не много. Первый, который лежал на поверхности – это идти к дежурному по кораблю и рассказать про «годковщину» (Событие проходило в будний день, и все офицеры по окончанию рабочего дня были на берегу). Его я отмёл сразу. Корабль собирался на боевую службу в Африку. Я боялся, что на время «разборки полетов» спишут на другой корабль, а то ещё хуже на берег, или наш «Стройный» вообще не пустят на боевую службу. За казенный счёт посмотреть Африку – это круто. Не хотел подставлять других пацанов, поэтому решил: чему быть – тому не миновать. Я направился на БИП. Плана действия у меня не было.
Кроме Лютого, Виктора номер два, на БИПе ещё тусовалось четверо-пятеро из их призыва. Бить сразу не стали – и это меня спасло. Мой мозг взял инициативу над телом в свои руки. Покорный воле мозга я стал спиной к переборке, чтобы никто за спины не зашёл, и достал из кармана брюк перочинный нож типа «бабочка». Я его привез из отпуска, чтобы сало резать. Пригодился, да ещё как. Дальше мозг понёс что-то несусветное, но, как оказалось, единственное правильное в данной ситуации.
Учёные мужи утверждают, что в диспуте нужно доказывающие аргументы приводить постепенно, по степени значимости. Самый главный довод нужно оставлять на самый конец. Мозг с самой высокой колокольни наплевал на мнение ученых, видно все-таки он по ночам общается по своим каналам связи с другими, и начал с самого главного:
– Первый, кто меня ударит – умрёт вместе со мной, – и лезвие ножа стальным убийственным блеском сверкнуло в моей руке. – Пока вы меня будете убивать, я буду его резать первым. Одного на тот свет я заберу точно, второго – не знаю. Как хватит сил и до кого смогу дотянуться, но кровушки прольётся много.
Я сам ужаснулся от сказанного. Если бы сейчас на БИПе рванула граната – эффект был бы меньшим. Все замерли. Чтобы они не успели расслабиться и прийти в себя, мозг не унимался и продолжил в том же духе:
– Вы можете мне устроить тёмную, но запомните: вам придется меня убить, так как я всех, здесь присутствующих, запомнил, – и если я останусь живым, – то в первую же ночь я всем вам, как баранам, перережу глотки.
Даже Виктор от этих слов замер, хотя до этого как боевой конь гусара рвался в бой. Одно дело проучить зарвавшегося «карася», который даже не подумает дать сдачи, а тут – нужно идти на «макруху». А на это никто не подписывался.
Самый опасный зверь – это загнанный в угол, он сражается до последнего, если нет спасительной лазейки. Это я понял, когда мозг нагонял страху на эту морскую шушеру, поэтому я перехватил инициативу у мозга и повёл речь осознанно в направлении разрядки ситуации:
– Пацаны, пока не пролилось море крови, – начал я миролюбиво, одновременно подчеркивая, что от слов своих не отказываюсь и буду биться до конца, – пару слов в свою защиту.
– Говори! – это первым пришёл в себя Лютый.
– Я не хотел бить Виктора, это получилось случайно.
– Что? Случайно? – взревел гневом праведника Виктор номер два. Гнев его был искренен и имел под собой железобетонную основу, которая была крепче даже земной коры Кольского полуострова, скованной к тому же ещё и вечной мерзлотой. Кто-кто, но я об этом прекрасно знал.
Я не дал ему выразить своё возмущение до конца и перешёл в атаку, страшно блефуя:
– Сегодня во время приборки я случайно пролил из кандейки воду на брюки Виктору. Виктор ударил меня кулаком в грудь. Палуба то была мокрая – я поскользнулся, падая, взмахнул рукой – случайно попал ему по губам.
По глазам Лютого я видел, что он не верит ни одному моему слову и обдумывает выход из ситуации. Я же, не сбавляя темпа, уверенно продолжал, предлагая выход из непростой ситуации:
– Пацаны, я виноват, но повторяю, что ударил Виктора случайно. Я ничего не имею против «годковщины», – и дальше я решил сыграть на их жадности. – Готов компенсировать моральный вред.
Это был выход из тупиковой ситуации, и Лютый за него ухватился как утопающий за соломинку. Прервав жестом законное возмущение Виктора, Лютый, как председатель Верховного Суда СССР, вынес свой вердикт:
– Десять пачек сигарет с фильтром Виктору за моральный вред, – чтобы показать, кто хозяин в кубрике, после недолгого раздумья Лютый продолжил: – Не дай Бог, ты кому-нибудь из «карасей» тявкнешь об инциденте с Виктором – пожалеешь, что родился.
Лютый специально употребил глагол «тявкнешь», чтобы подчеркнуть, что я ещё щенок дворовый, среди них, маститых псов. Я не стал торговаться и только буркнул под нос, что понял и спрятал нож в карман.
В кубрик спать я не пошёл. Пошёл в пост. Нужно было подумать. Задраил входную броняшку и тяжело опустился на рабочий стул. Радости я не чувствовал. Всеобщая апатия охватила каждую клеточку моего тела. Тело требовало отдыха, или, как говорит молодежь, релакса. Впоследствии я узнал, что это нормальная реакция организма после стрессовой ситуации, когда цель достигнута и нет нужды жить и работать, с постоянным максимальным напряжением всех физических и внутренних сил.
Я пытался найти ответ на ряд вопросов: «А если бы они не поддались на блеф? Смог бы я, взять того же Виктора номер два, ударить ножом? Что это произошло со мной? Отклонение психики, вызванное повышенным самолюбием и завышенной самооценкой? Почему я такой злопамятен, или я дошёл до точки кипения: когда терпеть – больше нет сил, когда унижение и несправедливость – смывается только кровью? А может, стоило с первого дня на корабле покорно смириться на целый год, чтобы потом разогнуться и во всю дурковать оставшиеся полтора года?» Не найдя ответов ни на один вопрос, сломленный усталостью, я уснул в кресле.
После этого эпизода меня оставили в покое, и вскоре я стал «полторашником».


