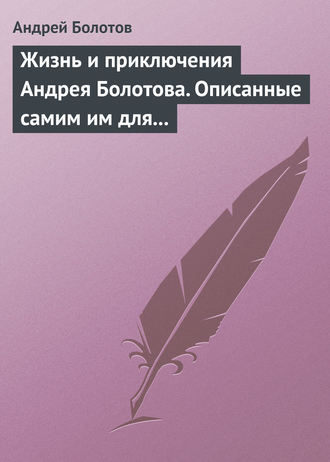
Андрей Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
– Это очень хорошо, дитя мое, – сказала она на сие, – однако все погулять бы сколь-нибудь можно.
Что было тогда делать? Я принужден был встать и иттить в сад. Но по счастию, рана моя в сии три дня совсем почти зажила, и я мог уже ходить тогда не хромаючи.
Сим образом кончилось тогда сие происшествие, и родительница моя не узнала об оном по свою кончину.
Что касается до прочих в сие лето бывших происшествий, то помню я только два, некоторого замечания достойных. Первое состояло в том, что мать моя однажды ездила со мною для богомоления за Серпухов к Рышковской Богородице, в котором путешествии сопутствовал и отец Иларион, верхом на своем коне. А второе гораздо было важнее и состояло в том, что родительница моя нечаянным образом вывихнула у себя ногу, в самой нижней щиколке, и так, что ее исправить было никак не можно.
Случилось сие при особливом случае. Каким-то образом, я не помню уже зачем, вздумалось живущему подле нас дяде моему родному удостоить нас своим посещением. Мать моя на самую ту пору сошла только с своей кровати и хотела войтить в мою спальню, но лишь только переступила она одною ногою через порог, как прибежали к ней без души сказать, что идет Матвей Петрович и уже входит в хоромы. Неожиданность такого известия и обстоятельство, что была она совсем не одета, так ее перетревожило, что она второпях как-то вдруг и скоро обернулась назад, спеша приттить скорее на кровать, и в самую сию несчастную секунду повредила себе ногу.
Как сначала боль была невелика и сносна, то думали, что сие пройдет само собою, однако в мнении сем все обманулись: боль начала со дня на день увеличиваться и мать мою обеспокоивать от часу больше. Принуждено было ее править, но как и сие не помогало, то лечить всем, кто что знал. Но сколько ни лечили, но не произвели никакой пользы, а окончилось сие тем, что родительнице моей не можно уже было по самую кончину свою одевать на ту ногу башмак, но она принуждена была приказать сшить из войлока некоторый род просторной туфли и в оной уже хаживала, когда ей с постели своей сходить надлежало.
Между всеми сими происшествиями прошло, наконец, лето, наступила осень, и приближалась зима. Матери моей сколько ни не хотелось, по болезни своей, меня от себя отлучить, однако она заключала, что я, живучи при ней, совсем исшалюсь и избалуюсь и не только не выучу ничего вновь, но и все выученное позабуду, и имела столько духу, что решилась отправить меня в Петербург, как скоро зимний путь настанет, и потому заблаговременно уже делала все нужные к тому приуготовления. Сопутником мне назначен был дядька мой Артамон и еще один молодой малый по имени Яков; лошадей же велено было нанять от Москвы до Петербурга.
Как скоро зимний путь настал, то родительница моя не стала медлить ни одного дня, но, собрав меня совсем и снабдив всем нужным на дорогу и для петербургского житья, собрала всех своих родственников и, предав покровительству небес, меня в путь мой отпустила.
Расставание у нас с нею было наинежнейшее. Она обливала меня слезами и целовала в лоб, в глаза, в щеки и в губы; я плакал не меньше оной и целовал у ней обе руки. Все бывшие при том присоединяли слезы свои к нашим, ибо никто не мог утерпеть, чтоб не плакать. Наконец, благословив меня образом и надавав тысячу благословений и еще раз меня расцеловав и обмочив своими слезами, простилась она и отпустила. Увы! Сие было в последний раз, что она меня, а я ее видел. Минута сия толико мне памятна, что и поныне наиживейшим образом впечатлен в уме моем ее образ и тогдашнее расставание.
Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем расскажу о своем путешествии и петербургской жизни; я есмь и прочая.
Приезд в Петербург
Письмо 17-е
Любезный приятель! Приступая к описанию путешествия моего и петербургской жизни, о первом скажу, что мне все оное почти двумя словами описать можно. Мы приехали в Москву благополучно; а тут, отпустив своих лошадей в деревню, а сами, наняв ямских, пустились далее, и как дорога была хорошая и можно было верст по 80 на день ехать, то доехали мы до Петербурга скоро и благополучно. Не было с нами во всю дорогу ни одного такого приключения, которое бы достойно замечено быть, а старанием дядьки моего был и я всем доволен.
Что принадлежит до второй, то есть до петербургской жизни, то найдется многое кой-что, о чем пересказать вам можно.
Как мы адресованы были к дяде моему Тарасу Ивановичу Арсеньеву, служившему еще и тогда ротмистром в конной гвардии и жившему сего полку в светлицах, то и приехали мы прямо к нему. Дядя мой давно уже меня дожидался, ибо писал уже несколько раз к матери моей, чтоб меня присылала и что у него уже есть место на примете, где б мне учиться.
– Насилу, насилу прислала тебя мать! – сказал он, меня увидев. – Давно бы, мой друг, пора! Небось ты, живучи с целый год в деревне, все выученное позабыл.
– Никак, дядюшка! – ответствовал я. – А я все старался твердить.
– Уж знаем мы, – сказал он на сие, – каково бывает ваше твержение. Но добро, добро, хорошо, что невестка тебя прислала.
Сказав сие, приказал он выбираться из повозок и мне одеться получше, ибо я был в дорожном платье.
На другой день повез он меня с собою в коляске в тот знакомый ему дом, в котором надлежало мне учиться и где им приговорен был уже учитель. Дом сей отстоял от нас неблизко, и гораздо более версты, и принадлежал одному при строениях дворцовых определенному старичку-генералу, по имени Якову Андреевичу Маслову, самому тому, который в последующие времена, будучи генерал-аншефом,[75] постригся в монахи и несколько лет препроводил в духовном чине и был сперва иеромонахом, потом игуменом, а наконец архимандритом. Дяде моему знаком был сей человек потому, что был он сосед ему по деревням, а сверх того и любил его. В доме у него жил тогда учитель-француз для обучения детей генеральских; и с сим-то учителем, с дозволения господина Маслова, условился дядя мой, чтоб ему учить, и мне бы всякий день поутру и после обеда приходить в сей дом для учения. Я представлен был и учителю, и господину Маслову; дело было в единый миг кончено, и положено, чтоб я в следующий же день учинил начало.
Между тем, как мы уже туда ездили, дядьке моему поручено было сыскать для другого моего слуги какое-нибудь место и работу, чтоб не было нужды кормить его по-пустому. Дядька мой и нашел ему работу на канатном дворе столь выгодную, что он не только мог сам себя пропитать, но выручаемых денег довольно оставалось и на зарплату за меня учителю моему: итак, оно мне ничего почти не стоило. Дядя был сим очень доволен и приказал в тот же день отправить оного на фабрику.
Дом, в котором жил дядя мой, был хотя нарочито велик, но ему ассигнована была только одна половина оного, а в другой жил другой офицер. Половина сия содержала в себе только четыре просторные комнаты: первая составляла переднюю, или залу, отправляющую также должность столовой, вторая – дяди моего спальню, и оба сии покои были обиты обоями и порядочно убраны; а из других двух задних одна была детская, а другая – и лакейскою, и девичьего. Мне ассигновано было место спать в зале, где подле печки поставлена была моя кроватка.
Дядя мой, будучи порядочный и степенный человек, жил, как говорится в пословице, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Мотать он не мотал, жил не слишком роскошно, и в доме у него все было хорошо и порядочно. Он имел у себя молодую тогда и вторую жену, и маленького на руках еще сына. Катерина Петровна – так звали его жену – была боярыня молодая и модная и великая щеголиха. Он любил ее чрезвычайно; однако она должна была во всем повиноваться его воле и ничего лишнего не затевать. Несколько человек отборных друзей, живущих таким же образом, как он, составляли наиболее их компанию и делили с ними свое время. В особливости же дружен с ними был тогдашний конной гвардии секретарь, Дмитрий Михайлович Буткевич. Поелику и у сего офицера была также жена и притом таких же почти лет и свойств, как моя тетка, то оба сии дома были неразрывною любовью и езжали часто друг к другу. Во время сих съездов препровождали они время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и светская нынешняя жизнь уже получала свое основание и начало. Все, что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народ и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема.
Со всем тем карточная игра не была еще в таком ужасном употреблении, как ныне, и не сиживали за картами и до обеда, и после обеда, и во всю почти ночь не вставаючи. Нынешних вистов тогда еще не было, а ломбер и тресет[76] были тогда наилучшие игры, да и в те игрывали только по вечерам; в прочее ж время упражнялись в разных и важных разговорах. В сих разговорах обыкновение тогда было упражняться в особливости за ужинами и за обедами: по целому иногда часу и более сидели они, наевшись и ничего иного не делая, кроме что упражняясь в разговорах.
Для меня сей род жизни был нов и необыкновенен, но я принужден был с оным сообразоваться и могу сказать, что привык к нему очень скоро. Я вел себя тут очень степенно, а правду сказать, причиною тому было то, что, с одной стороны, боялся я очень дяди, оговаривающего меня тотчас, как скоро я что-нибудь непристойное делывал, а с другой – не было в доме никакого мне сверстника, с которым бы мне можно было резвиться; итак, поневоле должен я был быть тихим, кротким и степенным. Днем хаживал я обыкновенно в дом к господину Маслову учиться, а к вечеру препровождать время свое не в людской и не с людьми, а в спальне дяди моего, со всеми гостями и, сидючи за стулом, смотреть, как они игрывали, и слушать их разговоры. Но никогда разговоры их не были мне так скучны, как за ужином: нередко случалось, что, уставши днем от ходьбы, а вечером от стояния, смерть спать хочется. Но я принужден был вместе с прочими часа два просидеть за ужином и слушать разговоры, ибо, к несчастию, кровать моя стояла, в сей комнате и мне выйтить и лечь было невозможно.
Сим образом и не бранью и не жестокостью, а все ласками и оговариваниями в короткое время дядя так меня вышколил, что я стал совсем другой ребенок и во всем моем поведении так переменился, что скоро как дядя, так и тетка, а не менее и приезжающие к нам гости начали меня удостаивать своими похвалами и делать мне более уважения, нежели прежде. Они приобщали меня даже к своим увеселениям, научили меня играть в тресет, и я должен был иногда делать компанию боярыням. Когда же ознакомился уже более, то случалось, что когда заводили Они танцы, то и я должен был танцевать вместе с ними или, по крайней мере, в контратанцах помогать делать фигуру. Случалось ли когда выезжать им целою компаниею гулять, например в летнее время на Каменный остров или в иное место, то бирали меня с собою и т. д.
Все сие было для меня приятно, и я скоро получил вкус к жизни сего рода и могу сказать, что как дом господина Маслова был мне училищем для наук, так дом дяди моего был для меня училищем светской жизни и хорошему поведению. С сей стороны я много обязан сему любившему меня родственнику, а не менее и тетке, его жене; она не менее старалась меня исправлять, как и он, и я попечением и старанием ее обо мне был очень доволен и имел к ней искреннее почтение и потому охотно исполнял поручаемые ею мне комиссии. Она, узнав, что я умею рисовать, заставляла меня иногда делать для себя некоторые рисунки; но ничем я ей так не угодил, как разрисованием одного ларчика: я употребил к тому все мое искусство, и она была работою моею очень довольна.
Не менее также доволен я был одним, бывающим почти всякий день у дяди моего, гостем. Был он того же полку офицер, по фамилии Лихарев, но находился под каким-то следствием и потому хаживал он обыкновенно все в тулупе. Поелику был он человек весьма разумный и в компании веселый и шутливый, то любил его мой дядя, и он хаживал к нам почти всякий вечер. Сей человек, узнав, что я имею склонность к наукам и питанию книг, отменно меня за то полюбил и нередко заговаривал со мною о разных материях. Он принес ко мне однажды рукописную книгу и, отдавая для прочтения, сказал, что он обо всем будет меня спрашивать и чтоб я читал со вниманием. Но таковое напоминание было для меня не нужно: книга сия для меня была очень любопытна, и как я сего рода книг никогда еще не читывал, то в немногие дни промолол я ее всю, а неудовольствуясь одним разом, прочел и в другой раз и мог ему пересказать все по пальцам. Г. Лихарев удивился, услышав о том, что я ее в такое короткое время прочел уже два раза, и был охотою и вниманием моим так доволен, что подарил меня сею книгою. Я обрадовался тому до чрезвычайности и не знал, как возблагодарить ему за оную. Составляла она перевод одного французского и, прямо можно сказать, любовного романа, под заглавием «Эпаминонд и Целериана», и произвела во мне то действие, что я получил понятие о любовной страсти, но со стороны весьма нежной и прямо романтической, что после послужило мне в немалую пользу.
Сим образом препровождал я жизнь в доме у моего дяди и столь порядочно, что не помню, чтоб я однажды сделал какую шалость и подал повод дяде моему бранить меня за то. Словом, весь дом был мною доволен, и все любили меня и хвалили.
Но теперь время рассказать мне вам и о доме г. Маслова и о том, как я учился в оном. Отстоял он от нас, как выше упомянуто, неблизко, ибо находился неподалеку от церкви Сергия-чудотворца и за Литейным двором, и ходить мне было в оный нарочито далеко, однако, по ребячеству своему, я скоро к тому привык: иногда хаживал я туда один, а иногда провожал меня дядька, и путь сей, а особливо в летнее время, был мне очень приятен, нередко и сокращал я оный, купив на дороге себе изюма и лакомясь им по ягодке. Лавочник, сидящий на дороге в лавочке, уже так к тому привык, что отвешивал обыкновенно мои четверть фунта заблаговременно и меня только завидев: изюм был тогда в Петербурге очень дешев, и на порцию мою в день исходило только три денежки, ибо фунт продавался по 6 копеек.
Дом у господина Маслова был хотя превеликий, но как он имел четырех сыновей, из коих старший, по имени Михаил, был уже капитаном, а средний, по имени Степан, гвардии сержантом, и оба они были большие, то целая половина дома содержала в себе комнаты, в которых жили его дети, так что нам с обоими его младшими детьми, Иваном и Андреем, не оставалось во всей сей половине места для учения, и мы принуждены были учиться у самого генерала в предспальне. Оба мои товарищи были несколько меня постарее, и оба были очень резвы и к учению тупы, а особливо меньшой самый. Что ж касается до другого, то был он хотя пылкого и горячего темперамента и малый весьма ветреный и бойкий, но к учению был также неприлежен. С обоими ими свел я скоро дружбу и знакомство. Для нас поставлялся обыкновенно ломберный столик посреди предспальни, и тут должны мы были сидеть и учиться, наблюдая возможнейшую тишину и благопристойность.
Что принадлежит до учителя нашего, то был он родом француз и человек еще очень нестарый. Звали его г. Лапис, и наивеличайший недостаток его состоял в том, что он не умел ни одного слова по-русски, а столь же малое понятие имел он и о немецком языке. Сие обстоятельство причиною тому было, что и в сей раз немецкий мой язык принужден был спать, и я чем далее, тем более позабывал оный. Но тогдашнее учение мое и французскому языку было самое бедное и весьма-весьма недостаточное. Великое счастие было еще то, что я сколько-нибудь умел уже по-французски, а то истинно не знаю, как бы он стал меня учить, не умея по-русски ничего растолковать и разъяснить. Не понимаю я и поныне, как таковые учителя учат детей в домах многих господ, а особливо сначала и покуда ученики ничего еще не знают. Господин Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключать по беспрестанному его читанию французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскою академиею и в котором находились только о каждом французском слове изъяснения и толкования на французском же языке: следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи, и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без наималейшей для нас пользы. Тогда принуждены мы были повиноваться воле учителя нашего и все то делать, что он приказывал, но ныне надседаюсь я со смеха, вспомнив сей род учения, и как бездельники-французы не учат, а мучат наших детей сущими пустяками и безделицами, стремясь чем-нибудь да провесть время.
Словом, если б не пользовало нас то, что мы как с учителем, так и между собою говорили всякий день по-французски и через то не твердили язык сей от часу больше, то не знаю, какую пользу мог я получить от тогдашнего учения. Не упражнялся я ни в чтении книг, ни в переводах, которые б всего нужнее мне были, а особливо с русского на французский. Учитель наш не в состоянии был помогать нам в сем случае, да и вообще не прилагал он дальнего об нас старания, а только и все его дело было, что заставлял нас писать и учить наизусть; прочее ж время упражнялся он все в чтении.
Таким образом, не получил бы я в сем месте дальней пользы, если б не случилось одного побочного обстоятельства, которое нечаянно послужило мне в особливую пользу и подало повод выучиться целой иной науке, которой я вовсе не учен был. Как оба сотоварища мои записаны были в артиллерию и были сержантами в оной, то восхотелось старику-генералу выучить их арифметике и геометрии как таким наукам, которые были им необходимо надобны. Приговорен был для сего один артиллерийский капрал и положено, чтоб ходить ему в дом сей после обеда в каждый день и учить детей генеральских. Что касается до третьего и середнего сына, то сей упражнялся тогда в черчении фортификации в своих комнатах, и для обучения его жил тут в доме инженерный кондуктор[77] г. Пучков.
По особливому счастию моему, оба товарищи мои были крайне бестолковы и непонятны, и учитель бился с ними как с крайними невежами; он принужден был всякую вещицу им раза по три и по четыре перетолковывать и насильно вбивать в голову. Как сидели они со мной за одним столиком и я все сие видел и слышал, то смешное из сего вышло: их учили, но они не выучились, а меня хоть не учили, но я выучился совершенно. Помогла к тому много собственная моя охота, ибо мне науки сии так полюбились, что я, приходя ввечеру домой, все то записывал, что я днем слышал. Я достал себе циркуль, рейсфедер и транспортир[78] и без всякого указательства начертил и написал себе всю полную геометрию и понял ее довольно совершенно. Хотелось было мне таким же образом получить понятие и о фортификации, которой учился средний генеральский сын Степан. Но как мы в покои его редко хаживали и при нас учитель ему ничего не толковал, то и не можно было мне в желании моем иметь дальнего успеха; однако я старался колико можно ходить туда чаще и сматривать, как они чертят планы, и получил по крайней мере о сих довольное понятие.
Сим образом продолжал я учение мое не только всю зиму, но и половину тогдашнего лета, и к жизни сего рода так уже привык, что она мне сделалась весела и приятна. Но спокойствие моего духа нарушено было в июне получением нечаянного известия из Москвы, что родительница моя в деревне скончалась. Первое известие о сем печальном приключении сообщил мне мой дядька; оно поразило меня, как громовым ударом. Однажды после обеда, пошед меня провожать в школу, стал он мне говорить на дороге, что есть из Москвы письма, что матушка моя очень больна; сердце мое затрепеталось при сем слове и пронзилось, властно как ножом.
– Ах, Артамонушка, голубчик! – подхватил я скоро его слово. – Уж не скончалась ли она? Скажи мне, ради Бога!
Тогда сказал он мне, что еще апреля 23-го числа был тот несчастный день, в который переселилась она в вечность. Боже мой, какою горестию и печалью поразилось мое сердце. Я стенал, рыдал и плакал и с целую четверть часа не мог сойти с того места; казалось, что все стихии для меня переменились. Все уговаривания дядьки моего не помогали; но наконец принужден я был дать себя уговорить продолжать путь свой далее. Однако худое учение было уже в тот день; я и там несколько раз принимался плакать.
Таким образом лишился я и моей родительницы и остался совершенным сиротою на четырнадцатом году моего возраста. Я узнал после, что она с самого моего отъезда начала час от часу слабеть более и, наконец, по вскрытии весны сама приметила уже приближающуюся свою кончину и приготовилась к оной по христианскому долгу. Она скончалась в совершенной памяти и погребена была в приходской нашей церкви, под самым правым крылосом.[79] Дядя мой примирился с нею пред ее кончиною и имел попечение о ее погребении, а окончив сию печальную церемонию, взял на себя попечение о нашем доме и управление деревнями до моего приезда.
Происшествие сие произвело паки во всех моих обстоятельствах великую перемену: я сделался тогда совершенным властелином над всем нашим имением и деревнями, но властелином весьма еще к правлению оными неспособным.
Что со мною случилось далее, о том расскажу вам, любезный приятель, в последующем письме, а сие окончив сим, остаюсь и проч.







