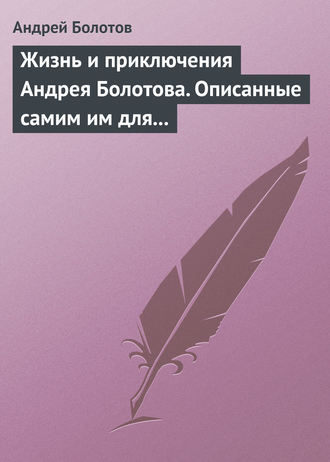
Андрей Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
Езда
Письмо 14-е
Любезный приятель! Теперешнее мое письмо к вам наполню я описанием путешествия нашего в деревню. О, сколько нужды и беспокойства претерпели мы во время сей дороги! Обоз был у нас превеликий и тяжелый, а выехали мы из Петербурга в самую глубокую осень, которая, к несчастью нашему, была в тот год мочливая и грязная. Не успели мы выехать из Петербурга и пуститься по мостовым, как и начало то то, то другое ломаться и портиться и то за тем, то за другим делаться остановка. Никому так все сие досадно не было, как моему зятю; он горел как на огне от желания скорее домой приехать, и потому всякая малейшая остановка приводила его в сердце и в досаду: он бранился, дрался, сердился, кричал и тем пуще приводил всех в замешательство. К вящему несчастью, как он нас вытурил почти в сумерки, то принуждены мы были все тридцать верст до первой станции ехать в самую дождливую и ненастную ночь; не осталось почти ни на ком ни единой нитки сухой, все перемокли и перезябли. Не прежде как в самую полночь приехали мы на станцию. Тут досада еще увеличилась: стояла в сем месте какая-то застава, и пьяный часовой сей заздорил[51] о чем-то с людьми нашими, и чуть было с караульным не сцепилась превеликая драка. Тревога ужасная! Не только я, но и сам зять мой насмерть перепугался; он выскочил из коляски, в которой со мной ехал, побежал туда сам и насилу-насилу укротил весь шум, там бывший. Грязь была почти по колени в том селении, где мы тогда были; темно так, что хоть глаз выколи. Приехали мы не в голос[52] и уже за полночь; надобно было искать квартиры; никто не пускает – везде было занято. Горе на нас превеликое, а на меня всех больше; наконец какими-то судьбами сыскали нам избенку. Мы рады были уже последней лачужке, только бы было в ней тепло: все обеспокоились и перезябли до бесконечности. По счастию, попалась нам избушка теплая; мы вошли в нее, как в рай, хотя была она весьма-весьма плоховесовата[53] и походила более на чухонский рей,[54] нежели на русскую избу. Не успели мы несколько обогреться, как голод принуждал нас промышлять об ужине. Есть нам всем, а особливо мне, ужасно как хотелось. Обед был у нас самый легкий: зять, от ветрености и излишней поспешности своей, не дал мне порядочно и пообедать, а что того хуже, то за сборами и укладыванием всего скоро-наскоро не успели мы никакою провизиею запастись на дорогу. Спрашиваем у хозяина, нет ли у него чего вареного, и не надеемся ничего найтить, ибо дело было уже за полночь. Но как обрадовались мы, услышав, что у него есть щи и еще целый говяжий язык, вареный в оных и горячий.
– Давай, братец, скорей! – закричали мы.
Этот язык памятен мне был во всю мою жизнь: не то он действительно был хорош, не то нам с голоду так показалось, но я не помню, чтоб я в жизнь мою едал когда так сладко, как в сие время; словом, он показался нам неоцененным, и мы заплатили за него охотно все, чего ни потребовал с нас хозяин.
Ночевав в сем месте, продолжали мы далее свой путь и тащились кое-как по прескверной и дурной дороге. Несколько дней принуждены мы были препроводить в сем скучном путешествии, покуда доехали до Новагорода. В продолжение оного не помню я ничего, чтоб особливого со мной случилось, кроме двух вещей. Первое было то, что я дорожную скуку прогонял, наиболее лакомясь вареным инбирем.[55] Целая банка была у меня одного, оставшаяся еще от покойного родителя: лекари выписали оную для лечения им его, но ничего не истратили. Я поприбрал ее к себе, и она пригодилась мне тогда очень кстати: я то и дело доставал по кусочку и его понемногу от скуки жустарил,[56] ибо был с самого малолетства великий охотник до лакомства. Другое происшествие было то, что я у карманных часов своих, доставшихся мне после родителя, перервал пружину: догадало меня дорогою их заводить; но я не знал, что для сего надобно останавливаться и что скорей всего можно испортить часы, ежели заводить их едучи: пружина того момента может лопнуть, как тогда со мною случилось.
Наконец кое-как и всеми неправдами доехали мы до Новагорода. Зятю моему такое медленное и скучное путешествие до бесконечности надоело: не помогла ему уже и его трубка, которую он изо рта не выпускал; он проклинал и дорогу, и все, но пособить было нечем. Наконец, натура,[57] власно как для приумножения его досады, произвела в погоде великую перемену: сделался мороз, но не столь сильный, чтоб вся грязь могла от него замерзнуть и поднять тяжелые повозки; выпал маленький снежок, и путь сделался еще того хуже, не можно было ни на санях, ни на колесах ехать. Боже мой, как сие вздурило[58] моего зятя! Он рвался досадою и только что всех ругал и бранил; никто не смел к нему приступиться и промолвить одного слова. Наконец, от превеликой досады и от неукротимого желания скорей домой приехать, что же он сделал? Таки бросил совсем обоз, сказав людям:
– Чорт вас побери, как хотите себе поезжайте!
Послал сам в ямскую и, наняв две тройки лошадей с легкими на санях кибитками и в одну сев сам, а в другую посадив меня, поскакал наперед в деревню. Мне сего хотя и не хотелось, но я принужден был беспрекословно повиноваться его воле и насилу успел упросить его хотя на несколько часов терпения и распорядить, кому весь обоз ведать и кому и как препроводить оный до его кашинской деревни, которая нашим людям была неизвестна.
По сделании всех нужных распоряжений и снабдив обозных деньгами, пустились мы с ним в путь и не ехали, а летели. Отроду моего еще я так скоро не езжал: меня в кибитке моей метало только из стороны в сторону, и я принужден был лежать, закуся губы, и почти сам себя не помнил. Каких страхов я не набрался в сем путешествии! Не было у нас разбора, хороша ли дорога или дурна, светло ли или темно, опасно ли или неопасно, а только и знай, что скачи и гони, покуда в лошадях есть мочь и сила. Однажды он меня чистехонько было утопил: было сие неподалеку от Новагорода и в первую ночь, как мы поехали. Зять мой, ехавший наперед, прискакал к одной нарочитой величины реке; в летнее время хаживал через нее плот, а тогда еще она только что застыла, и ни одна душа не отваживалась переходить через оную: столь тонок и опасен был еще лед. Ямщик было остановился и пошел стучать по льду и пробовать, но статочное ли дело, чтоб ему дать много затем гузать![59]
– Ступай! – кричал только зять из кибитки. – Чего смотреть? Видишь, лед; чего бояться?
Ямщик принужден был повиноваться его воле и, приударив лошадей, пустился через реку. Я обмер тогда, испужался, услышав, как под ним трещал лед, и увидев, что весь он гнулся под ним люлькою и вода из полыньи, которая подле самого того места была, где они ехали, лилась целою рекою на лед, и я истинно не знаю, как они переехали и припряжная лошадь не попала в полынью. Но страх мой еще увеличился, когда, переехав, начали они кричать, чтоб ехали и мы и держались более влево, также чтоб погоняли сильнее лошадей. Боже мой! Какая напади на меня робость и малодушие, но чему и дивиться не можно: я как-то от природы или паче от самого малолетства был весьма труслив к воде, а тогда, видя такую опасность, как можно было не вструситься? Но все мои просьбы и умоления, чтоб не ехать, не помогли: зять мой только и знал, что кричал, чтоб мы ехали, чтоб на меня не смотрели и что мне не оставаться ж за рекою. Что было мне тогда делать? Я видел сам необходимость, принуждающую нас ехать, и принужден был наконец согласиться. Взъезжая на реку, отчаял я совсем свою жизнь и только и знал, что крестился и просил Бога, чтоб нас помиловал. Не успели мы поравняться против полыньи, как вода еще более из ней полилась, и валилось ее столько на лед, что достала она до нижних наклесток саней.[60] Увидев сие и услышав в самое то время превеликий треск от льда, не вспомнил я сам себя от страха, ибо не инако считал, что мы погружаемся уже ко дну, и только без памяти кричал:
– Ах! ах!
Но судьбе угодно было сохранить мою жизнь: лошади выдернули нас из сей действительной опасности, и мы переехали благополучно.
Колико велик был мой страх и ужас, толико неописана была радость, которую чувствовал я по выезде на берег; я обеими почти руками крестился и благодарил Бога, что перенес он нас через реку сию. Мы в тот же еще день услышали, что некто, ехавший вскоре после нас в том самом месте, проломился и утонул; вот сколь велика была опасность, которая нам тем более еще казалась, что было тогда темно и на берегах не было ни живой души,[61] которая могла б нам помочь, если б мы проломились.
Вскоре после того доехали мы до другой и гораздо более величайшей реки, а именно Меты, под селом Бронницею. Сия так же только что стала, и никто еще не отважился по льду ехать. Тут зять мой, каков ни был отважен, но пуститься не отважился, но дождался, покуда жители села Бронниц поклали по льду через всю реку доски и нас с повозками на себе перевезли по оным, но за что и заплатить мы принуждены были им очень дорого. Я и при сем случае набрался невидимо сколько страху.
В продолжение путешествия нашего не помню я ничего особливого, а только памятно мне, что ехали мы очень скоро и почти денно и ночно и что, по счастию нашему, не сделалось никакой оттепели, но морозы продолжались; выпало еще довольное количество снегу, и зима стала совершенная.
Доехав до Твери, своротили мы с большой дороги влево на Кашин и ехали наиболее все лесами и узкими дорогами. Как стали подъезжать уже близко к зятниной деревне и оставалось ехать только верст с тридцать, то нетерпеливость его быть скорее дома была так велика, что он не захотел ночевать с нами, но наняв свежих лошадей и оставив меня одного, пустился в ночь, и я приехал уже на другой день по его приезде.
Сестра встретила меня обливаясь слезами, отчасти о кончине нашего родителя, отчасти от удовольствия, что меня видит. Все ласки, какие только могут быть, изъявляла она мне и старалась угостить меня наивозможнейшим образом. Я не бывал еще до того никогда в их деревне. Они имели тут село, называемое Веденским, и в нем домик довольно изрядный; несколько им же принадлежащих деревень окружали оное. У сестры моей было тогда две маленьких дочери, рожденных ею в одно время, одну звали Надеждою, а другую – Любовью, и она жила тут хорошею экономкою и порядочно.
Я принужден был пожить в деревне у них более недели и до самых тех пор, покуда наш обоз из Новагорода притащился, но дни сии препровождены были мною без скуки. Сестра ласкалась ко мне до бесконечности и употребляла все, что могло служить только к моему утешению: лакомства и закуски не сходили почти со стола, а и обо всем прочем было не позабыто. Словом, я так был доволен, что согласился бы прожить у них и долго.
Но как обоз уже пришел, то надлежало помышлять об отъезде. Я думал, что зять мой поедет со мной и довезет меня до моей матери; однако в том обманулся, но ему не захотелось так скоро расстаться со своим домом.
Сестра моя сколько ни просила и ни умоляла его, чтоб он поехал со мною, однако он никак не согласился, а решился на том, чтоб мне тогда ехать одному с обозом, а сам хотел приехать к нам в деревню после и с сестрою моею и пробыть у нас несколько времени.
Таким образом, принужден я был достальное путешествие предпринять один, и сей случай был первый еще в моей жизни, что я один и в довольно дальнюю дорогу пустился, ибо от зятя до нас было еще верст более 300. Сестра напекла и наготовила мне всего и всего на дорогу и проводила меня со слезами от себя.
Во время путешествия сего не случилось со мною ничего особливого, кроме того, что в первые дни езды моей принужден я был чрезвычайно мучиться от чирьев. Сей болезни подвержен я был с малолетства и довольно часто, но такой беды никогда со мной не бывало, как тогда: легко ли, семьдесят больших и малых чирьев было тогда вдруг на моем теле! Причиною тому была невинным образом сестра моя; ей неведомо как хотелось с дороги меня вымыть и выпарить, но, к несчастью моему, в бане у них печь тогда обвалилась и была не исправлена; итак, вздумалось ей уговорить меня дать себя выпарить в печи. Я долго не соглашался никак на сей особливый род паренья, который был мне неизвестен, но принужден был наконец ее послушаться и, вместо здоровья, получил вышеупомянутое множество чирьев.
По счастию, прошли они у меня скоро, так что я только дня три ими мучился. Мы приехали в Москву благополучно, и как мне в сем городе жить было долго незачем, то я на другой же день пустился опять в путь и, наконец, приехал в деревню свою благополучно.
Свидание с покойною родительницею моею было трогательно и плачевно. Она хотя и знала уже о кончине моего родителя, но смочила меня всего слезами, как я приехал. Но скоро заступила место печали радость: она не могла на меня довольно насмотреться и изъявляла ко мне все ласки, какие только оказать ей было можно.
Сим образом закончил я мое длинное путешествие; а как с того времени принужден я был паки вести новый род жизни, то кончу сим и теперешнее письмо мое, сказав вам, что я есмь ваш и прочая.
В деревне дворяниново
Письмо 15-е
Любезный приятель! Жизнь, которую я по приезде моем в деревню принужден был вести, была совсем отменна от той, какую я вел до того времени. До того жил я все с мужчинами и посреди всегдашнего многолюдства, а тут должен был жить с одними женщинами и наиболее старушками и дни свои препровождать и совершенном почти уединении. Родительница моя была человек уже не молодой; но не столько удручала ее старость, сколько слабое состояние и частые болезненные припадки, от которых не сходила она почти с постели, но большую часть времени своего препровождала на оной.
Сверх того как она была госпожа не светская, а более старинного века, и притом набожная и благочестивая, а притом и достаток наш был так невелик, что не дозволял ей жить никак открытым образом, хотя б она и хотела, то и препровождала она в деревне жизнь совсем почти уединенную: никто почти из лучшеньких соседей наших к ней и она ни к кому не езжала. Но, правду сказать, и околодок наш был тогда так пуст, что никого из хороших и богатых соседей в близости к нам не было. Тогдашние времена были не таковы, как нынешние (1789 г.); такого великого множества дворянских домов, с повсюду живущими в них хозяевами, как ныне, тогда нигде не было: все дворянство находилось тогда в военной службе, и в деревнях живали одни только престарелые старики, не могущие более нести службу или за болезнями и дряхлостью, по какому-нибудь особливому случаю оставленные, и всех таких было немного. В других домах живали также одни только старушки с женами служащих в войске дворян и вели также уединенную жизнь; итак, и знакомиться было не с кем. В самом нашем селении было хотя три господских дома, но один из них стоял пуст, потому что все хозяева были в службе, а в другом хотя и жил тогда отставной от службы мой дядя, родной брат покойному родителю моему, и сей дом хотя и всех был к нам ближе и только через сад, но я не знаю уже за что и чтоб тому была истинная причина, что родительница моя никак не могла терпеть оного и во весь век свой была с ним не согласна. Правду сказать, что и характеры их были весьма между собою несогласны: родительница моя была женщина хотя добросердечная, но нравная и неуступчивая, а дядя был человек чрезвычайно скупой и завистливый и любил отменно жить в уединении и хозяйничать. Словом, они оба не могли терпеть друг друга, а маленькие и ничего не значащие по соседству распри и мнимые обиды поддерживали их несогласие; а люди и служители, находящие некоторое удовольствие в том, что господа между собою ссорятся, старались всегда с обеих сторон поддувать огонь вражды между обоими домами. Но все сие причиною тому было, что они между собою не знались и друг к другу не ходили, а при таковых обстоятельствах не можно было и мне ходить к моему дяде. Я один только раз, и то с приезда, получил дозволение к нему сходить, да и то на одну только минуту. Единое знакомство и кой-когда свидание имела мать моя с немногими своими, с отцовской стороны, родственниками, которые все были наибеднейшие дворяне и простейшие старички, жившие от нас верст за 10 и за 15. Кроме сих, составлял весьма важную особу поп наш приходский и ее отец духовный. Сия духовная особа была совсем отменного характера, нежели прочие деревенские попы, и имела великие перед ними преимущества. Отец Иларион (так его называли) был не только умнее сотни других понов, но и вел себя степенно, важно, осанисто и так, что не можно было не иметь к нему почтения. При всем том был превеликий рассказ[62] и говорил сладко, так что не устанешь, бывало, слушать предлинные его повествования об его приказных делах[63] и хлопотах, в каких препровождал он целый свой век, по причине вечной и непримиримой ссоры и вражды со своим товарищем, другим попом, которого звали Иваном. Чудное поистине было дело! Целый свой век старались они друг друга погубить, но никто не мог ничего другому сделать, и вся польза от их вечной тяжбы была та, что они оба обеднели, ибо обоих их в консистории только обирали, а без того были б они оба богатые люди, ибо приход был хороший.
Сия-то духовная и престарелая уже особа играла в тогдашнее время знаменитую в доме нашем роль. Отчасти остротою своего разума, отчасти хитростию, а более всего пользуясь отменною родительницы моей склонностию к набожному житию, умел отец Иларион так вкрасться в мать мою, что она воздавала ему превеликое почтение, не оставляла его во всех его нуждах, старалась во всем ему угождать, и он был у ней наилучшим советником и наставником во всех случившихся делах. Он хаживал к нам всех прочих чаще, и сколько для служения заутреней и молебнов, которые бывали у нас очень часто, но и так, захаживая из прихода и сиживая иногда по несколько часов, рассказывая свои повести и тяжбы. Словом, он обладал почти нравом и душевным расположением моей матери, и я и поныне не могу еще позабыть одной хитрости, употребленной им во время тогдашнего моего пребывания в доме для поддержания своего владычества. Некогда случилось, что родительница моя не знаю чем, неисполнением ли какой-нибудь его просьбы или иным чем, его порассердила; он, будучи таков же внутренне зол и любомстителен, колико наружно благочестив и набожен, сокрыл тогда досаду свою во глубине своего сердца. Но как несколько времени потом случилось родительнице моей прихворнуть и она вздумала исповедаться, как то нередко делывала, то что ж он сделал? – Он, зная коротко расположение ее нрава и великую привязанность ее ко всему суеверному, вздумал ей при сем случае мстить свою мнимую обиду, но чем же? – так называемым связанием на духу, о важности которого постарался он уже издавна вперить в нее страшные мысли. Мать моя сочла сие неведомо за что, и сие связание нагнало на нее такой страх и ужас, что она считала себя не инако как погибшею, ежели паки разрешена не будет. Несколько недель препроводила она в превеликом смущении и впала было от того в сущую меланхолию, и тем паче, что поп перестал вовсе к нам ходить и открыто уже изъявил всю свою злобу, скрывавшуюся до того в его сердце. Нечего было делать, принуждены были засылать к попу и ходить за ним и уговаривать; он спесивится и гордится, и насилу его как-то уговорили и довели до того, что он мать мою разрешил. Вот каковы были тогда времена и обстоятельствы!
Но я удалился уже от порядка моего повествования. Теперь, возвращаясь, скажу, что мать моя приездом моим чрезвычайно была обрадована, и как она меня уже давно не видала и я между тем несколько поболее вырос, а при том, понаучившись кой-чему, сделался пред прежним и поумнее, то не могла она на меня довольно насмотреться и мною налюбоваться. Желала б она охотно узнать, чему и чему я выучился в Петербурге; но как она ни об иностранных языках, ни о науках никакого сведения на имела, то не могла в том себя удовольствовать. Недостаток сей я старался заменить показанием искусства своего в рисованье: на другой же день приезда своего, разобравшись с своими красками, нарисовал я ей в целом листе Бову-королевича или древнего рыцаря на коне, в полном его вооружении и воинских доспехах. Рисунок сей хотя был весьма и весьма посредственен или, лучше сказать, ни к чему не годился, потому что для вящего оказания своего искусства делал его от руки, но для старушки моей был он в превеличайшую диковинку: всем-то был он показываем, всем-то расхваливай, всякое мое слово замечаемо, подтверждаемо, и я от всех осыпаем был похвалами и ласками.
Но не одним сим угодил я моей родительнице: но чтоб доказать, что я не люблю праздности и не хочу забыть того, что я учил, разобрал я все мои французские и немецкие учебные книги и по несколько часов в день стал препровождать в читании и выписывании кой-чего из оных для твержения того, что я выучил. Сие было для матери моей приятнее, она то и дело сама твердила мне, чтоб я старался выученного не позабыть, и была прилежностию моею весьма довольна. Но бедное было сие учение самого себя, а особливо в таких летах, в каких был я, и притом при неимении никаких исторических иностранных книг, которые б я читать мог и каковое б чтение могло мне всего более пользовать.
Сим образом, разделяя время свое между питанием, писанием и рисованием, а временем и гулянием, начал я жить при моей родительнице. Все сии учебные и увеселительные работы производил я при глазах моей матери, на большом и предлинном углу той комнаты, где мать моя жила и почивала. Что касается до моей спальни, то была она в маленьком чуланчике, отгороженном досками от комнатки, бывшей подле спальни матери моей; в сих обеих комнатах состояли все наши жилые покои. Происходило сие не от того, что хоромы наши были маленькие; они были превеликие, но обыкновение тогдашних времен приносило то с собою, что состояли они по большей части в пустых и нежилых покоях. Например, было в них двое превеликих сеней, из которых передние так были велики, что я через несколько лет после того сделал из них две прекрасных комнаты; а и задние сени уместили б в себе также покойца два, но, вместо того, были передние совсем пусты, а в задних был только один ход наверх, занимающий место целой комнаты. Из сеней сих был вход в переднюю, или, по-нынешнему, залу. Пространная комната сия была от начала построения хором холодная, и все украшение ее состояло в образах простых и в кивотах,[64] коими весь передний угол и целая стена была наполнена, ибо обыкновения, чтобы комнаты подштукатуривать и обоями обивать, не было тогда и в завете. Мебели же все состояли в лавках кругом стен и в длинном столе, поставленном в переднем углу и ковром покрытом. Как окошки были небольшие, а стены и потолок от долговременности даже потемнел и сделался кофейного цвета, а дубовый стычной пол[65] еще того темнее, то царствовала в сей комнате сущая темнота, и в ней никто и никогда не живал, а наполнялась она единожды в год народом, то есть в святую неделю, когда с образами приходили и в ней молебен служивали. За нею следовала другая, угольная и самая та комната, которая была у матери моей и гостиною, и столовою, и шальною, и жилою. Три маленьких окна с одной и одно двойное с другой стороны впускали в нее свет, и превеликая, складенная из узорчатых разноцветных кафлей печь снабжала теплом оную. Печь сия расположена была особым и таким образом, как в людях не водится: не скоро можно было найтить и добраться, откуда она топилась; надлежало лезть наперед за печь, а там поворачивать направо и искать устья, ибо оно сделано было от стены и совсем в темноте. Тапливали ее обыкновенно дворовые бабы поочередно и таскивали всякий день превеликие ноши хвороста и, с ним залезши к устью, прятывались и завешивались там, власно как в конуре. Со всем тем печь сия была тепла и неугарна, да и самая комната довольно светла и весела.
Что касается до украшения сей важнейшей в доме комнаты, то оные состояли также только в одних образах, расставленных в переднем углу. Внизу сделан был маленький угольничек, и тут перед киотом, с крестом, с мощами, горела неугасимая лампада, а вверху сделана была предлинная полка, а на ней наставлен целый ряд образов разных. Стены в комнате сей были также ничем не обиты, но стычной дубовый пол от частого мытья несколько побелее. Что касается до потолка, то он был неровным, но через доску одна ниже, а другая выше, и от долговременности весьма изрядно закоптевшим.
Что принадлежит до мебелей, то нынешних соф, канапе, кресел, комодов, ломберных и других разноманерных столиков и прочего тому подобного не было тогда еще в обыкновении: гладенькие и чистенькие лавочки вокруг стен и много-много полдюжинки старинных стульцев должны были ответствовать, вместо всех кресел и канапе, а длинный дубовый стол и какой-нибудь маленький складной вместо всех столиков. Итак, в переднем углу стоял вышеупомянутый длинный стол, в другом была матери моей кровать, а в третьем – прежде упоминаемая печь и подле ней широкая скамья, а в четвертом стоял на лавках трех денег не стоящий и так почерневший шкафчик, что надлежало разве скоблить ножом, чтоб узнать, что он был некогда крашен красками. Вот изображение наилучшей и первейшей комнаты.
Вправо и сбоку подле ней находился другой теплый покой или прежде упоминаемая комнатка. Она составляла вкупе и девичью, и лакейскую, и детскую и была самая та, в которой я родился. Незадолго, до моего приезда перегорожена она была надвое досками, и сия отгородка была тогда моею спальнею и комнатою.
Наконец, кроме сих трех комнат было еще два покойца холодных, чрез сени и в сторону к саду, но оба они были нежилые, а служили кладовыми. Один занят был мелочными съестными припасами, а другой – сундуками и был темный.
Вот все расположение старинных хором наших, в которых живали наши предки и в коих я родился, женился и жил сам потом несколько лет, покуда построил себе новые и лучшие. Для любопытства потомков моих не за излишнее почел я изобразить оные как спереди, так и сзади, в прошпективическом виде[66] и вкупе с бывшею подле них черною горницею, которая служила тогда и кухнею, и приспешною,[67] и людскою.
Каковы были хоромы, таково было и место, на котором они стояли. Неизвестно уже мне, кто из предков моих выбрал впервые оное, только то знаю, что оно было худшее из всей усадьбы, а наилучшие места были заняты огородами и скотными дворами. Но сему и дивиться не можно: в старину было у нас и обыкновение такое, чтоб дома нарочно прятать и становить их в таких местах, чтоб из них никуда в даль было не видно, а все зрение простиралось на одни только житии, конюшни, скотные дворы и сараи. А точно в такое место поставлены были и наши хоромы.
Но вот я, опять заговорившись о побочном, удалился от продолжения истории моей. Теперь, возвращаясь к оной, скажу, что несколько дней спустя после моего приезда наступил наш храмовый праздник святого Николая. Мать моя имела обыкновение оный колико можно лучше праздновать. Она пригласила к себе к оному всех своих родных и знакомых, каких только она имела. Они приехали все к ней, и я имел тут случай всех узнать и со всеми ими познакомиться.
Но, о какое это прекрасное общество и какая милая и любезная компания! Первую особу составлял один высокорослый старичок, по имени Яков Васильевич Писарев. Он был матери моей двоюродный брат и человек недальней бойкости; он служил в войске низким чином, и поелику он не умел и грамоте, то и отставлен таковым же. Жил он от нас верст десять, имел самый малый достаток, и мать моя, сколько по родству, столько и за то любила, что он был веселого и шутливого нрава и в компании не скучен, а впрочем, ничего дальнего от него требовать было не можно. Жена его была старушка самая шлюшечка[68] и человек препростой, но дочь имел он преизрядную и предорогую[69] девицу; ее звали Агафьею Яковлевною, и она была совершенная уже невеста. Мать моя, по любви своей к ним и по бедности их, взяла ее жить к себе, и она у нас жила, как я приехал, и делала нам компанию. Но сыном, которого он имел, был он не таков счастлив: была самая неугомонная, ветреная и такая голова, что нередко он его на цепь приковывал.
Другую особу составлял также весьма небогатый дворянин и матери моей родственник же, но не столь близкий, по имени Сила Борисьевич Бакеев. Он жил верст 15 от нас, и в самой той деревне, где мать моя родилась и воспитана, ибо она была фамилии Бакеевых; он служил также в гвардии и отставлен офицерским чином. Мать моя его не только любила, но и почитала, потому что он был всех прочих умнее и притом знаток по гражданским делам и мог в нужных случаях подавать советы. Словом, он во всем тогдашнем нашем обществе почитался философом и наиразумнейшим человеком, хотя, в самом деле, был он весьма и весьма посредственного знания. Жена его была старушка смирненькая и простенькая.
Третью особу составлял также весьма бедный дворянин по имени Максим Иванович Картин. Мать моя в особливости была дружна с его женой, которая была родная сестра выше упомянутому г. Бакееву, и называли ее Федосьею Борисовною. Она и достойна была ее любви, и мать мою сама любила. Что касается до ее мужа, то был он наипростейший старичок и сущая курочка. Он служил в гвардии солдатом и отставлен капралом и помнил еще самую старинную службу. Мать моя любила его за простосердечие и тихий нрав и была тем довольна, что они к ней часто приезжали и у ней по несколько дней от скуки гащивали.
В сих-то трех семействах состояли тогда почти все наши гости. Старинные, странные и простые их одеяния и уборы, в каких они к нам приехали, показались мне сначала весьма странны и удивительны; я, привыкнувши быть посреди светских людей, не мог довольно надивиться долгополым их кафтанам, ужасной величины обшлагам и всему прочему. Они показались мне сущими почти шутами; однако, как увидел после, что они были не без разума, а что одна бедность тому причиною, что они так были одеты, а паче всего, что они все были по мне и я во многих вещах был всех их знающее и умнее, и сверх того, как они все ко мне ласкались и осыпали меня похвалами, то и я всех их полюбил и всегда был очень рад, когда они к нам приезжали.
Тогдашний праздник празднован был точно так, как праздновали праздники в деревнях наши старики и предки. За обедами и за ужинами гуляли чарочки, рюмки и стаканы, а нередко гуляли они по рукам и в прочее время; старички наши вставали оттого из-за стола подгулявши, и они праздновали у нас дня с три или более. Мать моя любила гостей угащивать, и все гости во все сие время были веселы и довольны. По утрам у нас обыкновенно бывали праздничные завтраки, там обеды и за ними потчивание; там закуски и заедки; после того чай, а там ужины. Спали все на земле повал кою, а поутру проснувшись, принимались опять за еду и прочее тому подобное.







