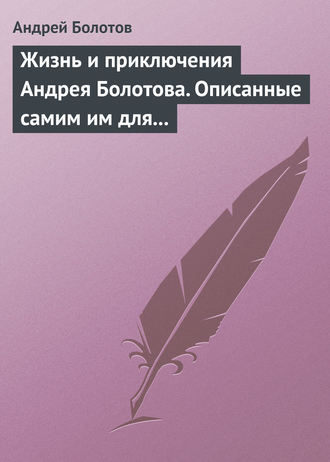
Андрей Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
Лагерь при Риге
Письмо 33-е
Любезный приятель! В теперешнем письме опишу я вам таким же образом наше летнее или лагерное житье, как в предследующем письме описал вам наше зимнее стояние на квартирах. Не успела весна вскрыться, как прислано было в полк наш повеление, чтоб ему иттить в Лифляндию и стоять сие лето лагерем по близости главного лифляндского города Риги. По причине приближающейся, и в Европе уже начавшейся войны велено было к сему пограничному городу нашему собраться не одному, а многим полкам и почти всей армии, и слухи уже носились тогда, что нам идтить на помощь к цесареве и воевать против короля прусского, но достоверно того мы еще не знали. Итак, хотя расстояние от Ревеля до Риги было и немалое, и путь нам предложил неблизкий, но мы радовались по крайней мере тому, что нам не стоять при Рогервике и не иметь опять дела с каторжными.
С квартир своих выступили мы, по обыкновению, в половине мая месяца, и все роты собрались и соединились уже на пути вместе, и тут тотчас учинен был всем им тот смотр, о котором упоминал я в предследующем письме и который мне толико был лестен. Поелику для сего смотра и свидетельствования всех рот стояли мы тут дня три, то имел я в сие время случай еще спознакомиться со многими новыми офицерами, прибывшими к полку в минувшую зиму, в особливости же свел я отменную дружбу с одним поручиком, по имени Михаилом Емельяновичем господином Непейцынымъ. Сей человек получил ко мне с первого свидания отменную склонность, и как он был весьма хороших свойств, то полюбил и я его, и могу сказать, что мы во все продолжение службы нашей были между собою друзьями.
Поход наш простирался чрез город Пернов, который мне давно хотелось видеть, однако я не нашел в нем ничего в особливости примечания достойного. Городок он небольшой немецкий, лежащий на брегу Балтийского моря, и довольно изрядный, но несравненно меньше и хуже Ревеля. Впрочем, во время продолжения сего похода не было с нами ничего особливого. Мы шли без дальнего поспешения, и как тогда было наиприятнейшее вешнее время, то иттить нам было довольно весело. Таковые переходы из одного места в другое в мирное время в самом деле ее только не трудны, но и увеселительны, а особливо для офицеров. Переходы делаются всякий день небольшие, два дня идут, а третий берется на отдохновение; места под лагери занимаются хорошие и обыкновенно на лугах, снабденных всеми выгодами; только дежурные и немногие офицеры, прочие же все совершенно свободны и могут ехать где хотят и на чем кому угодно, то есть, верхом ли или в своих колясках и кибитках. Но в сих последних езжали мы только по ночам, да и то ленясь вставать рано и в то время, когда отправляются обозы, но досыпая в оных до света. Впрочем же у всякого офицера была верховая лошадь, и на них ехали мы по произволению, где хотели, и обыкновенно компаниями по поскольку человек вместе. Тут разговоры, смехи, шутки и издевки составляли наше дорожное упражнение и сокращали нам короткие наши путешествия. Как скоро попадется нам какая корчма на дороге, которыми, как известно, во всей Эстляндии и Финляндии все дороги, так сказать, унизаны, то заезжаем для отдохновения в оную, находим тут другую компанию офицеров, пьющих либо чай, либо завтракающих, либо играющих в карты и курящих табак. Мы сообщаемся с оными и либо также предпринимаем что-нибудь делать, либо посмеявшись и побыв с ними вместе, продолжаем далее свое путешествие, ищем в корчмах иной компании, приобщаемся к оной и, согласясь, едем вместе и забавляемся совокупно. Между тем повозки наши продолжают путь с обозами и, приехав гораздо прежде нас, разбивают нам палатки, варят есть, и мы, приехав, находим уже обеды готовые, едим и после обеда отдыхаем, а там посещаем друг друга в палатках и занимаемся разными упражнениями, покуда, наконец, ночь не рассеет нас опять по нашим повозкам и палатками. В самое и такое время, когда случалось быть дежурным и вести полк, ехать при оном было не скучно, солдаты обыкновенно идут почти играючи, и воздух гремит от распеваемых ими в разных местах громких песен. Словом, в походе таковом не можно никогда почти ощущать скуки, а таким точно образом шли и мы тогда, и весь сей поход окончили и препроводили с удовольствием. Одно только обстоятельство причинило нам некоторую досаду, и было то во время отдохновения нашего при Пернове. Обе наши гренадерские роты были как-то неукомплектованы рекрутами, и надлежало их укомплектовать из наших мушкатерских рот, и выбрать к тому наилучших и виднейших людей из всей роты. Сей-то выбор производим был в помянутое время и произвел всем нам великое неудовольствие. Нельзя довольно изобразить, как досадно ротному командиру, когда отнимают у него лучших людей из роты. Мне отнимание сие в особливости и наиболее потому было досадно, что я столько трудов прилагал к обучению оных. Признаюсь, что мне оных так было жаль, что всячески упрашивал адъютанта и других, от кого тогда сей выбор зависел, чтоб не брали у меня тех, которые в особливости были мне надобны, и давал обещание им сам за то служить, власно так, как бы солдаты были мои подданные. И могу сказать, что по сим просьбам моим рота наша отделалась счастливее прочих.
Наконец, чрез несколько недель, пришли мы в назначенное нам для лагеря место. Оное лежало верст за двадцати от Риги и неподалеку от реки Двины при мызе Пребстингоф. Поелику тогда все полки стояли неподалеку друг от друга и город Рига наполнен был генералами, то всякий полк старался перещеголять других как экзерцицией, так порядком и украшениями своего лагеря. Мы должны были последовать им в том и, расположивши лагерь свой наипорядочнейшим образом, во всей форме старались также украсить оный по возможность. Наилучшее украшение состояло тогда в пирамидах и в убирании, так называемых, ротных улиц. Всякий ротный командир старался перещеголять в том других и украшал улицу роты своей коликое можно, усыпая ее разными песками и выкладывая дерном разные фигуры и украшения. Легко можно заключить, что я был в сем случае не из последних. Я хотя и не был еще ротным командиром, но как князь, по известным своим порокам и беспечности, во всем на меня положился и ротою не столько он, сколько я правил, то, пользуясь искусством своим в рисованье, употребил я все, что мог, к лучшему украшению нашей ротной улицы, и могу сказать, что была она всех лучше и составляла сущий цветник, расположенный со вкусом и украшенный так, что всякому в глаза метался и побудил многих перенимать у меня. Но как все сии украшения не могли нас защищать от суровости ветров и стужи, и в палатках целое лето жить было несколько жутко и скучновато, то второе наше попечение было, чтоб как-нибудь обострожиться. Всякий офицер, который сколько-нибудь был в достатке, старался сгородить себе какую-нибудь избушку, а солдаты начали копать и делать себе землянки. Итак, не успело несколько недель пройтить, как позади полку явилась вдруг уже изрядная деревенька. Я имел у себя также изрядную светличку, которую солдаты нашей роты в одну неделю для меня построили, ибо надобно знать, что хотя бы я мог стоять опять вместе с князем, или, того лучше, с моим зятем, но как мне не хотелось служить никому в отягощение, а хотелось всего паче иметь совершенную свободу упражняться в том, в чем мне хочется, чтоб не мог я иметь никакого в том помешательства, то и решился стоять один и вести собственное свое хозяйство. Светличка у меня была такая хорошенькая: два было в ней окошечка с бумажными рамами, а кровать, небольшой складной столик, скамеечка и складное стульцо составляли мои мебели. Я мог в ней себе сидеть и читать и писать спокойно.
Сим образом стояли мы тут все лето и все его препроводили в беспрерывных учениях и экзерцициях; ибо как вся армия готовилась к походу, то все генералы старались о приведении ее в лучшее состояние, и потому стали делать у нас то и дело смотры, и мы должны были иметь частые строи и всегда к ним готовиться. Для меня все было сие наилучшее увеселение, ибо был столь страстен к экзерцициям, что ружье у меня почти из рук не выходило, и на левом плече от ударов ружьем было всегда синее пятно. Но сие и приобрело мне ту честь, что я почитался тогда в полку наилучшим знатоком и экзерцицмейстером, а притом и исправнейшим офицером. Почему, при случающихся полковых учениях и при делании маневров или эволюций, и поручалось мне всегда важнейшее место и нужнейшая комиссия. Все тогдашние резервы бывали тогда обыкновенно под моею командою. Сам полковник был мною очень доволен и советовался всегда со мною как что, и какую например эволюцию сходственно с диспозициею делать. А как между тем и планы были к нам новым майором привезены, то принужден я был оные им толковать и рассказывать как что надобно. Один только помянутой новый майор шел несколько против меня и не хотел учиться у подкомандующего офицера. Но скоро при одном случае принужден был и сей со стыдом в незнании своем признаться, и победа сия была для меня тогда очень важная, а именно:
Случилось однажды быть полковому учению, и господа наши штабы положили в тот день делать батальон-каре новым манером. Не успели они начать, как я, увидев что они не то делают, что надобно, подошел к помянутому майору и говорил: что совсем не так надобно. Но сей высокомысленный человек не только не хотел меня слушать, но дал на меня еще окрик и велел идтить в свое место, и делать то, что велят, а он уже и без меня знает, что делать. Досадно мне тогда сие было и я раскаивался, что сие сделал. Однако скоро имел удовольствие видеть высокоумие его низложенным; ибо он со всем своим мнимым уменьем так полк спутал, что вместо желаемого батальон-каре вылился настоящий хаос, и вышло ни то, ни ce и такая путаница, что полчаса требовалось к тому, чтоб полк опять в порядок поставить. Все офицеры, слышавшие мое представление, смеялись тогда нашему майору. Он сам стыдился своим незнанием и неуменьем и признавался, что не так сделал, и как он был человек не гораздо мудреный, то и высокоумие его не далеко простиралось. Одним словом, он до того дошел, что приехал ко мне, извинялся что меня не послушал и просил, чтоб я взял на себя комиссию, полк расчесть и сказать каждому взводу, куда которому иттить и что делать. Я склонился охотно на сие предложение, и по моему указанию полк помянутой батальон-каре так хорошо сделал, как бы давно оный умел. Сам майор любовался тогда тем, и с того времени были мы с ним хорошими друзьям.
Итак, при помощи моей, довели господа штабы полк наш до нарочитого и такого совершенства, что при всех делаемых генералами смотрах приобретал он себе немалую похвалу и благодарность.
Сим образом препровождал я свое время, отчасти занимаясь учением солдат, а отчасти своими книгами, о которых никак я не позабывал, но большую часть праздного своего времени упражнялся либо в чтении оных, либо в переводе чего-нибудь. Один роман, купленной мною в Ревеле, называемый «Пикархус» и похожий несколько на «Жилблаза», прельстил меня так, что я начал его испытывать переводить, и упражнялся в том в праздные часы. Однако за всем тем не оставлял я посещать и сотоварищей моих, офицеров, а особливо наиболее меня любящих и таких, которые не в одном гулянья и делании пуншей упражнялись, но были порядочного и хорошего поведения, а нередко имел удовольствие видеть их и у себя, приходящих ко мне для препровождения времени. Словом, мы жили и препроводили все лето довольно весело.
Пред окончанием лета случилось было со мною одно нечаянное и досадное приключение, от которого я чудным и удивительным образом избавился, а именно: для приумножения армии набирали тогда вновь четыре гренадерских полка, под именем первого, второго, третьего и четвертого, и для укомплектования оных выбирали из всех прочих пехотных полков самых лучших людей и офицеров. Нашему полку досталось комплектовать второй гренадерский полк, почему мы хотя и не хотели, но принуждены были расстаться с самыми лучшими людьми. Из самой нашей роты взято было человек шесть самых проворнейших. Но сие хотя мне и досадно было, но не таково, как последующее обстоятельстве, что с ними надлежало в тот же полк отправить и четырех человек самых лучших офицеров. Капитан назначен был к тому г. Хомяков; но не успели его назначить, как требовал он у полковника, чтоб в числе прочих трех отправить и меня с ним.
Сердце у меня замерло, как я о том услышал. Полки сии были хотя славные и для многих лестные, но мне и слышать о том не хотелось, чтоб с своим полком расстаться, и я чувствовал в себе некое непреоборимое нехотение иттить в гренадерский полк, как меня оным ни прельщали и ни уговаривали. Самое сие было причиною, что я бросился тотчас к полковнику, стоявшему тогда в помянутой мызе Пребстингоф, и просил его всем образами, чтоб меня не отправлять. По счастию, полковнику самому не хотелось со мною расстаться; итак, хотя присланным для сего выбора и дано было великое полномочие и дозволено выбирать и требовать кого хотят, однако кое-как и всеми неправдами меня в полку удержали. Я обрадовался тому чрезвычайно и не мог с покоем дождаться, покуда они уехали.
Но радость моя недолго продлилась. Не успел г. Хомяков в новый полк прибыть, как граф Чернышев, бывший уже тогда генерал-майором и имевший о формировании сих полков попечение, спрашивал его, нет ли еще в нашем полку хороших и исправных офицеров. Г. Хомяков ни с другого слова сказал ему обо мне и расхвалил так, что граф тотчас послал к нам в полк ордер и велел меня прислать и выключить из полку немедленно. Мы о сем не прежде узнали, как по получении ордера. И ведомость сия была мне наипротивнейшая в свете, я проклинал тогда всю мою охоту к экзерциции и охоту к военному искусству и раскаивался уже в том, что так много успел в оном. Полковник сам тужил обо мне чрезвычайным образом, но говорил, что теперь уже он не в силах меня удержать, и послал ко мне самому с адъютантом тот ордер. Итак, казалось, что судьба моя была неизбежная и что мне никому уже помочь было не можно.
Но где не можно было человекам, там возможно было божескому обо мне Промыслу и святому его Провидению. Никто иной, как он избавил меня от сей напасти, нечаянность случившегося со мною тогда приключения довольно сие доказывало. Я и самый тот день, как приттить сему ордеру, поутру занемог, власно как нарочно, прежесточайшею лихорадкою, и адъютант с оным пришел ко мне в самое то время, как она наисвирепейшим образом меня трепала. Сперва подумали все, что я нарочно больной сказался, однако скоро от лекаря узнали о непритворности моей болезни. Признаюсь, что я в сей раз весьма рад был сей лихорадке и ласкался надеждою, что она меня избавит от гренадерского полка, что воспоследовало и в самом деле. Полковник представил графу Чернышеву, что я болен, и хотя от сего вторичным ордером приказано было всем полком меня осмотреть; но как нашлось, что я действительно болен, то и оставлен я был с покоем и не стали меня более требовать.
Не успела сия буря миновать, как вскоре потом я, при помощи лекаря, от болезни своей и освободился, так что я не более двух недель был болен, и, власно как нарочно для того, чтоб чрез то избежать от гренадерского полка. Я удивлялся тогда сам нечаянному сему случаю; но после имел великую причину заключать, что в происшествии сем имел великое соучастие и божеский Промысл, восхотевший чрез то не только избавили, меня от великой опасности, но которую тогда предвидеть я был далеко не в состоянии, но сверх того, удержав меня в сем полку, преподать после случай быть в Кёнигеберге, где пребывание мое было мне толико полезно и выгодно; ибо надобно знать, что в бывшую потом прусскую войну помянутому второму гренадерскому полку досталось на баталии стоять в таком опасном месте, что все почти офицеры были в нем побиты, и дошло даже до того, что всем полком командовал поручик. Итак, если б переведен я был тогда в сей полк, то не только б весьма легко мог бы и я в числе убитых быть, но и не попал бы никак и в Кенигсберг после.
Из прочих приключений, случившихся со мною во время стояние в сем месте лагерем, памятны мне только три, из которых одно меня настращало, другое удивило, а третие огорчило и досадило. Для любопытства расскажу я все оные.
Первое и настращавшее приключение было следующее. Пред наступлением осени прислан был в наш полк один артиллерийский офицер для освидетельствования наших пушек и всех, как патронных, так и гранатных ящиков. Свидетельству сему надлежало производиму быть чрез стрелянии из пушек, кидание из мортирец маленьких бомб и разных ручных гранат, дабы видеть, в хорошем ли состоянии в них трубки. Мне, как великому охотнику до стрельбы, восхотелось быть при сем свидетельстве; но сколь раскаивался я в своем любопытстве, когда помянутый офицер, в то время, как дошло дело до пробования ручных чугунных гранат, стал предлагать мне, яко лучшему из всего полку офицеру, чтоб я взял из рук его гранату и, зажегиши, кинул. Я оцепенел при сем предложении, и нечаянность сия так меня поразила, что я не знал, что делать. Отказаться от сего было дурно и постыдно, а принять на себя сию комиссию казалось весьма опасно и бедственно, ибо неизвестно было, хороша ли была в гранате трубка и не испортилась ли от долговременного лежания. Я боялся, чтоб не разорвало ее, проклятую, у меня в руках и меня не убило; и потому немного и усомнился взять оную у него из рук; но как он стал меня далее убеждать, уверяя, что при том никакой опасности нет, то за стыд принужден был у него ее принять и, скрепя уже сердце, зажечь и бросить. Не могу изобразить, с каким ужасом размахивал и с каким напряжением всех сил бросал я сию окаянную гранату, стараясь отшвырнуть ее колико можно далее, дабы она по разорвании и там не могла черепами своими достать до того места, где мы стояли. Но сколь стыдился я потом сам в себе, когда увидел, что все дело сие кончилось шуткою и смехом, и что весь мой страх был по пустому; ибо офицер употребил против нас обман и заставил меня бросать гранату пустую и с одною только трубкою, без пороха, который, жалея гранаты, он наперед высыпал. По счастию никто страха и боязни моей не приметил, но все почли меня еще довольно отважным.
Другое и удивившее меня приключение составляет хотя сущую и такую безделицу, о которой не стоит почти и упоминать, но для меня безделица сия была так поразительна, что я ее во всю мою жизнь не могу никак позабыть: как и теперь дивлюсь еще и не понимаю, как это могло тогда случиться. Некогда посреди бела дня сидел и один в моей светличке за столиком своим под окном, и не помню на что, на распростертом на столе листе белой бумаги скоблил ножом кусок мела. Уже наскоблено было у меня оного довольно изрядная кучка, как вдруг увидел я, что от сильного напряжения ножом отломился от куска мела моего нарочитой величины кусочек и отвалился на наскобленный мел. В самое тот момент нечто понудило меня отвернуться и посмотреть зачем-то в окно; но как обратил я зрение свое опять на мел и хотел отломившийся кусок отложить прочь, дабы он с наскобленною мелочью не вешался, но глядь – куска моего тут уже не было! – Подумав сперва, что он замешался в мелочи, начал я его искать в оной, но как не нашел, то искал я его вокруг большого куска, и дивился куда он у меня делся; но мое удивление увеличилось еще более, когда не нашел я его нигде, ни на бумаге, ни на столе, ни в рукавах моего тулупа, в котором я сидел, ни под столом, ни на полу и словом нигде во всей моей светличке. «Господи помилуй! думал и говорил я несколько раз: куда это он у меня в один миг подевался, и так сказать, вдруг из глаз пропал. Никуда я не только не вставал, но и рук со стола не поднимал, и смахнуть мне его было некуда и некогда». Но сколько я ни твердил «Господи помилуй! и что за диковинка»! но кусок этот сгиб да пропал, и я сколько все места ни перешаривал, но не мог его никак отыскать. Чудно мне сие весьма было и я начал уже сомневаться в том, подлинно ли он был и отломился: но отлом и негладкость того места на большом куске, где он отломился, ясно доказывали мне, что я в том не обманулся и что кусочку сему величиною с ружейный кремень быть надобно было, каковым я его и видел. Но все мое удивление было тщетно, ибо сколько я сему странному случаю ни дивился и сколько я и все люди мой оного для единой курьезности ни искали, но не могли никак найтить и принуждены были так сие дело оставить, почему самому и сделалось оно мне так памятно, что я его никогда позабыть не мог, как и поныне не знаю куда он тогда делся.
Третье и огорчившее меня, приключение, было уже гораздо поважнее обоих предследующих и состояло в том, что новому моему слуге, присланному ко мне из деревни, наскучилось жить при мне, может быть для того, что я с ним не дрался. Он вздумал от меня удалиться, пропив наперед с себя платье и весь скарб. Потеряние сего человека было мне более досадно, нежели горестно, ибо если б он имел хотя малейшую причину к побегу, то и говорить бы нечего было, но он не видал от меня ни единого щелчка во всю его при мне бытность, да и жил более в табуне. Совсем тем, не мог я с того времени получить об нем никакого известия и не знаю, в Польшу ли он ушел, или в какое иное место.
Пред приближением осени произошли у нас в полку некоторые перемены: несколько человек офицеров отправлены были в Польшу для заготовления провианта, а другие пошли в отставку. Между сими последними находился и поручик мой, вышеупомянутый князь Мышецкий. Он во все сие лето не правил почти ротою и не нес службы, отчасти за слабым своим здоровьем, а наиболее по известному за ним пороку, в который он погрузился опять слишком много. Итак, расстались мы тут с сим моим прежним товарищем, и я получил себе нового командира, поручика Коржавина, по имени Ивана Федоровича.
Наконец наступила глубокая осень и месяц октябрь, и нам в лагере стоять долее было не можно. Но как к военному походу в Пруссию на будущее лето деланы были уже тайные приготовления, то не распустили наши полки вдаль по зимним квартирам, но расположили все полки поблизости Риги, по так называемым кантонир-квартирам, или временным, стесненным, в которые мы вскоре и выступали.
Сим окончу я, любезный приятель, теперешнее письмо, а в последующем продолжу повествование мое далее, а между тем, остаюсь и прочее.







