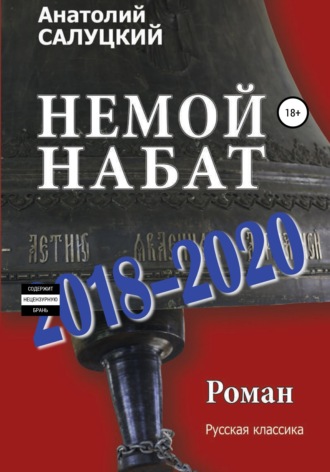
Анатолий Салуцкий
Немой набат. 2018-2020
– Люблю, когда всё по плану идёт. Молодец, привёз гостя ровно в срок.
– Повезло.
– Что значит – повезло?
– Виктора Власыча в Москве не было, случайно встретились.
Вы же меня вчера в Поворотиху послали.
– Что за Поворотиха?
– Ну, деревня, где пойдёт газопровод, из-за которого сыр-бор.
– А-а-а…
– Там я его вдруг и изловил. Случайно! Бог удачу послал.
– А ты чего в этой деревне делал? – повернулся Синягин к Донцову.
– Родню жены навещал. Там их корень.
– Надо же, какое совпадение, Иван Максимыч! – не унимался Вова. – Я добрые совпадения уважаю, они словно предвестие.
Донцов, что с ним редко случалось, никак не мог освоиться в незнакомой обстановке. Всё здесь было новым, даже телохранитель Вова другой, тоже новый. Встреча совсем не напоминала деловую беседу заказчика с исполнителем, к которой он готовился, она, чувствовал Виктор, скорее походила на смотрины.
Но зачем? Он не схватывал синягинского замысла.
А тот, как бы подводя итог первому раунду, сказал:
– Значит, так. Все технические параметры контракта обмозгуют спецы. От тебя требуется одно: глядя мне в глаза, сказать, что ты в срок и в наилучшем виде всё исполнишь. Подписи подписями, но дело наше прежде всего стоит на слове русского предпринимателя. Знаешь, как нижегородские купцы до революции – той, семнадцатого года, – выручку в банк сдавали? Тот банк, ну, то здание по сей день живёт, кассиры в окошках, машинки счётные, «проверяйте деньги, не отходя от кассы». А сто лет назад там стояли массивные чёрного цвета высокие бюро с двумя полками, нижняя у колена, верхняя у груди. Купец приходил, кидал на низ пачку ассигнаций, объявлял сумму и уходил. А уж пересчёт купюр на верхней полке без него вёл приказчик. И не было случая, чтоб кто-то кого-то обмишурил. Всё на слове держалось!
Подумал о чём-то, быстрее стал крутить карандаш в пальцах.
– Понимаешь, Донцов, на оснащение цеха деньги идут большие. И я хочу их в России оставить. Чего за бугром акул кормить? Пусть наши осетры вес набирают. Но смотри не подведи!
– Ни в жисть, Иван Максимыч! – подхватил тон разговора Виктор. – У меня прежние контракты на исходе, поставки завершаю. А новых заказов нет. Чего уж там, вас мне Господь Бог послал. Из кожи вылезу.
– Не Господь, а вот этот педант, – указал карандашом на Владимира Васильевича. – Новые порядки установил: охранники периметра теперь не на морозе мёрзнут, а у мониторов слепнут. – Не я, теперь везде так.
– Это к слову… Но имей в виду, Владимир Васильич, ты за него, – перевёл карандаш на Донцова, – теперь отвечаешь!
Вова равнодушно пожал плечами, сказал:
– Такие мужики не подводят. – Вдруг оживился. – Тут иной вопрос, Иван Максимыч. Деревню жалко. Я там всё облазил, всё высмотрел. Живой улей, рабочий! Как его трутням отдавать?
Синягин, видимо, ничего не понял, вопросительно перевёл глаза на Донцова. А Виктора накрыла волна горячей благодарности к телохранителю Вове, который, оказывается, в Поворотихе всё-всё сообразил и теперь первым произнёс заветное. Было ясно: настал момент, когда он, Донцов, не вправе отмалчиваться.
У него мигом созрел убедительный спич, и он начал:
– Да, Иван Максимович, очень жалко деревню…
– Что-о-о? Как-кую деревню? – вдруг взревел Синягин, с силой сломав карандаш и выскочив из-за стола. Широко, по-боцмански расставил ноги, встал перед Донцовым, бычьим взглядом упёрся в него, с нажимом повторил: – Как-кая деревня? Да ты представляешь масштабы этого проекта? Новая технология – это переворот в гражданском секторе. Спроста ли я через жуткую дрязгу прошёл? Насмерть чиновьё белодомовское стояло, чтобы сорвать проект. Законники! Конкурсы замутили. Да ради бога! Но я-то знаю, что это хлам с блошиного рынка, что, кроме меня, нет охотников за эту громаду браться, и они это знают. Аукцион дважды переносили, время затягивали. Подставу на такое крупное дело сейчас выставлять опасно, так они принуждали заявиться тех, кто не хотел, мне об этом кое-кто шепнул.
Синягин распалился, жестикулируя в такт словам, разрубая руками воздух, быстро шагал по кабинету.
– Я понял: если к Нему не прорвусь, угробят дело, очень хотят угробить. Больше скажу: уловил я у них целевую установку. Решающий фактор – время. Нам надо первыми на рынок выскочить, вот она, самая соль. Опоздал – считай, пиво после водки, деньги на ветер. Волынщики на то и рассчитывали. Я и смекнул: без Него вопрос не решить, на год затянут согласования, задушат бюрократической удавкой. А как к Нему попасть? Там же забор выше колокольни, а я – не Хазанов, не комедиант, чтобы с муляжной короной меня к президенту на чай приглашали. Мне Бакланов Олег Дмитриевич, советской министр ракетостроения, чудо-человек, – он и сейчас консультирует, – рассказал, как пытался по сверхтяжам на приём к Нему записаться. Куда там! Говорят: пишите докладную записку. А такие записки – макулатура, Ему не положат, по инстанциям пустят с нулевым результатом в виде отписки. Ну и со мной такой же номер хотели провернуть, в колпак с бубенчиками нарядить. Его плотно держат, со стороны никого не подпускают.
Вдруг расслабился, широко улыбнулся, остановился напротив Донцова.
– Но меня голыми руками не возьмёшь, мы ведь с ним из одной системы, – похлопал ладонью по своему плечу, намекая на погоны. – Вместе не служили, я ушёл, когда начались гонки на лафетах, – Брежнев, Андропов, Черненко. Три раза в оцеплении стоял, смотрел, думал. Ну и подал рапорт. Но ушёл красиво, мирно, потому корешей немало осталось. Теперь они в чинах выросли, в Совете безопасности сидят. Короче, напрямую, минуя ближнее окружение, этих либералов со слезой, через калиточку заднюю меня к нему провели – вопрос-то не шкурный. У деликатного ведомства такие калиточки для особых случаев, они есть. Я и объяснил про аукцион… Вот через кого, Донцов, я этот госзаказ выбивал.
Успокоился, снова сел за письменный стол, взял в пальцы другой карандаш.
– А ты говоришь: деревню жалко… Если по-крупному, судьба Отечества решается. Как там у поэта? Мы знаем, что ныне лежит на весах. Не в том смысле, что новая гражданская продукция экономику перевернёт, а в смысле – кто кого? Транзит власти на носу. Если тормозилы окончательно возьмут верх, пиши пропало! Но на своём участке фронта я намерен бой выиграть. А в бою – не без потерь, это известно.
Монологи Синягина всё дальше уводили от деловых тем, принимали доверительный характер. Чувствовалось, ему самому охота выговориться, раскрыть душу, и делает он это без стеснений, даже с удовольствием. Донцов не переставал удивляться – такая откровенность при первом же знакомстве! Но вспомнил замечание Вовы о приватных встречах, и мелькнула неясная догадка: видимо, он меня капитально отсканировал, справки тщательно навёл, как-никак бывший кэгэбэшник – и сноровка на этот счёт есть и связи. А вообще-то натура размашистая, цели ставит высокие, не личные. В личном-то плане у него порядок – смотри, какие хоромы! Да и за госзаказ взялся не для прибыли – сколько заморочек, препятствий! – а ради идеи. В мозгу выстрелило: «Надо разговор в этом ключе поддержать».
– Иван Максимович, я понял, указание Он, как говорится, самолично дал?
Синягин снова улыбнулся, утвердительно кивнул. «Хочет вопросов, для него этот разговор интересен, – чутко угадал Донцов. – Для меня тем паче».
– Извините, спрошу в лоб. Какое у вас сложилось мнение?
Синягин словно этого вопроса и ждал, даже головой одобрительно качнул. Но отвечать не спешил. Быстрее завертел в пальцах карандаш, глянул в правое окно на очистившееся ото льда водохранилище.
– Беседа короткая была. Понимаешь, Донцов… В девяностые я уже не служил, но знакомые ребята из СВР кое-что сказывали. В КГБ как было? Регулярно писали шифровки о самом главном на самый верх. Ну, их называли шифровками, хотя они не шифровались, а просто шли под особым грифом. В спецслужбах этот порядок наверняка сохраняется и сейчас. А у каждой шифровки есть отрывной талон, где указано, кому предназначена информация. В девяностых, скажем, Ельцину, Черномырдину, ещё одному-двум. И прочитавший шифровку должен расписаться на отрывном талоне, который возвращают в Службу, чтобы фиксировать, кто ознакомлен с данной информацией. Нормальный способ контроля, во всём мире спецслужбы его используют, пусть в разных вариантах. Так вот, в девяностых ребята – глаза на лбу от удивления! – говорили, что немало случаев, когда талоны возвращались без подписи президента. То ли Ельцин не всё читал, то ли ему не всё в спецпапку клали – поди разберись. Но факт остаётся фактом. Это я к тому, что вдруг сегодня и Ему не всё показывают? – Сделал задумчивую паузу. – Твёрдо могу только одно сказать: Он хочет! Но по части адекватного восприятия картины мира – российского мира! – абсолютной уверенности у меня не возникло. Как писал Ключевский, каковы министры у государя, таковы и дела его. А уж министров я насмотрелся, наслушался. Не зайчики в трамвайчике, хорошо знают, что надо делать. Ну, это разговор особый, а если про Него… Известно тебе наверняка, что при советчине был железный занавес от влияния Запада. Он давно в переплавке, не нужен он, чушь собачья. Но уж кто-кто, а Путин, с его чекистским прошлым, должен понимать, что после ликвидации железного занавеса необходимо носить бронежилет.
Посмотрел в глаза Донцову.
– Ну, ты меня понял. Главное я сказал. Слишком много кругом тех, у кого ширинка сзади… Я родом из Богородицка, ты, наверное, и не знаешь, – это старинное название нынешнего подмосковного Ногинска. Там издавна сплотилась большая община староверов, мои предки оттуда, хотя потом переселились. Для меня благо России – ценность наивысшая… Почему я в тебя вцепился, откровенничаю? Вижу, в этом смысле мы с тобой одной крови. Не с каждым по душам поговорить тянет, далеко не с каждым. У меня ведь с Ним не получилось тёплым словечком обмолвиться. Проблему-то решил, указание зафиксировали, а чуть шире попробовал – стена. Он и сам бронежилетом пренебрегает, похоже, даже брезгует, от коварства присных не защищён. Потому у нас смысл советской истории сведён к культу личности Сталина, а экономики – к галошам для африканцев, чтобы в Сахаре ходили по раскалённым пескам. Дважды про эти галоши ляпнул, оскорбив отцов и дедов. Или чрезмерное увлечение спортом – публичное! Мао Цзэдун раз в год переплывал Янцзы, этого было достаточно, чтобы явить нации здоровье лидера. Но регулярно тратить драгоценное президентское время на ночной хоккей?.. Восторги по этому поводу давно угасли, вряд ли недоумение только у меня. Я Ему всё же успел сказануть мимоходом, что у нас царь-пушка не стреляет, а царь-колокол не звонит, имея в виду, конечно, не кремлёвские реликвии, а нечто одушевлённое. Он одну ногу занёс в будущее, а другая завязла в прозападном болоте. Как бы не остался в истории в такой позе… Страна-то от своих потребностей отстаёт.
Умолк, продолжая о чём-то думать. Потом, сменив эмоциональный регистр, воскликнул:
– А по рюмочке, по бокальчику мы не выпили. Ну, ладно, гулять будем, когда контракт подпишем. Тебя, Донцов, – мне Владимир Васильич сказал, – часто по отчеству кличут, Власычем. Мне нравится. Давай, и я тебя буду Власычем звать. Без обид?
– Дело привычное.
В кабинете, как показалось Донцову, становилось всё теплее. Не в смысле температуры, а – по обстановке. Помалкивавший Вова, и тот вкинул живое словечко:
– Иван Максимыч, у него супруга на сносях.
– Да ну! Дай бог, чтоб удачно от бремени разрешилась. Первенец?
Донцов кивнул. Этот своеобразный, нестандартный Синягин нравился ему всё больше, тема Поворотихи в его сознании незаметно ушла на задний план, уступив первенство приятствию от общения с человеком родственных воззрений. Многое из того, о чём говорил Иван Максимыч, косвенно перекликалось с размышлениями там, в лесу, в Поворотихе. И сама собой всплыла самая глубинная проблема, тревожившая его.
– Знаете, когда в сорок лет ждёшь первенца, поневоле задумываешься о завтрашнем дне, о его будущем. Но у российского проекта развития пульс не прощупывается. Приятель мой пошутил: нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идём.
Синягин усмехнулся:
– Остроумно и верно… Понимаешь, Власыч, в последнее время мне в голову всё чаще лезут Деникин и Краснов. Не в идеологии дело, я красных и белых в своей душе давно примирил. Меня беспокоит их идея непредрешенчества. Лидеры Белого движения столетней давности не имели никакой цели, кроме борьбы с комиссарами, и отказывались говорить о будущем России, уповая на то, что займутся этим вопросом после победы. Тогда, мол, и определят, что делать, – Учредительное собрание созывать или монархию восстанавливать? Чем закончилось бесцелие, зацикленность на сиюминутных проблемах хорошо известно. Кстати, горбачёвская перестройка, когда генсек шумел, что главное – ввязаться в бой, а там видно будет, – это ведь тоже непредрешенчество. И опять всё худо вышло, девяностые вспомни. Вот и мерещится, что нынешний Кремль снова склоняется к непредрешенчеству, оставляя ответ на главный вопрос – куда идём? – на потом. Поначалу-то Путин эту задачу сформулировал чётко: «Какую страну мы строим?» Но сам на этот вопрос ответить не в силах, не одного ума это дело, тут усилия общие нужны. А окружение подобрал из временщиков. Вот главная тема и ушла из сферы государственных приоритетов на оппозиционные задворки. Внутриполитический блок Администрации в текучке барахтается, выборы конструирует да президента успехами-восторгами убаюкивает. Вместо народа активное меньшинство подсовывает, манипулирует этим меньшинством, как в перестройку. Опасно! История учит, что непредрешенчество ведёт к резкому обострению вопроса «Кто кого?». Были у нас красные и белые, коммунисты и демократы, теперь вот бизнесмены-державники и прозападники. Не к добру это.
Синягин замолчал, продолжая медленно крутить в пальцах карандаш, поглядывая то в одно, то в другое окно, наблюдая то за верхушками сосен, которые слегка раскачивал ветер, то за рукотворным морем, где тот же ветер нагонял рябь. И показалось Донцову, что эти две столь несхожие природные стихии как бы олицетворяют для хозяина кабинета грядущее противоборство разных российских устремлений. А может быть, и не грядущее, уже полыхающее подспудным, негасимым торфяным пожаром.
– Знаешь, Власыч, – задумчиво сказал Синягин, – есть редкая профессия: мастер-форматор; это умельцы, которые изваяние из податливой глины с абсолютной точностью переводят в неподатливый гипс, намертво фиксируя изначальную форму. Но гипс – материал непрочный, промежуточный. Для долговременности, для истории по гипсовой модели надо отлить конечное, металлическое изделие. И здесь профессионалы отдыхают. Такую работу способен выполнить только лидер нации.
Когда Донцов и бывший телохранитель Вова вышли от Синягина, Виктор предложил:
– Пройдёмся вдоль берега. Осмыслить кое-что надо. Я к другому разговору готовился.
– Иван Максимыча я тоже не сразу распознал. Сперва думал, что чудачит барин. А теперь-то знаю, чего он хочет, как несладко ему в бизнесе. Кругом помехи.
– А ты обратил внимание, как он от Поворотихи ушёл? Мелочь, частность. На фоне того, о чём он говорил, в разрезе опасного вопроса «Кто кого?» Поворотиха и впрямь «булавочная головка», её и не видно, не до неё. Но там же люди, живые, конкретные люди.
Спасибо, что сказал о ней. Да, выходит, впустую.
– А пожалуй, нет, Виктор Власыч. Сдаётся мне, что ваша Поворотиха ещё как-то выстрелит. Вокруг неё большая кутерьма завязывается, чтобы сорвать синягинский проект. Раньше ему наверху мешали, а как президент дал добро, помехи снизу попёрли. Каждый шаг с трудом, будто кто битое стекло в башмаки сыплет. Какой-то мелкий чиновник, ни два ни полтора, стерва канцелярская, а вдруг такое бревно в колёса засадил, что газопровод теперь под вопросом. А без газа новый цех – склад оборудования. Потому Иван Максимыч меня срочно послал в Поворотиху, на месте разобраться, что к чему. Не послал бы, я вас не встретил. Вот оно как в жизни бывает. Нет, что ни говорите, а сверху нашими судьбами денно и нощно управляют.
Глава 11
Жизнь Подлевского незаметно сбавила обороты. Он уже не метался в потогонной спешке по бесчисленным бюрократическим инстанциям, где, пользуясь репутацией исправного поставщика теневых доходов, утрясал деликатные вопросы. Теперь он заранее планировал встречи с нужными людьми, назначая визиты на взаимоудобное время, ибо потребность в его услугах заметно сократилась.
Вспоминая свои прошлогодние страхи, он удивлялся, даже поражался тому, как разительно изменилась бизнес-административная среда, но ничуть не волновался за свой фриланс, ибо понимал, что происходит.
Да, текстура деловой жизни круто переменилась. Посредники, к которым обращались за содействием в улаживании различных административных процедур, перестали быть непременными участниками щекотливых сделок. То, о чём раньше приходилось договариваться с опаской, через нанятых толкачей, теперь решают напрямую, без тонких дипломатий и ширлихов-манирлихов. Советская командно-административная система, проклятая в перестройку и вышвырнутая на свалку истории в девяностые, на четвёртом президентском сроке Путина возродилась в виде олигархически-административной, породив кланово-групповую власть.
Усиленная борьба с коррупцией из выборочной компанейщины переродилась в негласный способ сведения счётов между ведомствами-конкурентами или клановыми группами. Громкие разборки с известными фамилиями и миллиардными суммами не только не нарушали коммерческую бизнес-чиновную спайку и практику повсюдных поборов, но, наоборот, создавали зону безопасности для тех, кто не участвовал в масштабных переделах собственности и драках между структурами власти. Таких было огромное большинство, и именно в их среде вращался Подлевский. Эта ушлая публика мигом улавливала перемены своего делового бытования и быстро отлаживала новые нелегальные методы обогащения, каждый раз получая свободу рук. Для чиновного люда, для профессионалов офисной политики настали давно чаемые времена знаменитого застольного тоста: чтобы у нас всё было и чтобы нам за это ничего не было!
Теперь к Подлевскому обращались лишь в наиболее сложных случаях, зато и гонорары платили повышенные. В итоге, как он прикинул, выходило баш на баш, по деловой части оснований для тревоги и уныния не просматривалось, впечатляющий набор претензий к жизни не убывал, а виш-лист – список желаемых подарков судьбы, – даже пополнялся. Но главное, он по-прежнему – в стае! К тому же «Единая Россия» уже восемь лет отклоняет законопроект «О незаконном обогащении», а недавно Медведев и вовсе поставил точку в этом вопросе, заявив о презумпции невиновности чиновников, о неправедных попытках их дискриминации. Эта официальная линия обнадёживала, побуждая в шутку вспоминать давно читанные выдержки из Шопенгауэра: изменить не могу, остаётся извлекать из этого пользу. Подлевский и извлекал.
Однако быстрые перемены всё чаще заставляли задумываться о завтрашнем дне.
Находясь внутри финансово-биржевой среды, Подлевский не мог не замечать её новых особенностей: при общем падении предпринимательской активности и двукратном росте российских продаж «Роллс-Ройсов» эта среда как бы шла вразнос. Жгучее желание заработать у многих хлопотунов переросло в горячее стремление на грани, а то и за гранью допустимого хапнуть побольше – пусть в последний раз. О перспективах прочного долговременного дохода никто не думал. Жили текущей минутой, без завтра. Возобладал страстный и стадный порыв: рвануть куш, а там хоть трава не расти. Эта жадная жажда немедленной добычи отражала неуверенность в завтрашнем дне, когда при бешеном разносе может сорвать тормоза и всё полетит в тартарары неизвестности. Всё чаще Подлевский слышал рассказы о хитромудрых лауреатах эпохи: кто-то из биржевых игроков, удачно обставившись акциями, на пике цен сбрасывал их и с семьёй уматывал на ПМЖ за рубеж. В часы расслабухи, откровенного флуда – общений не по делу – на задний план отошли даже однополые дрязги и постельные подвиги, о которых любили сплетничать в этом кругу. В топ вышли восклицания: «К-к-козёл! Видать, заранее подготовил подстилочку». Не скрывая зависти, так говорили те, кто часто квакал об эмиграции.
Явно наметился новый исход рыночников, обогатившихся за счёт России, – нувориши с кликухой «первориши». На этот раз речь шла о тысячах утомлённых богатством долларовых миллионеров, не в «колбасных» целях, а ради сохранения своих капиталов умыкнувших за рубеж, покинув страну, переполненную проблемами, – от коррупции до миграции. Илья Стефанович рассказывал, что в его жуковском квартале из 82 владельцев живут на Рублёвке только четверо, остальные куда-то умыкнули, оставив свои виллы на попечение управляющих.
Аркадий чутко фиксировал эти перемены. И, довольный текущим днём, не переставал гадать о своём будущем. Просто рвануть на Запад он не мог – чем ему там заняться, фрилансеру, чья профессия делать деньги из несовершенства российских законов и чиновной корысти? Он раз за разом возвращался к идее, мимоходом посеянной в его сознании Бобом Винтропом, – стать для американских бизнесменов своего рода Вергилием, ведущим их по кругам ада запутанной излишней регламентацией российской экономики.
Но Винтроп появлялся в его поле зрения нечасто, общался через смартфон и не затрагивал тему, интересующую Аркадия. Их связь ослабла, грозя вообще сойти на нет. Подлевский интуитивно чувствовал, что у матёрого импозантного американца появились в Москве особо важные дела, что его новый круг общения уже не включает в себя Аркадия со сплетнями мелкого пошиба. А что до нового исхода российских миллионеров на Запад, Бобу сие известно распрекрасно – об этом кричит открытая статистика, эту тему прокачивают медиа, Интернет. «Чем я могу быть ему полезен?» – мучился Аркадий роковым вопросом, не находя ответа. Оставалось подстраиваться под волю неба, поскольку в Бога он не верил.
Невозможность вновь сблизиться с Винтропом отзывалась в душе Подлевского лютой ненавистью к отъявленному патриот патриотычу Донцову, которого Аркадий считал главным виновником неудачной квартирной аферы, который увёл у него Богодухову. Гнусь бытия, опт его мать! Да чёрт бы с ней, с Богодуховой, но – квартира, квартира! Какой был отличный вариант! Квартира должна была принадлежать ему, Подлевскому. Кстати, спасибо Суховею, вытащившему из уголовной западни.
Но Суховей тоже перестал уделять ему внимание, быстро заматерев в Москве. По правде сказать, Аркадий палец о палец не ударил, чтобы в спасибо за помощь нахвалить этого чиновника Винтропу, – такой возможности не представилось. Зато самому Суховею в красках расписал свои благодарственные дифирамбы о нём, якобы адресованные Бобу. Но так или иначе Суховей тоже исчез с его горизонтов. Впрочем, Аркадий понимал, что между ними не угадывается деловых связей, а без них им просто не о чем говорить. Какое в наше время дружеское общение!
Дай бог, взаимовыгода! Но гораздо чаще – «игра с нулевой суммой», как принято называть ситуации, в которых выигрыш одного становится поражением, ущербом для другого.
Эти нерадостные мысли омрачали умиротворение от стабильного заработка и более спокойного ритма жизни. Откровенно говоря, Аркадий маялся в ожидании каких-то событий, великих дел, которые нарушат его непривычно безмятежное, однако бесперспективное существование.
И судьба, как всегда, была благосклонна.
Неожиданно раздался звонок от Суховея. И какой!
– Аркадий Михалыч, – после дежурных приветствий сказал он, – я бы очень хотел в субботу или воскресенье, когда вам сподручнее, совершить совместное однодневное путешествие по удалённым окрестностям столицы. Как вы относитесь к таким планам?
– О чём разговор, Валентин Николаевич! Я сейчас же предупрежу шофёра, что в воскресенье он будет работать. Вас этот день устроит? – В заточенном на авантюрные приключения мозгу Подлевского сразу мелькнула мысль о том, что неожиданная, нестандартная для их отношений поездка с Суховеем обернётся долгожданным сюрпризом.
– Нет-нет, Аркадий Михалыч, шофёр не нужен. Поедем на моей «Весте». Хочется побыть с вами вдвоём. Где вас захватить?
– Валентин Николаевич, лучше всего у метро «Красные Ворота» на Садовом, напротив Лермонтова. В какое время, зависит от вас.
– В какое время… – задумчиво повторил Суховей. – Я прикидываю километраж… Давайте встретимся в десять утра. Не слишком рано?
– В самый раз.
– Тогда, уважаемый Аркадий Михалыч, в воскресенье, в десять. Думаю, наше путешествие будет интересным.
Распрощавшись, Подлевский целиком отдался во власть эмоций и мечтаний. Предложение Суховея было столь привлекательным, что за ним Аркадию мерещилось какое-то крупное дельце, возможно, окружного масштаба, что влекло за собой новый уровень заработков и связей. Какого рода может быть дельце, он, верный своим зарокам и заповедям, даже не гадал, как обычно, полагаясь на фарт. Но в оставшиеся до встречи дни, – а звонок был в четверг, – его не покидало чуть ли не праздничное настроение. Даже остограммился по случаю. Что ж, мечтать не возбранно.
– Думаю, мы не будем затевать гонки по «Формуле-1», – пошутил Суховей, когда из Москвы они выбрались на южную трассу. – Напутственный молебен не отслужили, спешить некуда, перекусим где-нибудь в придорожном ресторанчике. Хотя… Мне дорога знакома, что-то не припомню здесь приличной едальни. Вот пончики есть вкусные около чучела вертолёта.
– Что за чучело?
– А как его назвать? Стоит на земле старый вертолёт. Обшивка цела, внутри, похоже, труха, если не мусор.
Погода была пасмурная, серая, но тучи бездожжие. Воскресным утром южное направление пустынно. Спокойная дорога располагала к беседе, но Подлевский из соображений солидности не спрашивал, куда и зачем везёт его Суховей, терпеливо ожидая разъяснений.
А водитель и не заикался о цели путешествия. Он углубился в воспоминания, вернее, в рассказы о рассказах, которые слышал от известных людей, стоявших у истоков новой России.
– Политические метаморфозы меня мало интересуют, – по-свойски говорил Суховей. – А вот историю экономических трансформаций обожаю. Хотите, расскажу прелюбопытнейшую байку о первых опытах наших рыночников?
– О Гайдаре или Черномырдине?
– Не-ет, дорогой Аркадий Михалыч, берите глубже. О Рыжкове Николае Ивановиче, перестроечном председателе Совмина. Он и сейчас в Совете Федерации заседает, живы и люди, помнящие его первые рыночные шаги.
Суховей, конечно, слукавил. Об этом наставительном случае им рассказывали на лекции в Минской разведшколе. Но напомнить о том эпизоде Валентин решил неспроста.
– О Рыжкове? – воскликнул Подлевский. – Очень интересно! По экономической части о тех временах и впрямь мало известно.
– А-а, значит, я вас слегка зацепил, – улыбнулся Суховей. – Тогда слушайте и, как говорится, на ус наматывайте. Суть вот в чём. Летом 1990 года кто-то подсунул Рыжкову двух «аптечных братьев» из Швейцарии по фамилии Каплан. Евреи, давно уехавшие в Европу, они неплохо знали русский язык и в годы перестройки открыли первую в Москве иностранную аптеку. А «по совместительству» принесли Рыжкову грандиозный план, спасительный для падающей перестроечной экономики. Вообще говоря, Рыжков сторонился контактов с коммерсантами, это известно. Но в тот раз почему-то вцепился в этих «аптечных братьев» – аккуратненьких, вежливых, с изысканными манерами, в костюмчиках от Бриони. Говорят с акцентом, манерно, вприкусочку. Короли, адонисы гламура – в те годы это производило впечатление.
Суховей всё более увлекался, говорил с забавными ухмылками, с юморком:
– Дело-то оказалось в чём? Братья берут в Госбанке СССР кредит на десять миллиардов рублей и закупают наши залежалые товары со складов для продажи за рубежом. Одновременно им дают долларовый кредит в Европе, на него они приобретают и поставляют в СССР западные товары по свободным ценам.
И на выручку гасят рублёвый кредит Госбанка, а продав в Европе наш неликвид, отдают долларовый кредит. Никто никому ничего не должен. Множество трудностей советской жизни просто исчезает. Как говорится, мена без придачи, ухо на ухо. Урря!
В приступе преобразовательной лихорадки новомышленческих горбачёвских лет Рыжков и клюнул на эту гениальную идею, сулившую одним махом покончить с товарным дефицитом, который стал разменной монетой в перестроечных политических играх. Дело-то вроде попутное, всеблагое.
Но, к счастью, в правительстве нашлись люди, которые учуяли аферу, затеянную «аптечными братьями». Возник вопрос: а какие такие «неликвиды» они собираются вывозить из страны? Просят карт-бланш, и потом сам чёрт не разберёт: потащат со складов металл, ценную проволоку, да вообще что угодно, хоть чёрную икру. А главное, в их схеме был ма-аленький незаметный пунктик, упомянутый как бы между прочим: для ускорения вывоза за рубеж наших складских залежей и получения долларового кредита, о котором якобы уже есть договорённость, Госбанк должен выдать братьям гарантийное обязательство на сумму кредита.
Суховей громко рассмеялся:
– Вот в чём фокус! Для них главным было получить и – обратите внимание на мои слова, Аркадий Михалыч! – вывезти за границу гарантийное обязательство Госбанка. Без него ни один западный банк не стал бы с ними даже разговаривать о долларовом кредите. А есть гарантия – ради бога! Эти провизоры вообще могут оказаться мошенниками, смыться хоть в Антарктиду. Но швейцарскому банку – начхать, он предъявит счёт Госбанку СССР, и дело с концом. Не вдаюсь в тонкости той аферы, мне про лукавомудрие тех братьев подробно растолковали. Но и сказанного – с лихвой, чтобы понять, как нас пытались дурить да чепушить.
– С ума сойти! А Рыжков, Рыжков-то как?
– Говорят, долго упрямился, настаивал, «европейничал». Видать, кто-то из ретивых перестройщиков очень уж ему нашептал о тех благодеях. Как не сооблазниться премьер-министру? Эти «аптечные братья» ловко вопрос преподносили: вывезем от вас продукцию, цена которой ниже мировой, а ввезём ту, чья цена выше мировой. Бюджет получит большую прибыль! У-ух! А на деле-то планировали колоссальный обман. Даже если братья Каплан не растворились бы среди глобальных просторов, эти шулеры всё равно ограбили бы наших лопоухих рыночников.
– Я так понимаю, – смекнул Подлевский, – могли вывезти, например, чёрную икру, а ввезти кофточки секонд-хэнд, они же у нас в то время стоили намного дороже, чем на Западе.
– Вкорень смотрите, дорогой АркадийМихалыч. Но помните, я говорил: обратите внимание на мои слова? А почему? Потому что заходы на такие фальшаки были не только через Рыжкова. Мне сказали, что однажды гарантийное письмо Госбанка на о-очень крупную сумму оперативники КГБ изъяли уже на борту самолёта, который вылетал в Женеву. Детектив на грани окаянства.


