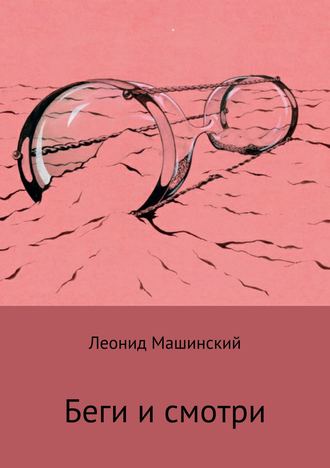
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
– Ну убедился, что там уже нет? – спросила она по его возвращении.
Нечего не говоря, он плюхнулся на кровать.
– Буду спать, – сказал он.
– Прямо днём?
– Дождь располагает.
– Я, может быть, ещё отлучусь.
– Валяй.
Он закрыл глаза. Она тем временем аппетитно закусывала. У него перед глазами огромными ярко-красными клубками вились бесчисленные жирные змеи. Видение было не то чтобы невыносимо неприятным, но уж слишком осязаемым. С одной стороны – казалось, что змеи того гляди заползут в голову, а с другой – не охота было поднимать веки. Так он и уснул, со змеями.
Оставшиеся дни непрерывно лил дождь. Почва набухла и стала противно подаваться под ногой. Дочка давно повадилась ходить босиком. А потом отмывать ноги, специально собираемой в вёдра, дождевой водой. Ему было лень сходить даже к ручью и он попробовал пить ту же дождевую воду – оказалась вполне пригодной. Самое неприятным было то, что в мокрой траве народились пиявки. Пока их было немного, но, похоже, поголовье росло. Дочка же, паче чаяния, не обращала на эту гадость никакого внимания. Пиявки эти, впрочем, были не слишком приставучи, вероятно ориентируясь по большей части совсем не на человека. Очень скоро, может быть уже завтра, за ними должна была приехать машина.
– Вот и кончается рай, – с облегчением приговаривал уставший отдыхать благородный отец и с осторожностью распихивал кроссовкой расположившихся на крыльце жаб. На одной – всё-таки поскользнулся, упал и обжёг голень.
Ему уже давно всё это перестало нравиться. В голову лезли мысли насчёт того, что цивилизованный человек вообще склонен лицемерить, когда заявляет о сваей любви к природе. Природа может быть столь же отвратительной, сколь и красивой. В любом раю, если покопать, можно отыскать москитов и пиявок. А уж о его любимых змеях – стоит ли говорить? Да и случайно ли он их вдруг разлюбил?
Машина могла приехать с минуту на минуту. Они точно не обговаривали время, но тридцать дней вышло. Конечно, аборигены могут подвести – с них станется. Но тот именно парень, с которым он договаривался, интуитивно вызывал у него доверие. Но ведь и дороги могут подвести – не мудрено, если всё раскисло.
Учёный сидел на крыльце, не обращая внимания на дождь, стекающий бахромой с полей его шляпы. От этого дождя в пору было сойти с ума, но он надеялся раньше выбраться отсюда. Дочь опять гуляла где-то со своими друзьями. Теперь ему, на самом деле, было уже почти всё равно, кто они. Лишь бы только всё это поскорее кончилось.
И вот, как будто из глубины сна, засигналила долгожданная машина. Водитель почему-то не подъехал к самому дому, а остановился на почтительном расстоянии, точно давая понять, что никоим образом не собирается вмешиваться в дела уважаемых господ. Белое крыло автомобиля выглядывало из-за угла домика так же чужеродно, как какая-нибудь деталь инопланетного корабля. Травы вокруг блестели ядовитой, упитанной зеленью.
Отец посмотрел в другую сторону, туда, откуда обычно возвращалась его дочь, но никого не было. Он кряхтя поднялся с насиженного места и пошёл объясниться с аборигеном – а то ведь так посигналит, посигналит, да и уедет, чего доброго. Абориген был вполне удовлетворён обвалившимися на его голову щедрыми чаевыми и выразил готовность ждать, если не до второго пришествия, но хоть до скончания дождей.
Стараясь не волноваться из-за отсутствия дочери, отец пошёл собирать вещи. Абориген пожелал остаться в машине, причём так и не перегнал её поближе к дому. Его поведение казалось несколько странным, но не более.
Занимаясь приведением вещей в походный порядок, учёный, неожиданно для самого себя, стал сожалеть о напрасно потраченном месяце. Коллекции его почти не пополнились, хотя для этого здесь были прекрасные условия. «Может, остаться?» – вдруг вспыхнула у него уже совершенно безумная мысль.
Машина почему-то опять сигналила. Он раздражённо выглянул в окно, но тут же перевёл взгляд на окно в противоположной стене. С той стороны в этот момент появилось заплаканное солнце. Этого не случалось уже наверно несколько дней. То, что он увидел, ошеломило его.
Недалеко, ближе чем в прошлый раз, по грудь выглядывая из травы, стаяли загадочные дочкины мальчики. Он сумел их хорошо разглядеть за недолгие мгновения чистого солнца.
Отец вспомнил, как дочка объясняла ему, что они, в основном, научились говорить уже не от людей, то есть от родителей, которые оставили их на произвол судьбы, а от звуковоспроизводящих приборов, которые ещё какое-то время работали в их домике, куда они иногда возвращались. Потом этот домик сдуло ураганом. Вся подобная информация только ещё более затуманивала эти совершенно фантастические детские образы. Этого просто не могло быть.
Ну, может быть, их родители – какие-нибудь хиппи, наркоманы, дураки, которых на Земле немало. Ну да, они кинули здесь детей, может даже специально их сюда завезли, чтобы издеваться над ними… Извращенцы какие-нибудь? Или тут с ума сошли? Иначе из-за чего бы им бояться взрослых? Да и помнят ли они этих своих родителей? Кто их выкормил?
Все эти вопросы опять закрутились тошнотворным хороводом у него в голове. Но он видел их. Совершенно отчётливо. Мышцы и сухожилия. На вид никак не больше двенадцати, а скорее лет по десять. Никаких ублюдочных вздутых животов, на этом месте – квадратики великолепного детского брюшного пресса. На бёдрах… впрочем – это скрыто в траве. Дочь говорила – они иногда надевают какие-то травяные повязки. Глаза… да, глаза голубые. И… Ну да, они близнецы. Никак иначе. Дочь тоже говорила об этом. И в свои кулачишках сжимают луки, они настороже. Кого и от чего собираются защищать? Вдруг ему пришло в голову, что они пришли сюда, чтобы уничтожить его водителя-аборигена. А что' – ведь он взрослый…
Водитель сигналил. Но дети не разбегались. Они стояли на месте, напряжённо озираясь; правая каждого держала стрелу на тетиве. Какого нападения они ждали, на кого охотились?
Всё это выглядело до того неправдоподобно и – одновременно – так грациозно, что нельзя было отделаться от впечатления, что видишь перед собой оживший древнегреческий миф. Неизвестно только, росли ли где-нибудь в Древнем Средиземноморье такие буйные травы. Всё-таки климат там не в пример посуше.
Солнце погасло, – от этого у него потемнело в глазах. Он в который раз подумал, что всё ему только чудится. Перед зрачками плавали чёрно-блестящие мушки, как бывает при повышенном давлении. Он навёл фокус, дети стояли примерно на том же месте, в тех же живописных, словно специально принятых для художника, позах. Что-то в их осанке напоминало ему породистых охотничьих собак, каких он и видел-то наверное только на старинных гравюрах.
Подумав немного, учёный вышел на крыльцо. В конце концов, они давно бы могли убить его, если бы хотели.
– Эй! – крикнул он мальцам. – Где моя дочь?
Они уставились на него, как вкопанные лани, ничего не отвечая. Маленькие, но не игрушечные, луки были натянуты и крошечные, но, возможно, отравленные, стрелки нацелены ему в грудь.
У него закружилась голова – может быть, от близости глупой смерти, может быть, от вдруг нахлынувших густой волной влажно-пряного аромата трав. Особенно рьяно цвели сейчас какие-то оранжево-махровые цветы, те самые, из которых дочка особенно любила плести венки.
Водитель без перерыва продолжал давить на сигнал. Или может – у него там заело?..
– Если вы хотите меня убить, сделайте милость, – чёткими словами высказал свою позицию отец. – Но прежде я всё-таки хотел бы увидеть мою дочь.
– Много шума из ничего, – прощебетала дочка, выпорхнув откуда-то чуть ли не у него из-под мышки.
– О Господи! – вздрогнул он. – Что всё это значит?
– Они пришли попрощаться.
– Зачем тогда в меня целиться?
– А ты не веди себя так агрессивно.
– Всё в порядке, ребята, – отец поднял руки, улыбаясь идиотской улыбкой.
– Значит они в курсе, что за нами приехали?
Дочь уже что-то делала в доме.
– Я тут оставлю им кое-какие сувениры, хорошо? – попросила она.
– Ну разумеется, – хмыкнул он, не став уточнять, какие именно. – Всё, что угодно. Я, пожалуй, пойду в машину. Только попроси их, чтобы они не стреляли мне в спину.
– Окей! – крикнула дочка.
Под настороженными взглядами маленьких дикарей он обошёл дом. Дождь змеистыми струями стекал по их непроницаемым смуглым лицам и по тощим ключицам.
– Красивые ребята, – резюмировал он, скрываясь за углом.
"Чем же они всё-таки питаются? "– задал он себе в сотый раз, преследовавший его уже столько дней, вроде бы прозаический вопрос. За шорохом дождя и стеблей он не смог бы вовремя уловить их шаги, если бы они решили приблизиться к нему сзади. Однако он нашёл в себе силы ни разу не оглянуться и не перейти на бег; и, уже приближаясь к машине, ответил сам себе самым непринуждённым образом: "Наверное, одними бабочками."
– Да прекрати ты гудеть! – обрушился он на аборигена, но спохватился, поняв, что выражается не на том языке. Сигнал всё-таки прервался.
Учёный хотел спросить водителя, видел ли тот что-нибудь необычное и как к этому относится. Но, во-первых, отсюда сейчас ничего – кроме домика, травы и дождя – не было видно, во-вторых, он затрудняется правильно сформулировать на чужом языке необходимые вопросы. Лицо же индейца-аборигена выражало не намного больше, чем каменные личики загадочных малышей. С него тоже можно было тут же лепить скульптуру.
Вдруг трава за фургоном немыслимым образом всколыхнулась – словно там была не широкая луговина, а настоящее море и по морю прошла волна. Отец вскрикнул, а абориген, желая снова начать сигналить, замер с рукой на кнопке. Не распугивал ли он духов?
Путаясь и поскальзываясь в мокрой траве, учёный побежал назад. Новая волна прошла совсем близко, чуть ли не у него под ногами. Опять включилось солнце, и он увидел.
Змеи лежали на спинах, две огромные, неправдоподобно огромные, иссиня-белые змеи. И возле них – словно маленькие изваяния, смуглые и неправдоподобно изящные дети. К ужасу своему, он заметил рядом с мальчиками и дочку. Она целовала их и вручала им какие-то узелки. Одна из змей взмахнула хвостом, и ему стало окончательно ясна причина периодических возмущений, происходящих в траве. На первый взгляд, каждое из этих демонических созданий было длиной не менее тридцати метров и не менее метра толщиною. Он не видел их голов, скрытых в траве, но видел животы, покрытые поперечными щитками, сверкавшими на вновь выглянувшем солнце, как воронёная сталь. Ещё он увидел какие-то выпуклости, возможно, рудиментарные конечности, которые вообще-то свойственны удавам. Однако, это почему-то заставило его вспомнить драконов, которым при всей их змеевидности, всё-таки обыкновенно во всех традициях пририсовывались хотя бы небольшие ножки.
Мальчики синхронно склонились в траве, точно исполняли какой-то неведомый рыцарский ритуал. Длиннющие мокрые, но всё-таки скорее светлые, чем брюнетистые, лохмы занавесками упали им на глаза. Что они делали? Они припадали губами к тем самым выростам, которые он посчитал ногами. Это были сосцы. Странная тошнота поднялась у него над серединой грудины. Солнце потухло и загорелось вновь, а змея пошевелилась, принимая более удобную для кормления позу. Наверное, это была самка. Второй змей, вероятно самец, аккуратно перевернулся на живот, и спина его вся заиграла ромбовидными, как у Арлекина, сине-зелёными пятнами. Из травы показалась и снова упала вниз его более чем лошадиная голова. У серпентолога земля уходила из ног. Всё было настолько невероятно и безумно. Слишком.
Индеец в машине за домом опять вовсю сигналил, только этот звук теперь доходил до учёного как сквозь вату. Может быть потому, что змеи басовито шипели, вернее урчали, как домашние кошки.
Мальчики приподнялись из травы, они жестами приглашали к себе свою подругу. Она подошла к ним, склонилась и… Она тоже сосала это молоко. Из застывших от напряжения распахнутых глаз отца выступили липкие, не желающие скатываться вниз по щекам, слёзы. Он чуть не потерял сознание. Творилось что-то ужасное и прекрасное одновременно. Мир переворачивался.
Девочка вдруг возникла рядом с отцом и взяла его за руку.
– Пойдём, – сказала она. – Мы уже попрощались. Мы ведь сюда вернёмся, правда?
Отец следовал за ней как сомнамбула. На крыльце оглянулась она, и он оглянулся. Змеи, теперь уже обе на животах, неслышно плыли по траве, отсюда в сторону скал. Мальчишки гарцевали верхом – каждый на своей. Дочка помахала им вдогонку рукой, и отец тоже помахал. Они же выстрелили из луков в небо и скрылись из виду. Дождь продолжал падать, то чаще, то реже.
Абориген заткнулся.
– Подъезжай ближе! – крикнул ему отец. – Будем подцеплять фургончик.
Тот уже завёлся, как будто только и ждал приглашения.
Когда индеец подрулил к самому крыльцу, учёный заглянул к нему в окошко, не выпуская из ладони напряжённую ручку дочери.
– Ты что-нибудь видел? – спросил он, тщательно выговаривая слова.
– Нет! Нет! – замотал головой водитель.
– Ну и молодец.
– Молодец, господин, молодец, – с готовностью подтвердил тот.
Отец и дочка переглянулись.
– Не волнуйся, папа, он ничего не видел, – сказала дочь.
В это время далеко, по самому горизонту, прошла невысокая травяная волна и громыхнул сердито давно не подававший голоса гром.
Детский опыт (О смерти)
"Неужели я настоящий,
И действительно смерть придёт?.."
О.Э.Мандельштам
Давай порассуждаем о смерти. Это я к тебе, читатель, обращаюсь – давай. Я уже достаточно пьян, чтобы говорить с тобой запанибрата. Так вот, то что я тебе имею честь сообщить, очень может быть, тебе уже и известно. Так что, не стоит читать. Хотя… Как в одном рассказе у Грина – наверное, зря я хочу у тебя вызвать заранее к этому чтиву отвращение. Может быть, это вовсе тебя не заинтригует, а наоборот.
Так вот, о смерти я уже говорил (или не говорил?), что мы к ней относимся, как слепые. Общее место – что мы боимся того, что не знаем. Т.е. со внешней стороной смерти, если конечно, не слишком старательно отворачивали вспять свои взоры, мы знакомы. Там – агония, трупы, морги, рак, инфаркт. Почти все хоронили своих близких или домашних животных, меньшему количеству читающих довелось истребовать приближение смерти на себе. Тут уж точно найдутся такие, которые превзойдут меня по глубине знания вопроса. Очень может быть, что как раз наиболее глубоко знающие вопрос предпочитают помолчать об этом.
Но уж очень хочется, просто "не могу не писать", как говаривал граф Толстой! А в таком случае он, один из самых строгих судей, даже он, допускал и разрешал. Правда, он не одобрил бы, что я пишу пьяный. Пьяных он не любил. Но я склонен апеллировать к его христианскому (и, однако, преданному анафеме, всепрощению).
Я сижу на кухне, у одной достаточно известной актрисы. Как я сюда попал – долго объяснять. Мы провели несколько часов в беседе с одним очень интересным человеком (актриса болеет гриппом и спала). Он истомился и пошёл спать. А я попросился ещё часок посидеть на кухне и пописа'ть. Ибо неохота мне по разным причинам (не исключено, что главная из них – скаредность) ехать домой на такси.
Всё равно необходимо что-то писать в своём романе. Так отчего бы не здесь и не сейчас?
В детстве я очень боялся смерти. Не помню с каких лет я узнал о том, что люди умирают. Вернее – это не корректная и избитая формулировка. Ребёнок то и дело наблюдает смерть – хотя бы мухи, хотя бы травы под снегом, хотя бы растаявшей снежинки. Не надо думать, что он настолько наивен и глуп, чтобы не понимать, что происходит. Понимание такого рода возникает в очень раннем возрасте. Предполагаю, что задолго до того, как мы научаемся ходить и говорить. Возможно также, что оно дано нам от самого рождения.
Я не помню, как беседовал с ангелами, но свой ужас перед смертью я помню. О смерти трактовала мне мать. Не помню точно, как и по какому поводу я её об этом спросил. Но, вероятно, она хотела меня утешить. В силу того, что она сама, будучи атеисткой, не имела никакого устоявшегося мнения по этому вопросу, разумеется, она меня ещё только больше растревожила и, таким образом, вызвала пробуждение того, что – тут я не склонен настаивать – у большинства людей именуется разумом.
Изначально же человек конечно судит не по себе. Он ещё не слишком освоился со своим я – смотрит из открытого (неведомо кем) окна и видит, что нечто происходит. Вдруг он узнаёт, что некоторые из этих движущихся, так называемых – живых, объектов обладают свойством останавливаться насовсем и переходить в разряд мусора. Пока это какая-нибудь муха или таракан – это не особенно впечатляет. Родители даже поощряют уничтожение таких надоедливых кровососущих тварей, как комар или клоп. Но очень скоро у младенца неизбежно развивается способность к интерполяции. Чем мы лучше клопов? – задаётся он неожиданным, но весьма обоснованным вопросом.
Мама меня пыталась утешить, кажется, уже гораздо позже, используя свои, далеко не безукоризненные знания по биологии. Она говорила, что когда-нибудь где-нибудь (тут по всей видимости, она не грешила против законов вероятности, поскольку все мы, хотим мы того или нет, стоим перед Вечностью и Бесконечностью). Так вот, она утешала меня на предмет того, что неминуемо – пусть через миллион или миллиард лет – должен родиться точно такой же индивид, как я. Т. е. с точно таким же набором генов. Тогда – это меня почти утешило, хотя и какой-то червячок в душе остался всё же. Мама, сообщая мне своё видение вопроса не выглядела слишком спокойной и уверенной. А в общении между матерью и ребёнком именно чувства – это и ежу известно – играют первую скрипку.
Я подозревал, что она что-то не договаривает. Но мало ли чего не договаривают взрослые детям? С этими условностями в том возрасте я тоже был уже давно знаком, и мне не оставалось ничего, как только смириться. И не потому, что я не был любимым, а потому, что, как и все дети, я ощущал себя маленьким и беспомощным, но имел твёрдую надежду вырасти – что ж, тогда мы всё и узнаем и, если потребуется, посчитаемся с родителями.
Но родителей было жалко. Теперь ведь я знал – они умрут. И скорее всего – раньше меня. Люди старятся и умирают – это я знал. Я представил себе мёртвую маму, потом бабушку – смерть которой, очевидно, была ещё ближе – и пролил слёзы. Оставалось только примерить эту тесную рубашку на себя.
Я припоминаю свои истерики, которые, кажется, случались со мной лет в шесть-семь, точно мне не было больше восьми. Обычно это происходило перед сном, когда уже темно. Ребёнок начинает бояться темноты и отхода ко сну именно тогда, когда осознаёт, что существует смерть. Смерть выглядит – в первую очередь – как остановка. У мёртвого закрыты глаза, мёртвого зарывают в землю – значит, темнота. Поэтому ребёнок боится уснуть, боится остановиться. Засыпание для него – маленькая агония, сон – маленькая смерть. Но тем труднее поверить в смерть окончательную и настоящую. Во сне ведь что-то снится, или, если даже не помнишь, что что-нибудь снилось, всегда, даже во сне, сохраняется ощущение, что выспишься и проснёшься. Боясь смерти, в сон конечно трудно входить – как в холодную воду – но когда там уже присидишься и приплаваешься – как неохота вылезать! Ведь недаром многие говорят, что сон смахивает не только на смерть, но и на внутриутробное блаженное состояние.
Ну вот, мне остался ещё часок – успею ли я сообщить для вас что-нибудь действительно новое о смерти. Пока какие-то всё банальности…
Может быть, самое интересное – постараться воспроизвести те (теперь почти неповторимые) ощущения, связанные со смертью, которые мне довелось испытывать в детстве. Узнав и убедившись на сознательном уровне, что смерть существует, я естественно постарался самого себя представить мёртвым. Конечно, было жутко. Но таково уж свойство человеческой натуры, что чем страшнее – тем притягательней. В ранней молодости почти все мы не умеем бороться со страстями и оттого ловимся на всяческие соблазны. Я же был совсем ещё дитя, уже переставшее общаться с ангелами, но наслушавшееся своей матери, которая ведь мне лучшего желала.
Фантазии у меня всегда хватало. Я сумел, вполне реалистично, вообразить себя лежащим в гробу. Причём, я не слишком акцентировал внимание на фоне – т. е. на том, как и кто будет меня провожать. Мама, разумеется, могла оказаться рядом и меня безутешно оплакивать. Но в том контексте, который она мне успела обрисовать, взрослые должны были умирать первыми – это и теперь мне представляется нормальным. Так что, я не утруждался, чтобы представить себе людей, которые будут присутствовать на моих похоронах. Если всё будет нормально, то наверняка это будут какие-то мне сейчас совершенно ещё неведомые люди. Будут у меня какие-то друзья, какая-то семья и т. д. сейчас меня занимало совсем другое – а именно: сам я – что же будет со мной?
Ну вот, я лежу в гробу. Я – мёртвый. Не дышу, не двигаюсь, холодный. Догадываюсь, что начинаю разлагаться – т.е. вонять – вероятно, уже тогда было впечатление от дохлой собаки. Там, в гробу, я – совершенно спокоен. Тоже, вероятно, впечатление, почерпнутое не то от уличных похорон, не то – что всего скорее – из фильмов. Особенно у нас всегда любили в советское время показывать похороны всяческих политических и иже с ними деятелей – тут уж во всех подробностях, не захочешь, а насмотришься. Родители ведь смотрят – даже слеза, не то искренно, не то для всеобщего порядка выступает. Слава Богу, что я ещё никогда не был – так и не сподобился! – в мавзолее В.И. Ленина.
Так вот, лежу я такой холодненький и безучастный – противный, как размёрзшаяся и вот-вот готовая начать протухать курица. С дохлыми курицами я уж к тому времени точно был знаком. Есть фотографии, где я вполне уверенно и профессионально поедаю куриную ножку. Говорят – любил. Не помню. В те времена ещё не умел говорить – оттого и память слабая.
И вот, этакая дохлая курица – неужели это я? Да, но ведь должен же я умереть? Мать говорит – должен. Какие основания у меня не верить? Я сам пришёл к этому открытию, к ней обратился только за подтверждением. Она сказала: да. Каких ещё более высших инстанций надо ребёнку?
Вот тут-то и начинается самый трудный вопрос. Если я дохлая курица, то кто я. Т. е. тот, кто в настоящий момент вообразил и созерцает эту дохлую курицу, которая является мною? Тут налицо какое-то странное раздвоение, с которым я тогда, возможно только по младости своей, ещё не сталкивался.
Я могу прекрасно себе представить, что будет со мной происходить. Вот – я вырасту, буду как-то жить, учиться, работать, заведу семью, состарюсь, заболею… Могу даже во всех подробностях разрисовать себе на своём внутреннем экране, как я стану умирать. Вот я умер, перестал двигаться и дышать, стал мёртвой холодной курицей. Меня положили в гроб, венки и всё такое. Отнесли на кладбище, зарыли в землю… Ну и что? Я-то где?!!
Т. е. я, конечно, мог допустить, что вот я лежу в гробу, в холодной земле, и это крайне неприятно, но я ведь уже вполне удовлетворительно понимаю, что у меня тогда не будут работать ни глаза, ни другие органы чувств, ни даже сам мой – вот этот! – ум. Где же я буду тогда?
Глупый вопрос? А попробуйте себе вот сейчас – только достаточно честно – представить всё это. Уверен большинство откажется от этого моего предложения как от самой глупой и безответственной затеи. К чему? Живи пока живётся! Не помню кто это сказал – о смерти надо думать уже перед самой смертью. А вдруг не успеешь? Из своего опыта могу заметить – что часто не успевают. Другие советуют: Memento mori. Но кто действительно относится к этому всерьёз? Да и некогда.
Мне, конечно, легко. Я праздный и безответственный, напившись водки, сижу на чужой кухне. И завтра мне если и на работу, то совсем вечером, да и то не обязательно – сам напросился. Захочу, не поеду – завидуйте! Правда, и денег я за эту работу не получаю – почитай, сам плачу – так может быть, в перспективе…
Так о чём бишь мы? Об этом трудно говорить, поэтому хочется отвлечься. На что угодно, хотя бы и на обстоятельства написания. Хотя, зная людей, я смею предположить, что у многих читающих этот рассказ только эти обстоятельства и могут вызвать конкретное любопытство. Больше всего их заинтересует – у какой именно актрисы я провёл эту ночь. Второе – с кем это я там беседовал. Что ж, проведите расследование – если вам не лень. Я не нанялся, чтобы облегчать вам жизнь. Но из вредности, замечу – все господа психоаналитики, и тут я к ним присоединяюсь, истолковали бы это именно так – что ваши происки насчёт таких частностей объясняются лишь вашим страхом смерти и страхом перед всеми её атрибутами. Всё, что вы называете смертью, априори вам кажется мрачным. И вам кажется, что это что-то объясняет?
Я курю, чем сокращаю свою беспримерную жизнь, и у меня осталось всего двадцать минут для того, чтобы, может быть, сообщить самое главное. Итак, в силу моей тогдашней незрелости, я, разумеется, никак не мог примириться с мыслью и собственной конечности и по-настоящему вообразить себя мёртвым. А вы можете? Никто не может – вот ведь в чём штука. Тут останавливается самое пылкое наше воображение. Умирает. Или я ошибаюсь?
Но дело не в этом. Дело в том, что происходило потом, т.е. уже после того, как мне вполне зримо удавалось представить себя неживым своим внутренним взором. Я задавался вопросом: ну всё, это произошло, это, как оказывается, допустимо и неизбежно, вот я мёртвый – но кто же я, т. е. тот я, который сейчас, пускай только пока и умозрительно, созерцает своё бездыханное тело. Как вообще такое возможно?
Вот тут меня било словно током. Играет похоронный оркестр. Я его слушаю. Кто его слушает? Тот я, который лежит в гробу, уже не может слушать… Погоди…
Хорошо, и вот этот я, пусть он и есть тот самый настоящий я, который и есть настоящий, потому что все смертны, и я, какой бы ни был, я тоже могу и должен умереть (так мне мама сказала!)
Хорошо, вот я, тот, который сейчас созерцает собственную смерть – почему-то почти безучастно, – тоже умираю. Старею, болею – как положено. Этот я – опять-таки в гробу, его хоронят. И опять-таки – я могу умственным взором наблюдать за этими предполагаемыми похоронами.
Тогда кто этот я, уже третий? Я опять как будто просыпаюсь – хотя уже и похоронил себя два раза. Но и этот я смертен – потому что все смертны – такова природа – как сказала мама – значит и я умру. Этот я.
Погоди, сколько у меня этих я, безусловно смертных, каждое из которых готово наблюдать и успешно наблюдает собственные свои похороны или, вернее – похороны своего я, которое нежданно – вот здесь – оказывается как бы более низким по рангу, как бы более мелкой матрёшкой внутри более объёмной и объемлющей это внутреннее, уже похороненное, я…
У вас не кружится голова? У меня да. Но может, потому что я выпил. А в детстве – Бог ты мой! – как кружилась! Вернее, это было ни с чем – ни до того ни потом из испытанного – не сравнимое чувство проваливания. Проваливания в самого себя.
Матрёшку можно считать и туда и обратно. И вовне и внутрь. Я говорил о внутренних матрёшках, но на самом деле, с каждой своей воображаемой смертью как бы скидывал кожу и не обнаруживал там, внутри, абсолютную пустоту.
Там было ещё одно я – и так до бесконечности. Об этом не так уж легко писать. Надо набраться смелости. Может быть, я об этом бы так никогда и не написал – хотя уже, кажется, целую тысячу лет собираюсь – если бы не выпил и волею судеб не оказался бы в таких странных условиях.
Время меня поджимает. Как и всех живущих. Декларированное мною выше двадцать минут почти истекли. Я рискую прийтись поперёк горла милым хозяевам, которым обещал убраться вовремя.
Приходится спешить. Хотя мне всё ещё кажется, что я так ничего и не сказал. Вернее, сказал чуть-чуть, но, может быть, не достаточно доходчиво. Всегда остаётся опасение, что чего-то не донёс до чужой и неведомой души.
Ведь все люди в каком-то смысле говорят на совершенно разных языках. И как только они ухитряются друг друга хотя бы изредка понимать?
Мои двадцать минут истекли. Всё, курю. Между прочим, чужие сигареты. Рискую, что хозяева – чего бы я очень не хотел – меня проклянут. Вот на какие жертвы я готов для тебя, читатель!
Ну, уж теперь за оставшиеся неполные полчаса точно надо успеть договорить всё самое главное. Почти не верю, что это у меня хоть в какой-то мере получится.
Эти мои детские погружения в самого себя – как я теперь понимаю – были своего рода спонтанными медитациями.
О том, как медитируют и что с медитирующими в это время происходит, я немного слышал от других и довольно много читал. Надо сказать, что эти чужие сообщения не вызывали у меня особого доверия. Даже самые авторитетные. Если кто-то кого-то считает авторитетом, пусть даже самый уважаемый мною человек, – что с того? Это меня не убеждает. А вас?
Так вот, кое в чём я убедился на своём собственном примере. Вы, конечно, в свою очередь, можете с недоверием отнестись к описаниям моих опытов, и будете совершенно правы. Тут я от вас, как уже выше сказано, ничем не отличаюсь. Более того, весьма разумно было бы предположить, что многие люди – если даже не все! – когда-либо, при каких-либо обстоятельствах, испытывали подобные ощущения. Только не все склонны об этом говорить и тем более писать. Это ваш покорный слуга – такой болтун и писака. Со мной, по крайней мере, почти никто такими откровениями не делился. Но может я просто не достаточно пристрастно выспрашивал?
Но хватит бродить вокруг да около. Я пытаюсь возбудить в себе это прошлое состояние и не могу. Разве что временами появляется бледный намек на ужас, который я тогда в полной мере испытывал. Казалось, что, если я вот сейчас, сию минуту, не прекращу это погружение в самого себя – которое, чем дальше, тем становилось более стремительным и менее контролируемым – то я на самом деле умру. Только я не знал, не смел даже попытаться узнать, что это значит – на самом деле. Это погружение во всё сгущающуюся тьму, которая, однако, на каждом этапе всё-таки сохраняла какой-то, пусть даже только гипотетический, свет, которым был я, на самом деле становилось таким нарастающе ужасным, что я не мог остановиться. Я лишался основы в самом себе, пытаясь её честно обнаружить. Под одной основой – была другая, там – ещё одна, и так – до бесконечности. Так – я соприкоснулся с бесконечностью и испугался. Очень испугался.
Не знаю, что на самом деле испытают взрослые медитирующие и испытывают ли они нечто подобное. Отчего-то в моём, уже вполне (почти сорок) зрелом возрасте я не испытываю никакого желания попробовать. Во-первых, если это именно так, как со мной когда-то происходило, то я это уже испытал. И если при продолжении опыта происходит то, что называется смерть при жизни, то я этого не хочу и не потому, что боюсь, а оттого что желаю ещё в живом состоянии кое-что сделать, например, что-нибудь написать. Остались у меня ещё кое-какие желания. Или, может быть, – чем Будда не шутит – у меня миссия такая – донести до со мной живущих своё мелкое сострадание в виде своего же убогого индивидуального видения.







