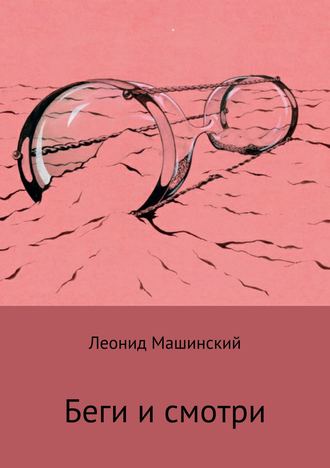
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Гадание похоже на фарисейство. То, что запечатлено и написано, – уже стало буквой. Если остаётся только выполнять предписания – где свобода?
С другой стороны, когда тебе предрекают поражение, а ты всё-таки очевидным образом побеждаешь, – способна ли принести такая победа человеческое удовлетворение? Поскольку ты не мог победить, побеждает кто-то другой, пусть другой ты, и тому тебе, возможно, уже совершенно не нужно то, что так жгуче было необходимо тебе предыдущему. За что же и для кого ты боролся?
Не имея надежды победить и всё-таки побеждая, можешь ли ты быть уверен, что это твоя победа?
Заканчивая эту главу, я ловлю себя на том, что все внешние перипетии любви потрясающе неинтересны. Что может быть поучительного в том, что кто-то с кем-то почему-то отказывается переспать? Уж лучше – разнузданные фантазии маркиза де Сада! Скучно, конечно, тоже, в конце концов. Но это – в конце концов! И кто-то может вполне удовлетворительно использовать книгу как пособие при мастурбации. Раньше ведь не было порнофильмов!
Каждому человеку когда-нибудь хочется убить другого. И это тоже мне ты сказала. О! Как я хотел тебя убить! Всего-то – свернуть эту тонюсенькую, слабенькую шейку. Мне бы понадобилось одно резкое движение. Я даже представлял, как бы хрустнули твои позвонки – не позвонки, а хрящики какие-то! Но, может быть, не сделал я этого только потому, что понимал – облегчение наступит лишь на секунду. Чем не оргазм? Я не хотел тебя изнасиловать – именно убить. Нет человека – нет проблемы, – как любят говорить злодеи в фильмах.
Но каким образом люди справляются с подобными ситуациями в цивилизованном обществе? В так называемом первобытно-общинном или даже рыцарском – я бы за методами в карман не полез. Кто-то использует длинный доллар вместо длинной шпаги и члена… Разве что – попробовать мне добиться формальной славы, а потом утонуть, как Мартину Идену? Поздно! Возраст уже не тот – следует о душе подумать.
И, однако, меня не покидает ощущение, что мы с тобой находимся на одной дороге. Дорога белая и прямая, и почти никого на ней нет. Я только ушёл далеко и теперь оттуда смотрю назад, потому что одному мне там, впереди, скучно и одиноко, – это так естественно. А ты ко мне не торопишься – шаришь зачем-то по обочинам, идёшь по перпендикулярам, получаешь там по физиономии и возвращаешься на «финишную прямую», но до финиша… Ох, как далеко! Вернуться, что ли, опять за тобой?
Оттого грустно, что я могу умереть, ты – подурнеть и состариться. Я могу вовсе забыть тебя. Ты пройдёшь рядом, мимо, – а я не замечу. Может, так и надо?
Пока ещё есть надежда. Маленькая-маленькая – но всё-таки есть. Сказать, что я ею живу, – будет преувеличением; но и отказаться от неё совсем – я не имею сил. Вот поёт птичка за окном, а зачем и для кого – кто знает?
Тром
«А если меж строк
Есть смысла намёк,
Тогда нам удача!..»
И.В. Гёте
Нам было лет по десять. Это как раз был тот год, единственный в моей школьной жизни, когда пришлось учиться во вторую смену.
Не могу вспомнить своего тогдашнего приятеля. Напрашивается несколько кандидатур, но когда я представляю каждого отдельно, мне кажется, что это был не он. Возможно, был кто-то такой, кого я сейчас не могу вспомнить. Хотя у меня такое чувство, что помню я почти всё, чувства могут обманывать. В том-то и дело, что невозможно вспомнить то, что напрочь забыл. Этого забытого как бы уже не существует.
Можно предположить, что это было одна из тех мимолётных детских дружб, которые разгораются так же быстро, как потухают. Может быть, мы случайно встретились на улице; и ещё это может быть связано с местом жительства: кто-то к кому-то приехал в гости, мы погуляли с этим кем-то денёк и больше уже не виделись никогда.
За нашей школой был переулок, а за переулком двор, образованный единственным п-образным домом. Дом раскрывал навстречу школе свои объятия. Однажды, весенним утром, мы играли на школьном дворе – швырялись как бумерангами п-образными металлическими рамками из раскуроченного трансформатора. Каждому из нас очень хотелось, чтобы его метательный снаряд хоть разок вонзился ребром в дерево. Дело в том, что мы нашли эти, уже кем-то брошенные, «боеприпасы» рядом с ясенелистным клёном, в развилку которого была глубоко всажена железная «буква». Мой товарищ с трудом выдернул её оттуда – это какую ж надо силу и меткость иметь, чтобы так пулять по деревьям? Мы уже заочно восхищались этим Робин Гудом. Хотя, скорее всего, это просто был какой-нибудь хулиганистый мальчишка постарше, который при встрече мог бы запросто нас обидеть. Да и железяку в дерево он, очень может быть, вбил специально камнем.
Наши бумеранги не были столь успешливы, и если не летели вовсе мимо цели, всфыркивая в воздухе как воробьишки, то с жалким дребезгом отлетали, плашмя ударившись в непреступный ствол. Наука метания плохо нам давалась, или снаряды были не те. Словом, несколько соскучившись от неудач, вдоволь исцарапавшись и измаравшись ржавчиной, мы решили посетить следующий двор.
Мой приятель уже издалека заметил там нечто интересное. В правом углу кирпичного "п" маячила какая-то невзрачная фигурка, она словно пританцовывала и переминалась с ноги на ногу. В этот час народа на улице почти не было, редко-редко хлопала дверь подъезда, и кто-то из взрослых удалялся из дома поспешным шагом. А это существо никуда не торопилось. Мой зоркий друг разглядел, что оно женского пола и, усмехнувшись, сделал предположение, что эта тётка чокнутая. Обоим нам уже тогда, похоже, было не впервой иметь дело с сумасшедшими людьми.
Я свои железяки все в сердцах выкинул, а у напарника моего ещё потела в руках небольшая стопочка. Он предложил использовать странную тётку в качестве живой мишени, я не одобрил. Он всё же бросил одну или две железки в ту сторону, но только чтобы слегка позлить меня, – отсюда они всё равно бы ни за что не долетели.
Приятель мотнул головой, приглашая меня приблизиться к «объекту». Я был менее решительным и более домашним ребёнком, чем он, и потому часто, пусть и нехотя, вынужден был следовать в русле его затей. Улицу он знал и чувствовал лучше меня – я вынужден был признавать его первенство.
– Только ты не кидай в неё ничего, – сказал я, когда мы приблизились на опасное расстояние.
Улицу я знал плохо, но подраться мог. Поэтому мой товарищ решил на этот раз послушаться меня.
Существо притоптывало на месте от нас метрах в пяти, рядом с ним поблёскивало на изменчивом солнце новая водосточная труба, которую уже, однако, успели местами помять, извлекая наружу сыпучую ледяную крошку. На дворе был конец марта или самое начало апреля, лёд под трубой дотаивал. Рядом с чернеющей лужей прихотливо бродили и возбуждённо мурлыкали настроенные на спаривание голуби.
– Она чего-то бормочет, – сказал приятель.
– Это голуби, – сказал я.
Он прислушался.
– Нет, она.
Любопытство наше разгорелось, мы подошли ближе. Существо на нас никак не реагировало, можно было не опасаться каких-либо выпадов с его стороны. Мы же огляделись по сторонам, как преступники готовившиеся к грабежу. Никого не было, весенний воздух звенел, вдалеке ухали машины. Хлопнул подъезд в отдалённой от нас «ножке» дома, но некто умчался так быстро, что мы заметили только мелькнувшую спину.
Мой друг подошёл к объекту почти вплотную.
– Точно что-то говорит. Губы шевелятся, – сообщил он.
– А что? – поинтересовался я, из опасливости сохраняя дистанцию метра в два.
– Чего-то такое – «тром, тром, тром…»
– Да ну? – я подошёл ближе и нацелил на голову тётки левое ухо.
«Тром, тром, тром…» – послышалось мне, «р» было тихое и слегка картавое. Звуки, издаваемые существом и в самом деле несколько напоминали голубиное воркование.
– Слушай, а она нас видит? – спросил я.
Он помахал рукой перед самым её носом, она никак на отреагировала.
– Не-а, – приятель повернулся ко мне и пожал плечами – мол, что делать будем?
– Как думаешь, зачем она здесь стоит. – спросил я.
– Из сумасшедшего дома сбежала, – сделал приятель дельное предположение.
Существо, действительно, представлялось абсолютно лишённым разума. Может быть, оно воображало себя птицей?
Я задумался. А приятель тем временем уже успел слегка подёргать тётку за нос.
– Ты что делаешь? – испугался я.
– А что?
– Она же всё-таки человек!
Приятель наградил меня изумлённым взглядом – мол, правда, что ли?
Слегка ханжеское негодование, привитое родительским воспитанием, боролось во мне с вполне естественной садистской любознательностью. Вторая, однако, побеждала – такой случай!
– Слушай, давай её посмотрим, – сказал приятель – он просто читал мои мысли.
Тётка была совершенно невыразительная. Невозможно было запомнить черты её лица, одежда тоже была серая и затёртая – какой-то видавший виды плащик, приспущенные грубые чулки, туфли со сбитыми каблуками и задранными носами, на голове шапочка, собранная в резинку, такого же грязно-бежевого цвета как плащ. Из-под шапочки выбивались, свалявшиеся сосульками, бесцветные, возможно, когда-то светло-русые, волосы. Когда я теперь пытаюсь воссоздать в памяти тот образ, я не могу наградить его возрастом более, чем тридцать пять лет. Весьма вероятно, что «тётке» не было и тридцати. Но безумие и скудная жизнь очень состарили её. Вернее, у неё как бы не было своего возраста, он был не важен – так как возраст привязывает человека к каким-то социальным обязанностям. Сначала нужно быть ребёнком, подчиняться родителям, ходить в школу, потом женихаться или невеститься, добиваться взаимности, потеть в постелях, рожать детей, укреплять семьи, зарабатывать деньги; стареть, получать пенсию, заботиться о внуках, болеть, пить лекарства и ложиться в гроб, чтобы тебя оплакали и закопали.
Ничего этого сумасшедшей уже не нужно было. Она растворялась в воздухе, оставались одни глаза – тоже бесцветные, как воздух.
И всё-таки мы не ошибались, она была женского пола. Хотя – и довольно отвратительна на вид, и пахло от неё неприятно, не то, чтобы мочой, но скорее больницей и какими-то залежалыми тряпками. Несмотря на всё это и благодаря её очевидному безумию, мы могли с ней делать почти всё, что захотим.
Друг мой был человеком действия, это я – всю жизнь склонен растекаться мыслями по древу. Он уже начал тётку раздевать – пуговицу за пуговицей, сперва плащ.
Я затаил дыхание, сердце у меня бешено колотилось. Я понимал, что мы делаем что-то недопустимое и крутил загнанно головой, пытаясь заметить какого-нибудь случайного свидетеля. Никого не было. Солнце поблестело и скрылось за тучу, напустив на наше преступление благосклонную тень. Всё звенело, голуби похотливо бормотали и чуть ли не тёрлись о наши ноги, как домашние кошки. Тётка продолжала произносить своё бессмысленное «тром». Её остановившиеся глаза были устремлены в несуществующую даль, они висели как кусочки студня в пустоте землисто-бледного лица.
– Ну, – спросил я, – что там? – голос предательски срывался.
– Щас, – друг настойчиво старался разобраться с какими-то сложностями у тётки за пазухой.
Тётка переминалась с ноги на ногу всё в том же ритме, руки её висели как плети, кисти не выглядывали из обтрепанных рукавов. Она не только не делала никаких попыток к сопротивлению, но, казалось, и вовсе ничего не замечала.
– Может, отвести её в подъезд, – предложил я, сгорая от трусости и волнения.
– Погоди! – отмахнулся занятый делом друг.
– Ну что?
– Да ни фига!
– Как ни фига?
– Иди сам посмотри.
Я заставил себя подойти, хотя ноги не шли, а глаза закрывались – словно я должен был сейчас увидеть ужасающе страшное.
– Ну? – спросил теперь друг.
– Что ну? – я ничего не видел.
– Видишь что-нибудь?
Я отрицательно помотал головой.
Друг засунул руки за пазуху тётке так глубоко, что можно было подумать, что он шарит у неё внутри живота.
– Нету там ни фига, – убедился он. Он был разочарован, ему хотелось плюнуть.
"Тром, тром, тром", – монотонно бормотала тётка.
Друг разозлился и начал вынимать у неё из-за ворота какие-то тряпки.
– Бинты, – догадался я.
– Похоже, – сказал друг.
Уже метра два грязного широкого бинта валялось на щербатом асфальте. Друг продолжал тянуть. Тётка никак не реагировала.
– Всё танцует, – сказал друг и замахнулся на неё кулаком.
– Но не может же быть, чтобы у неё совсем ничего не было, – усомнился я.
– А ты сам иди посмотри. Что боишься? Чего опять убежал?
Упрёк был справедлив и оттого подействовал особенно болезненно. Я напустил на себя нагловатую решимость и принялся вытряхивать из тётки бинты, взявшись за работу обеими руками. Это было весьма неприятно, потому что бинты эти могли быть испачканы и гноем, и калом. Меня подташнивало, но я держал марку.
– Смотри за шухером, – приказал я другу деловито.
Друг понимающе кивнул – теперь я ему нравился.
– Там фартук ещё какой-то, – сказал я, вытянул и бросил бесцветный застиранный фартук с прорванным карманом посередине.
– А в кармане что? – спросил друг и тут же полез в карман. – Фу, вата какая-то! – он гадливо выбросил вату.
– Знаешь, мне что-то противно, – вдруг сказал он. – Того гляди, сблюю.
Я-то думал, что один такой нежный.
Он отдалился на несколько шагов и стоял там, отвернувшись.
– Ну что, нашёл что-нибудь? – спросил он через некоторое время, не поворачиваясь. Судя по сдавленному голосу его в самом деле тошнило.
А я наоборот что-то разошёлся.
– У неё сисек нет, – сказал я.
– Я тебе говорю, нет, – подтвердил друг.
– А что у неё вообще есть? – я продолжал терпеливо рыться внутри тёткиной одежды, ничего так толком не обнаруживая, т.е. никакого тела…
Там одни тряпки поганые! – констатировал друг и сплюнул. – Пойдём, – он не на шутку расстроился.
– Сейчас, – я потянул очередной узел. Должны же были когда-нибудь кончиться эти бесконечные одежки.
– Она как кочан, – сказал я.
– Хорошо не лук, – сказал друг.
– Какая-то тесёмка, – сказал я, вытягивая желтоватую сальную верёвку.
– Пойдём, брось! – позвал друг.
Мне тоже стало вдруг невыносимо противно, тошнота всерьёз подкатила к горлу. Я бросил тесёмку, как дохлую змею.
Растрёпанная тётка всё также упрямо танцевала и тромкала.
Собравшись, я подошёл к другу и, как ни в чём не бывало, хлопнул его сзади по плечу. Он вздрогнул.
– И не тётка это вовсе, – сказал он.
– А кто же? – с неприязнью и страхом я оглянулся.
Вдруг мне представилось, что существо это может сорваться с места и вцепиться в нас зубами, как бешеная собака. Хотя, были ли у него зубы – не разглядел. Но ей (ему) теперь было за что нам мстить. Возможно мы разгадали его тайну…
– Бежим! – сказал друг.
Крупная дрожь пробежала у меня по телу от пальцев ног до макушки, на затылке и шее она выступила крупными мурашками. Мы бежали, летели – через школьный двор – и дальше, к себе домой. «Тром-тром-тром», – приговаривало сзади бессмысленное несуществующее существо. На пальцах и в ноздрях остался его запах, обескураживающий запах пустоты.
Я вытирал руки о штаны и старался отдышаться.
– Тром! – заорал мне в самое ухо, быстрее меня опомнившийся и успокоившийся друг.
Я весь похолодел и прикусил себе язык. Хотелось отвесить шутнику затрещину, но сил не было, ноги ватные, во рту сухо…
– Слушай, – спросил я, – а она там есть?
– Пойди проверь, – предложил глумливый друг.
– А она вообще была?
Друг пожал плечами.
– А что значит «тром»?
Он опять зябко пожал плечами. Ему уже явно нетерпелось сменить тему.
Я решился и понюхал свои ладони, поплевал на них и принялся яростно их оттирать об полы куртки и штаны.
Непослушная
«Глаза их должны быть скромно опущены книзу и они не должны ничего петь и ничего говорить…»
В. В. Розанов
Это был солнечный весенний день. Я стоял в очереди за фруктами и овощами в свой любимый ларёк. Стоять не очень-то хотелось, лучше было пойти в лес и посмотреть не первоцветы. Впрочем, первоцветы росли и совсем неподалёку, на газонах, в тех их частях, где не слишком часто ступала нога человека. Мать-и-мачеха уже доцветала, но в самой поре был чистяк весенний, а в каких-нибудь тридцати метрах от ларька, ни кем не замеченный, обосновался гусиный лук. Я жил в таком районе, куда простиралось дыхание леса, да и жители кое-где подсаживали что-нибудь экзотическое. За ларьком была небольшая асфальтовая площадка, а за ней наискосок стоял дом. В доме были магазины, в том числе продуктовый, где продавалось и спиртное. В связи со всеобщим весенним настроением люди пили уже днём.
Одна тётенька, лет шестидесяти с хвостом, подошла к нашей небольшой медленной очереди и обратилась к стоящим непосредственно за мной:
– Мальчики, у вас не будет двух рублей?
Я оглянулся. Обоим «мальчикам» было на вид вряд ли меньше семидесяти. Меня тётенька по молодости проигнорировала. Они принялись рыться в карманах, но двух рублей так и не нашли. Разбитной даме, однако, уже кто-то успел прийти на помощь. Её позвали и она, кокетливо усмехнувшись, упорхнула к ближайшей скамейке, где сосредоточенно дожидались её собутыльники.
Мужики сзади синхронно закурили; поневоле вдыхая вонь дешёвого табака, я в очередной раз испытал наплыв желания смыться из этой очереди по добру по здорову. Однако, в большинстве случаев я всё же стараюсь доводить свои дела до конца.
Пока я морщился, из-за дома с магазинами справа появилась ещё одна немолодая особа. Уверенными, хотя и неверными, шагами она направилась по прямой к давешней просительнице, которая всё не могла успокоиться и мелькала возле дверей магазина по каким-то своим алкогольным делам.
Между первой и второй дамами завязался весьма оживлённый и даже излишне эмоциональны разговор. Все мы, стоящие в очереди, от нечего делать наблюдали это бесплатное шоу.
Не сразу до меня дошло, что вторая старушка является матерью первой и пришла за тем, чтобы вернуть в семенное лоно своё непослушное чадо.
Необходимо сказать, что дочь её имела вид слегка испитой, но весёлый, была вполне уверена в себе и, предположительно, отнюдь не нуждалась в каком-либо дополнительном руководстве.
Однако, мать по-видимому так не считала. Поведение великовозрастной дочки возмущало её тем больше, чем солиднее чувствовала она себя в своих летах, и вот она вышла из дома, чтобы подобающим образом обличить недостойную наследницу перед обществом.
Дочка, облачённая в легкомысленный ситцевый сарафан (модель устарела лет двадцать назад и уже тогда была ей не по возрасту), побежала навстречу разгневанной родительнице, тем самым предотвращая её приближение к лавочке, где на солнышке в предвкушении пира расположилась питейная компания. Ей было неудобно за мать, и, видимо, она опасалась, как бы та начала отчитывать на публике не только её самоё, но и, якобы соблазняющих на не непотребные поступки, друзей и подруг.
Они сошлись метрах в десяти перед нами на ровном асфальтовом поле. Причём мать успела лишь на несколько шагов выйти из тени, отбрасываемой девятиэтажным зданием; а дочь подоспела с солнечной стороны. Обе явно рассчитывали на сочувствие и поддержку зрителей. Старушка, топчась восьмёрками на месте, сгорбилась и захромала несколько сильнее, чем это соответствовало её состоянию. Я успел заметить, как она бодро передвигалось в тени.
Старушка и раньше уже что-то говорила, но нам из-за расстояния было плохо слышно. Теперь же, оказавшись как бы на авансцене, он громко и отчётливо повторила заготовленную фразу:
– Матери девяносто лет!
В паузе воробьи на придорожном кусте сирени зачирикали тоже несколько громче обычного, и это прозвучало как овация.
– А она пьёт! – сокрушённо добавила справедливая мать.
Это начало не могло не тронуть.
– Мама, идите домой… – начала, несколько запыхавшаяся от пробежки, дочка.
– Матери девяносто лет. Иди домой! – приказала мать. В тоне её было столько возвышенного негодования, а подбородок так патетически трясся, что я опустил глаза..
Но и дочь была не лыком шита. Расставив ноги для устойчивости и уперев руки в боки, она коротко оглянулась на публику и с достоинством произнесла:
– Мама, идите домой. Мы вам специально купили квартиру. Сидите дома.
– Иди домой! Сиди с матерью! – старуха вскинулась и возвысила голос.
Она рвалась вперёд, чтобы её было лучше видно. Но дочка умело отгораживала нас прыткую старушку, представляя на обозрение свою ещё довольно крепкую спину. Вообще они сейчас были похожи на боксёров, переминающихся на ринге вправо-влево, как около невидимой черты.
– Матери девяносто лет, а она пьёт, – высунув голову у дочки из-под мышки, ещё раз сообщила бабуля.
– Мама, чего вам не хватает? – потеснив соперницу грудью, громко, но спокойно спросила дочь.
– Матери девяносто лет… Иди домой!
– Идите домой.
И так далее и тому подобное.
Представление, надо сказать, немало развлекло скучающую очередь. Деды, к моему облегчению, перестали курить, а те, кому не видно было из-за ларька, даже оттянулись назад, рискуя уступить кому-нибудь своё долгожданное место.
Птицы пели. Воздух веял солнцем и прохладой. Налитые почки сирени готовы были прорваться цветами.
Дочь, как более молодое и мощное существо, всё же победила в этой интригующей схватке. Она постепенно затолкала противницу в тень своим цветастым застиранным животом. Но мать отступала с неохотой, огрызаясь и стреляя весьма ещё острыми глазами в сторону скопления народа.
Все мы, разумеется, поняли, что ей целых девяносто лет и дочь – по её мнению – должна сидеть с нею дома.
А дочке явно весна в голову ударила – тоже ведь имеет право. Отчего бы не выпить погожим деньком в хорошей компании? И потом – когда тебе самой уже хорошо за шестьдесят, неужели ещё необходимо продолжать слушаться родителей?
Я прикрыл глаза и попытался представить себе жизнь этих людей. В ушах ещё звучали, отдающиеся эхом, немолодые женские голоса. Дочь нарочито громко смеялась, вернувшись к своим знакомым и, возможно, уже чокаясь с ними за материно здоровье. А оставшаяся в небрежении мать шипела как змея, скрываясь за тёмным углом дома. Напоследок она таки убедительно потребовала, чтобы дочь вернулась домой не позднее, чем через полчаса. И дочь почти обещала – может быть, правда, только для того, чтобы отвязаться…
Я улыбнулся и загрустил. В этой жизни было столько вопиющей нелепости. Однако, девяностолетняя бабка жила и бегала на зависть многим, и у неё были свои желания. Те самые желания, которых, как считал Чехов, так не хватает интеллигенции.
Зверушка
«Сидел в корзине зверь…»
Д. Хармс
Я тогда работал плотником. Ну, не совсем плотником – потому что плотник из меня, если честно признаться, не намного лучше балеруна. Как бы там ни было, я помогал одному более квалифицированному товарищу с ремонтом частных дач и т. п.
Однажды мы ехали на одну такую дачу. Мне пришлось разместиться в открытом кузове и прятаться от глаз нехороших гаишников. Хорошо ещё, погода была прекрасная – дело было в мае. И чего только не было в этом самом кузове! Погрузили туда всё это без нашего с напарником ведома, и можно было с немалыми основаниями подумать, что хозяин всех этих вещей сумасшедший. В передней части был горкой свален сырой некачественный песок. Вообще-то песок мог понадобиться нам, например, для устройства в саду дорожек, но совершенно непонятно было, зачем тащить его загород из центра Москвы. Похоже было, что наш клиент обворовал песочницу в собственном дворе.
В оставшейся части кузова помещался я, укрываясь хозяйской рогожкой – отвратительно заскорузлым куском брезента, от которого в разных местах исходило не менее десятка разнообразных запахов, ни один из которых, однако, я бы не назвал бы приятным. С краю были беспорядочно навалены инструменты. Молоток и отвёртка подпрыгивали на каждой кочке, и мне несколько раз приходилось ловить их, чтобы они не угодили в широкую щель под задним бортом. Чтобы сберечь эти предметы, мне приходилось обнаруживать себя нередко вблизи милицейских постов. В конце концов, я плюнул и предоставил чему бы то ни было вываливаться в своё удовольствие. Наверняка. Мы что-то потеряли. Удивительно ещё, что не всё.
Рядом с убегающими инструментами, ближе к центру экипажа, лежали какие-то ячейки, нечто, явно стянутое с производства – наподобие квадратных упаковок для яиц, только большего размера. В этих ячеях лежало всё что угодно – карманные фонарики, картонные ведёрки, погремушки, тряпки, бумажные свёртки и, в том числе, действительно яйца, уже готовые и облупленные, скорее всего фаршированные. От тряски некоторые из этих яиц развалились пополам, и их содержимое перемешивалось с грязью. Очевидно, хозяин собирался потчевать нас всем этим по прибытии на место. Я бы пожалел, что взялся за эту работу, если бы мне не было лень, – к тому же, товарищ всю ответственность за переговоры, равно как и большую часть платы брал на себя.
Последний заметный предмет дополняющей и заканчивающий шизофреническую композицию кузова, был башенной клеткой, годящейся скорее для южно-американского попугая, чем для странной меховой зверушки, которая в ней сидела. Клетка была очень старая, с измызганными, проржавевшими прутьями, находилась она от меня напротив, в противоположном заднем углу, через инструменты. Зверушку было плохо видно, но я подумал, что это наверно хорёк. Во всяком случае, виделось что-то коричневое с белыми усами. Что-то меня в этой моей попутчице настораживало, отчего-то не хотелось мне к ней приближаться и разглядывать. Хотя я люблю животных. Но, когда клетка подпрыгивала, зверушка реагировала как-то неестественно. Хотя могу ли я быть уверен, что знаю, как должны естественно реагировать млекопитающие в скачущих клетках?
И главное обстоятельство, предотвратившее наше сближение, – вонь. От клетки разило так, что это вполне перекрывало, благоухания брезента и выхлопные газы. Казалось, зверушка уже издохла, и если я имею дело с духом, то отнюдь не со святым.
Почему-то нам необходимо было заехать ещё на одну квартиру. Что-то там хозяин забыл. Ну, что ж, похвально, не стоит порожняком гонять машину – брать, так всё сразу. Только бы на сей раз не подложили мне в качестве компаньона маринованного слона.
Мы остановились в каком-то дворе, среди уныло взирающих с высоты серо-жёлтых сталинских зданий. Машина последний раз дёрнулась перед тем, как мотор окончательно заглох, и от этого содрогания окончательно отвалился задний борт. Передние колёса резко взъехали на какую-то горку, а потому по наклонной плоскости вниз поехали инструменты и клетка со зверем. Клетка упала, раздался хруст. Я выглянул из кузова: прутяной свод валялся там отдельно от безжалостно загаженного изнутри дна. Зверушки не было.
Хотел было сообщить об этом хозяину, но в кабине уже никого не было. Убежали, не оглядываясь, очень спешили.
Наконец, можно было размяться. Я вдоволь покряхтел, потягиваясь и массируя руки и ноги. Неподалёку на скамейке сидела пара весьма преклонных лет, они с любопытством смотрели на меня; потом я понял, что не только на меня. Там, перед ними, находилась потерянная зверушка. Я спрыгнул на землю, таки слегка подвернув ногу, подобрал клещи, рубанок, несколько гвоздей и, прихрамывая, пошёл к старичкам. Они оживлённо приподняли лица мне навстречу. Зверушка распласталась в пятнах света на утоптанной земле и не подавала признаков жизни.
– Она умерла, – сказала старушка.
– Это хорёк, – сказал старик.
– Здравствуйте, – сказал я.
– Это ваша? – спросила старушка.
– Да нет, – полуответил я, осторожно наклоняясь.
Зверушка еле слышно шипела, как испуганная змея.
– Это какой породы зверь? – спросил дед.
– Не знаю, – сказал я, на всякий случай, убрав нос подальше от отороченной жёлтой пеной пасти.
– Может, какой-нибудь хонорик, – сказал я, подумав.
– Ханурик? – переспросила бабка.
– Нет, хонорик – помесь хорька и норки. Хотя, возможно, ханурик именно от него произошёл. Или наоборот.
– Как интересно, – сказала бабка.
– А он не кусается? – спросил дед.
– Пока не знаю, – сказал я.
– А он у вас выпал? – спросила бабка.
– Ну да, – я вернулся к машине и, морщась от отвращения, на вытянутых руках перенёс к скамейке то, что осталось от клетки. Хонорик, если это был он, за это время ни разу не шелохнулся.
– А может это енот? – предположил дед.
Я присмотрелся к зверьку.
– Может… Хотя…
Зверёк вообще ни на что не был похож.
– Ка'к вы его теперь хотите обратно засунуть? – от участливости старик со старухой уже вскочили на ноги, от их заношенных плащей пахло прошедшим временем.
– Если бы я знал, – признался я в своей несостоятельности.
– Его надо чем-нибудь покормить, – сказала бабка.
– Разумно, – сказал я и пошёл к ячейкам со съестным.
Вдруг хонорик дёрнулся и чуть не вцепился деду в ногу.
– О-о! – возопил старик.
– Осторожно, – сказал я, – замрите.
Они замерли. Хонорик тоже. Пятясь, я добрался до машины, залез в кузов и набрал в ладони несколько осклизлых фаршированных яиц.
Когда я вернулся, вся троица пребывала ещё в тех же позах.
– Лучше сядьте, – посоветовал я.
Старички оживились.
– А он не укусит? – на этот раз поинтересовалась бабка.
Я пожал плечами. Они с опаской присели. Хонорик правда ещё раз дёрнулся, но на этот раз как-то мелко – похоже, у него начиналась агония. Не иначе как хозяин вёз его умирать на лоне природы.
Я стал приманивать зверушку. Яйца, и без того более похожие на грязь, выскользнули у меня из рук в дорожную пыль, пожалуй, слишком далеко от её мордочки. Я не надеялся, что она как-нибудь среагирует, но с каждым мгновением мне становилось страшнее. Я вдруг понял, что до сих пор слишком легкомысленно оценивал ситуацию. Зверок вполне мог оказаться бешеным, тогда один укус… Лучше об этот не думать – все эти уколы…
Моя подопечная приподняла трясущуюся головку, на этот раз подражая кобре. Заплывшие гноем глаза ничего не выражали, мокрые зловонные усы топорщились над жёлтыми клыками. Она казалась безвольной и бессильной, однако, я всем телом ощущал исходящую от неё опасность. На последний смертельный рывок её бы ещё вполне хватило – таким, как она, нечего терять.
Она не убегала, потому что не могла. В таком состоянии животные обычно уже ничего не едят и не пьют. Но если я попытаюсь взять её в руки или хотя бы подтолкнуть к клетке ногой, она наверняка вцепится – так на мне и издохнет. Меня чуть не стошнило от предвкушения такого исхода – даже на расстоянии метра отчётливо чувствовался, исходящий из недр зверушки, смрад.
Мне в эти минуты невольно приходилось переживать часть зверушкиных страданий. Не то, чтобы я жалел её. Меня не оставляла мысль, что если бы она поскорей умерла, то всем бы стало легче. Может быть, и вправду, убить её, чтобы не мучилась и чтобы предотвратить все прочие возможные неприятности? Но имею ли я право? Что скажет хозяин?
Старик со старухой опять встали и, топчась от возбуждения на месте, старались мне что-то советовать. Но я думал о своём. Вернее, даже не думал. Я смотрел в глаза зверушке, в глаза, которых почти не было видно, как смотрят в глаза смерти. И горло моё то и дело сдавливали болезненные спазмы.







