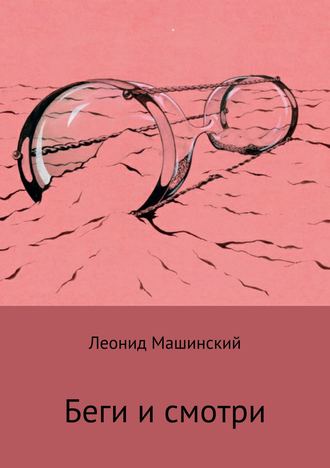
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Наверное, зря я сел. Мною овладело безволие. Захотелось сразу и лечь. Всё равно куда, хоть на землю. Лечь и уснуть, поспать хоть немного. Говорят, что войскам при самых тяжёлых и продолжительных рейдах, специально не дают спать. Потому что если они всё-таки лягут, то потом их даже угрозой расстрела не подымешь. Вот и я чувствовал себя таким утомлённым не в меру солдатом. Так захотелось уснуть, что уже почти всё равно стало, проснусь я потом или нет. Не спи, замёрзнешь! Но на улице было скорее жарко, чем холодно.
И я продремал несколько минут, сидя, но с закрытыми глазами. Наверное, голова моя при этом раскачивалась, вторя ударам крови, как у какого-нибудь обдолбанного до полусмерти. И голова и тело были странно пустыми. Меня словно носил ветер, нет, ветер, словно проникал насквозь, словно меня и не было. И я не мог понять, что это – нехорошее предзнаменование или, наоборот, благословение небес. Но до ангельской лёгкости мне было далеко. Хотя макушку мою напекло и по спине под пояс стекал пот, руки и ноги оставались холодными. Меня попросту бил мандраж. Этот мандраж, правда, и не дал мне как следует уснуть. Нет худа без добра.
Что же делать? Неужели я вот сейчас встану и пойду к каким-то чеченцам, чтобы угодить самым противным личностям в роте? Да в своём ли я уме? Бежать? Это мне не раз приходило в голову. Но зачем я тогда вообще приехал сюда? Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Ну вот, почему-то пословицы звучат очень успокаивающе. Народная мудрость. А откуда мне ещё брать мудрость?
Всё вокруг выглядело почти мирно. Нет, даже очень мирно, если не считать этих, почти сровненных с землёй, когда-то высоких домов. Но раздолбанные стройки мне приходилось наблюдать и у себя на родине. В конце концов, мало разницы. Наверное, здесь можно найти какие-нибудь осколки от снарядов, следы крови. Но мало ли вообще что можно найти в разрушенном доме? Отсюда, правда, похоже, уже всё, что можно было, унесли, если было что уносить. Один бетон, в кое-где сохранившихся мелких кафельных плитках. И почти все эти плитки разбиты. Оставшиеся стены не возвышаются почти нигде более чем на три метра, полы провалены, обнажая местами затопленные ямы подвалов. Есть только одна чудом уцелевшая стена. Отсюда даже было похоже, что это дом, только пустой и открытый сверху, как спичечный коробок. На такой верхотуре мог бы прятаться снайпер. Неужели это никому не приходило в голову?
Когда-то, вероятно, здесь действительно прятались снайперы, но одни уехали куда-нибудь в Саудовскую Аравию, других убили, третьи устали и умерли от наркотиков. Я, конечно, понимал, что кое-кто ещё мог и остаться, но мне было проще думать, что я здесь один. В конце концов, если бы кто-то хотел, то уже давно бы мог меня пристрелить. Так что, до сей поры удача была на моей стороне.
Странное любопытство потянуло меня к этой стене, к самому заметному, а потому, наверное, и самому опасному месту во всей округе. От нашей части её не было видно, но я слышал о чём-то таком. Стена пользовалась дурной репутацией, и её всегда обходили. Тропинка делала только здесь прихотливый изгиб вправо, явно не желая пользоваться несколькими возможными проломами. Оно и понятно, здесь без всякой мины какой-нибудь камень мог упасть сверху.
Я насчитал целых десять этажей. Кого же здесь всё-таки, интересно, собирались селить? Или кто-то здесь всё же успел пожить? Все территории кругом смотрелись так уныло и безлюдно, что становилось совершенно непонятно, кому могло прийти в голову возводить здесь такие солидные строения? Не иначе, тоже что-то связанное с отмыванием денег. Впрочем, я в этом ничего не понимаю. Скажем так, какие-то стройки здесь по плану должны были быть, и вот они есть, пусть даже и в таком виде. Наверное, можно было показать иностранцам и сказать: «Смотрите, вот видите, мы им построили, а они сами разбомбили своё жилище». Кто его знает, может так оно и было? Но даже если бы это строительство и было каким-то чудом закончено, очень трудно предположить, откуда и каким образом в этих домах появились бы горячая и холодная вода, газ и прочие удобства. Может быть, это была своеобразная чеченская потёмкинская деревня?
Я слыхал о каких-то боях, в недалёком прошлом отгремевших здесь, но никакой точной информации не имел, жил только слухами. Да и кого спрашивать? Сержанта? Он бы, пожалуй, ответил в лучшем случае оплеухой. «Не верь, не бойся, не проси» – легко сказать!
Но происхождение развалин не так волновало меня, как существование этой, уцелевшей вопреки законам вероятности, стены. Я сошёл с тропинки и дотронулся до её теплой поверхности, вскарабкался на кучу щебня и заглянул в амбразуру окна второго этажа. Ничего не взорвалось, это меня приободрило.
Вспомнились мои ребяческие, столь обыкновенные для городского мальчишки подвиги – карабканья по всяческим пожарным лестницам, трубам и балконам. Там, наверху, я, кажется, испытывал когда-то чувство, похожее на блаженство.
Нет, никогда, даже во сне, не грезилось мне, что серьёзно стану заниматься чем-нибудь вроде альпинизма. В этом смысле, я был совершенно не подготовлен. Горы, даже небольшие, утомляли меня. Но этот дом, вернее, то, что от него осталось, выглядел необъяснимо соблазнительно. Почему бы мне не попробовать подняться?
В конце концов, таким способом я смог бы хоть немного сориентироваться на местности, которая, при всей её открытости, до сей поры была для меня тёмным лесом. Должно быть, увижу оттуда и лагерь чеченцев, или что' у них там? Деревня? Мне почему-то представлялось, что они живут в шатрах и кибитках, подобно цыганам, хотя я и прекрасно знал, что это не так.
Если мне всё равно предстоит умереть, отчего бы не подпустить в этот грустный коктейль последних часов жизни немного романтики? Если меня ждёт внезапная смерть, может ли она быть хуже планомерной, вроде того, когда с тебя заживо сдирают кожу? И ведь у меня не должно возникать никаких опасений погибнуть зазря. Я в любом случае погибну зазря. Только, если я погибну здесь, то погибну по собственной инициативе. Это, допустим, глупо, но не так унизительно, как если бы я изо всех сил старался выполнить задание ненавистного сержанта.
Словом, у меня были аргументы для того, чтобы начать это восхождение. Я ещё не знал, чего я смогу этим добиться при удачном исходе, но интуиция подсказывала мне, что я поступаю правильно.
Я полез. Сначала очень медленно и неуверенно, досконально прощупывая пальцами рук и мысками армейских ботинок все те щели, которые служили или могли бы послужить мне зацепками и ступенями. Стена была так основательно повреждена, что опору в ней найти было нетрудно. Наверное, какой-нибудь скалолаз-троечник запросто бы взлетел на самый верх за две минуты, если бы, конечно, его перед этим не предупредили, что могут встретиться мины. Я же карабкался без всякого спортивного интереса, но с полной отдачей, всем телом прижимаясь к стене, которая, чем выше, тем более почему-то начинала казаться мне спасительной. По временам я даже закрывал глаза, не из-за того, что боялся смотреть вниз, хотя было и это, но скорее потому, что хотел более полно выяснить для осязания всё неровности своего объекта. А может быть, мне вспомнилась сцена из фильма «Земля Санникова», где несравненный Даль лезет на колокольню в завязанными глазами? Получится ли у меня? Но с кем я спорил? Играл в благородство?
Мне удалось, я и сам не ожидал, что так скоро смогу водрузиться верхом на самой верхотуре. Ноги подрагивали от остаточного напряжения, руки окостенели, а спина была окончательно мокрой. Но я долез. Приятный ветерок освежал потные виски. Я пока не решался широко открыть глаза и смотрел только сквозь щёлочки. Голова и без того кружилась, и подташнивало. Наверное, я теперь прекрасная мишень. Жаль, что у меня нет ещё с собой какого-нибудь флажка, чтобы помахать отсюда и тем и этим. Я снял пилотку и помахал, так и не раскрыв толком глаз; выстрела не последовало.
И не то чтобы я оборзел, я просто устал. Я применил довольно много сил, чтобы добраться сюда, я даже не предполагал в себе такой ловкости. Теперь дело сделано, и я могу праздновать победу. Остаётся только слезть обратно. Разве что это напрягает. Но хочется ли мне уж так спешить к чеченцам? Или к сержанту, который сказал «живым не возвращайся»? Ну и что с того, что я поскользнусь и упаду, когда буду спускаться? Может ещё даже выживу и меня комиссуют с каким-нибудь не опасным для жизни переломом? Все эти мысли успокаивали. Я даже опять чуть было не заснул, сидя на своей вышке.
Я покачнулся в полусне и потерял равновесие. Не упал, но мёртвой хваткой вцепился в бетон. Мне опять стало страшно, я снова жил. Я отдышался и решил спускаться.
Часть нашу я, правда, рассмотрел, а в чеченской стороне заметил какую-то деревню, наверное, идти надо было туда. Больше просто некуда, и смотреть больше было не на что. Невероятная унылость – до тошноты. Но солнышко пригревало, и ветер припахивал полынью.
Я так подробно описываю этот первый опыт, потому что потом у меня такие восхождения вошли в традицию. В тот раз мне удалось без потерь слезть на землю, дойти до чеченцев, купить у них травы и вернуться назад дотемна. Травы мне, конечно, не досталось, но весь вечер меня никто не трогал. Вероятно, выглядел я как пришибленный, до отбоя просидел в углу, а потом, дрожа, спрятался под одеяло. Но даже сержант сказал почти сочувственно, что такое бывает.
С утра всё началось по новой, т.е. оскорбления, унижения, тряпка, туалет, столовая, пинки, построения, грязь, тоска, уныние. Я хотел спросить, дадут ли мне когда-нибудь автомат, который пока удалось подержать в руках всего один раз, на присяге. Но сержант предупредил мой вопрос. «Радуйся, что пока без оружия ходишь», – сказал он. Всё-таки это был добрый человек. Считалось, что в безоружного всё же менее вероятно будут стрелять, чем в вооружённого.
Беда моя заключалась в том, что я понравился чеченцам. Может быть, этот поход к ним и стал бы первым и последним в моей жизни. Не один я был, в конце концов, в роте. И старики иногда ходили в самоволки, уж не знаю, что они там делали. И к тому же, осенью ожидалось пополнение из нового призыва. Я, конечно, не злорадствовал, но пускай уж и они в свою очередь сходят за «менструацией». Раз уж такова армия.
Но чеченцы, звонили своим знакомым в часть, мало того, звонили прямо в штаб и зачастую сами заказывали, кого из наших служащих они хотели бы преимущественно увидеть.
Секрет моего успеха у них, вероятно, сводился к тому, что благодаря своему восхождению на стену, я на какое-то время перестал бояться. У меня, пока я лазал, выработалось столько адреналина, что он буквально затопил мозг. Я стал даже злым и наглым. Мне хватило этого заряда до самой деревни. Я, можно сказать, бежал оставшуюся часть пути и уже не смотрел себе под ноги. Бежал так, как будто нёс в руке гранату, которую намеревался бросить в амбразуру вражеского дзота.
Всё обошлось – на редкость почти без приключений. Меня угостили водкой и даже немного покормили. Выяснилось, что некоторые чеченцы даже сочувствуют молодым. Но всё равно, находясь у них, я чувствовал себя, как среди ядовитых змей, словно я в центре их клубка. Может, они и не укусят сейчас, просто настроение у них благодушное, но яд всё равно надо куда-то девать – рано или поздно они укусят. Может и без злобы – что мне от этого – легче что ли?
Я уходил от них пьяный и теперь уже не мог бежать, т.к. непременно хотел сохранить достоинство. Я шёл не спеша, не оборачиваясь, а они гуторили на своём и смеялись мне в след. Вот так же, смеясь, кто-нибудь из них мог бы выпустить очередь мне в спину, допустим, чисто случайно. «Ай-ай-ай» бы сказал и поцокал бы языком.
Итак, я стал завсегдатаем у чеченцев, уже через две недели мне пришлось к ним идти ещё раз. И не потому, что кончилась трава или водка. Они хотели видеть меня, именно меня. Конечно, в части не обошлось без намёков на гомосексуальную тему. Но, в основном, даже старослужащие отнеслись ко мне с сочувствием. Естественно, что меня попросили кое-что принести, раз уж я всё равно туда иду.
"Если вернёшься", – сказал в заключение своей просьбы сержант и на этот раз даже не пнул меня. Может быть, не исполнив обряд, таким образом он желал мне смерти?
Не знаю, бывали ли раньше такие случаи, ну, то есть чтобы приглашали кого-то выборочно. В любом случае, это было не к добру.
Сам я только очень приблизительно мог предположить, почему удостоился такого «высочайшего» приглашения. Сначала я был одурманен адреналином, потом водкой и едой, и что-то горячо говорил. Но кажется, я всё-таки соблюдал политкорректность. Инстинктивно. Однако, наверняка речь моя была довольно скользкая, я прямо не говорил чеченцам, что я о них думаю, но намекал вполне прозрачно, хотя и вежливо. Я это умею. Так вот, не ясно было, пришлась ли им по душе моя откровенность. Может быть, через две недели до них дошло как до жирафа и они решили меня казнить!? Я лихорадочно пытался вспомнить то самое обидное для них, что я мог сказать. Но откуда я знаю, что для них самое обидное? Наверное, ещё для каждого – что-нибудь своё, они ведь тоже не единообразное стадо, во всяком случае, являются таким стадом не больше, чем наша часть. Я, кажется, много плохого говорил и об армии, и об офицерах, и о российских руководителях, конечно же опять-таки не опускаясь до того, чтобы совершенно поддакивать хозяевам стола. Может быть, эти мои филиппики хоть немного снимут с меня тяжесть вины и уравновесят справедливые, а оттого ещё более неприятные, упрёки в их адрес?
Так рассуждал я, проходя уже во второй раз по дороге через поле. Самые красивые цветы уже завяли, но смотреть под ноги всё равно было необходимо. Теперь они не только ждали, что к ним кто-то придёт, они точно знали, кого ожидать. Но если они просто подложили мне мину, это было бы слишком банально. И кто я, в конце концов, такой, чтобы на меня тратить мину? Мину можно было приберечь и для более высокого русского чина.
Однако, как я себя ни успокаивал, страх в этот раз был даже сильнее, чем в первый. Тогда я шёл в качестве случайного посыльного, не по своей воле и не по своей нужде. Теперь же всё было не случайно. А вдруг они мне предложат участвовать в какой-нибудь диверсии с их стороны? Раз уж я так не доволен своим начальством и российским государственным устройством? От этой мысли уже от одной могло бросить в пот. Я старался самому себе признаваться в своих недостатках, но пока ещё никак не мог уличить себя в склонности к предательству. А если скажу «нет»? Может, они просто хотят проверить меня на вшивость? Чеченцы ведь тоже, говорят, ценят верных солдат. Говорят. Но когда и от кого я это слышал? Что-то не припомню. Наверное, это было на гражданке.
В принципе они считают потенциально достойным смерти любого русского, который находится на территории, которую они считают своей. И в таком простом подходе есть своя сермяжная правда. Но тогда и мы… Да, тогда и мы. Только для этого нам следует до конца проникнуться чувством, что на самом деле это наша территория.
Нет, я вовсе не так уж сильно хотел с ними воевать. Разумеется, когда я впервые распрощался с ними, я не стал бы возражать, если бы в доме, который я только что покинул, взорвалась хорошая бомба. Только чтобы погибли все, непременно все. Чтобы не осталось ни одного свидетеля, который потом мог, бы указать на меня. Но всё равно – свои бы выдали.
И не только логические соображения подобного рода удерживали меня от глупостей. Я быстро остывал и становился равнодушен. Пусть они здесь делают что хотят, режут друг друга, вешают… Мне-то что за дело? Мне бы только выжить положенный срок и вернуться домой целым и невредимым. И ещё – нормального человека по-моему убийства даже в воображении скоро утомляют. А я (всё-таки) считал себя нормальным, не маньяком.
И на этот раз я добрался до развалин без приключений. Теперь я сразу же пошёл к стене и обрадовался ей как старой знакомой. Получится ли ещё раз? Я обошёл её кругом и обнаружил, что кое-где ещё сохранились остатки лестничных пролётов. Правда, выглядели они так, что, казалось, наступи и полетишь вместе с ними вниз. Непонятно было, почему они до чих пор не упали. На землетрясения что ли рассчитывали? Я не без труда отыскал место, где влезал в первый раз и, посомневавшись, начал подъём. Сердце нестерпимо билось, и мне приходилось останавливаться, чтобы хоть немного унять этот внутренний гром. По небу надо мной летали какие-то большие птицы, и я подумал, что это стервятники.
Всё опять удалось. Я пришёл в тот же дом, на этот раз гораздо раньше, и просидел там допоздна. Я хотел отговориться, что должен вернуться к разводу, но они сказали, что "всё схвачено", так что в часть мне пришлось идти в темноте и пришёл я уже после отбоя. Меня никто не ругал, удивились только, что я вообще пришёл.
Этот путь звёздной ночью тоже врезался мне в память. Чеченцы палили в воздух, провожая меня, и я все опасался, как бы они не стрельнули слишком низко. Опять-таки ни на чём я не подорвался, даже не поскользнулся, дошёл как сомнамбула и завалился спать, не раздеваясь. Возле самой койки меня опять начал бить озноб. Это было уже что-то похожее на болезнь. Или просто на улице было холодно?
Затем был довольно значительный перерыв. Я думаю, что у чеченцев появились какие-то более важные дела. До части доходили слухи о каких-то подорванных машинах и убитых милиционерах. Знающие люди предполагали, что это дело рук моих знакомых, хотя происшествия эти имели место совсем в другом районе.
Жизнь в казарме с каждым днём становилась легче. Не то чтобы меня стали любить, но хотя бы почти оставили в покое. Может, побаивались-таки, что я спелся с врагами и могу пожаловаться им на какого-нибудь ретивого обидчика. Даже офицеры не очень-то на меня наседали, хотя я и далеко не всегда являл собой пример образцового солдата.
Я ни с кем так толком и не подружился, хотя в нашем призыве было несколько ребят, с которыми иногда можно было поговорить по душам. Однако, я заметил даже в них какое-то предубеждение. Что делать, они-то пока туда не ходили.
Отряд готовился к учениям. Потом были сами учения, впрочем, не особо масштабные. Я не заслужил никаких отличий, но всё-таки и не ударил в грязь лицом.
Потом пришли новобранцы. И любители помучить человеческую плоть переключились на них. К стыду своему, я не за кого не вступался. Старался только побольше спать и не видеть всего этого безобразия. Тогда же у нас случилось первое ЧП, один солдат утонул. Конечно же никто не поверил, что эта настоящая причина его смерти. Но тело вынули из воды, из наполнившейся осенними дождями мелкой речки, которая летом полностью пересыхает. Моего «любимого» сержанта, который как раз отправлялся на дембель, попросили заодно ещё сопровождать груз 200. Оказалось, он боится покойников, чему я искренне и весело смеялся, разумеется, не в его присутствии.
Храбрящийся сержант уехал вместе с гробом, а мы остались ждать, пока ещё кто-нибудь из нас одиннадцать раз случайно упадёт на нож или попадёт под машину, что в здешних краях было почти так же трудно сделать, как утопиться.
И вот, когда я наконец успокоился, расставшись со своим непосредственным и самым неприятным начальником, когда я грешным делом подумал, что мне теперь нечего бояться, разве что меня назначат сержантом вместо него, тогда и раздался третий звонок.
Теперь я точно знал, чего от меня хотят. Я для чеченцев был чем-то вроде клоуна, бесплатное развлечение. Допустим, они искренне полагали, что все русские – говорящие обезьяны. Так вот, я для них оказался забавнее других, но обезьяной от этого быть не перестал. Просто те самые мои особенности, которые создали мне проблемы в армии, как то: некоторая враждебная надменность, открытое нежелание следовать дурацким традициям и, более всего, моя манера интеллигентно выражаться, от которой я даже путём упорных тренировок не сумел до конца избавиться, – всё это очень забавляло моих чеченских знакомых. Может быть, они прикалывались надо мной, как над каким-нибудь сатириком или экстравагантным политиком по телевизору. Хотя это уже мания величия. Но были ли у них телевизоры? А потом ещё перебои с электричеством. В общем, скучали люди. Даже трава сама по себе не помогает, нужно ещё, чтобы кто-то пошумел под траву.
Тогда меня первый раз направили из штаба. Идя по вызову в штаб, я, конечно, не ждал ничего хорошего, но очень был удивлён, когда заместитель командира высказал своё пожелание. За мой счёт начальство собиралось осуществить, так сказать, частичное умиротворение агрессора. Раз уж они тебя так хотят – ступай, солдатик, послужи! Надеюсь, они всё-таки не грозили ему обстрелом, но кто знает, чего ждать от пьяных и обдолбанных людей?
Теперь идти нужно было в ночь. И это было мне уже не в первой. Шёл дождь, и заботливый начальник даже распорядился, чтобы мне выдали плащ-палатку.
За воротами части было хоть глаз коли. Я перекрестился и зачавкал по грязи.
И в этот раз я решился подняться на свою стену. И хотя мне мешала плащ-палатка, а без неё мешал дождь, хотя темнота заставляла надеяться только на осязание – я всё же долез. Наверху я чувствовал себя героем и посылал оттуда майору воздушные поцелуи, задницу показать остерёгся, чтобы не соскользнуть.
Спускаясь, я чуть не свернул себе шею, но удержался и только сбил ногти на правой руке. Боль почувствовал, только когда распробовал ногами верную землю. Нашёл плащ-палатку, собрался с силами и продолжил маршрут. Боль помогла мне быть злым и бесстрашным.
Я вернулся, пропьянствовав и проболтав с чеченцами всю ночь. Кормили меня почему-то бараньими глазами. Не знаю, обычная ли это для них пища, или они хотели посмотреть, как я на это среагирую, но отказываться не стал – при почти полном отсутствии мяса в части любой белок шёл в прок.
Клоун? Что ж, клоун… Но я был для них учёный клоун. Не тот, которого заставляют кукарекать или ходить на четвереньках. Им было интересно, кажется, то, как я говорю, не что', а именно как.
Хотя лица в доме менялись, некоторых я узнавал. Я старался не смотреть никуда, только в лицо, глаза.Что-то подсказывало мне, что не нужно проявлять любопытство. Лишь вскользь, углом глаза, я примечал интерьер, оружие, предметы утвари, постройки во дворе. Почему-то, когда я находился у них, в комнате всегда было полутемно. Раньше, к тому же, было и тихо, если не считать какого-нибудь собачьего лая и приглушённого детского плача. В эту же ночь где-то в углу играла негромко какая-то чеченская музыка. Впрочем, она не особенно мешала разговору, хотя и не способствовала.
Мне не предложили прилечь, хотя под утро я бы, наверное, уже даже не отказался, и вышел я оттуда совершенно обессиленный, ещё и эта музыка доканала меня. Они уже все завалились спать, хоть не стреляли вослед.
Подморозило, и в часть я возвращался по льду. «Вот и зима», – приговаривал я, стуча зубами под так и не высохшей плащ-палаткой. Один чеченец хотел её у меня отобрать, но то ли это было шутка, то ли он забыл.
Майор с тех пор приметил меня и стал относиться ко мне более лояльно. Думаю, он лелеял по моему поводу какие-то тёмные планы. Может быть, хотел свалить на меня некое должностное преступление, если таковому следовало произойти. Доказательства в суде в таком случае были бы неотразимы: «Все же знают, что он ходил к чеченцам? Вот он и продал». Слава Богу, он так и не использовал меня как карту в своей игре.
Слава Богу! Но теперь моя удача не казалось мне такой очевидной. Не без труда я сосчитал, что за всю службу ходил к чеченцам всего тринадцать раз. Не так уж много. У некоторых в части, несмотря на это, я заслужил репутацию «мальчика по вызову» и «друга собак», хотя уже довольно давно мне никто не решался высказывать это в лицо. Я, что называется, забурел. Ни в роте, ни во всём отряде у меня к последней весне почти не осталось серьёзных врагов. Но и с друзьями была проблема.
Каждый раз вызов был неожиданностью, и каждый раз, преодолевая страх, я в буквальном смысле слова лез на стену. Это помогало мне меньше, чем раньше, но и страх был меньше, уже сказывалась привычка. Хотя ни разу из этих тринадцати раз я не был уверен, что вернусь живым.
Многие поддерживали с чеченцами коммерческие отношения, но, кажется, никто не просиживал с ними столько за столом, сколько я. Однако, и они не стали мне друзьями. Я, конечно, запомнил имена некоторых из них, помнится, даже с кем-то здоровался за руку. Но, честно говоря, мне потом хотелось её отмыть. Такая же реакция, впрочем, была бы и если, скажем, наш майор пожал мне руку.
Тринадцать раз. А кажется, я бегал на развалины каждую неделю. Особенно, конечно, трудно было карабкаться на них, когда они были во льду. Я даже, развеселясь, подумывал, не заняться ли мне в самом деле на гражданке скалолазанием. Всё же опыт уже какой-никакой есть. К тому же мне здесь всё это приходилось делать без страховки и в гордом одиночестве. Если бы я упал и, переломавшись, остался живым, вряд ли бы меня кто вовремя нашёл. Сомневаюсь, что вообще стали бы искать.
В последнюю зиму меня, впрочем, не беспокоили. У чеченцев возникли какие-то серьёзные проблемы. Ходили упорные слухи, что мои знакомые вовсе куда-то переместились из этих мест. Я не очень этому верил, но с каждым днём крепла моя надежда дослужить спокойно.
В тоже время я, сам того не ожидая, пристрастился к траве и дымил с другими старослужащими когда можно и нельзя чуть ли не дни напролёт. Время, правда, от этого тянулось ещё медленнее и действительность в промежутках выглядела ещё более угрожающе.
И вот наступил час X, и меня, расслабленного дембеля, не дав мне спокойно доспать до отправки, опять дернули в штаб.
– Опять вызывают, – улыбнулся мне майор.
– Что им от меня надо?
Он лукаво пожал плечами. Потом опять улыбнулся, заметив, как у меня изменилось выражение лица. Я думаю, лицо у меня посерело. Хотя оно и без того было зелёным, от нездорового образа жизни.
«Это последний раз» – хотелось сказать мне. Но я не мог не учитывать, что за последние два месяца здесь ещё многое может измениться. Не надо дразнить гусей. А что надо? Погибать? Ну да, как и положено солдату – сам погибай, а товарища выручай. Этим-то я и занимался.
– Есть, товарищ майор, – сказал я, и он не оценил моего сарказма. Тупой всё-таки человек.
Тем временем внутри у меня образовывалась уже знакомая пустота, звенящий вакуум, немного усугублявшийся ещё не выветрившейся последней обкуркой.
Стоял март, но было уже тепло, и я решил не одеваться. Лучше быстрее добегу и легче будет лезть на стену.
На КПП я мог уже ничего никому не говорить. Дежурный боец с автоматом со смешенным чувством смотрел мне вслед. Я постарался улучшить свою выправку и зашагал чуть ли ни строевым шагом, от этого самому стало смешно. «Выстрелил бы хоть он на прощание», – подумал я.
В поле уже распустились первоцветы, пахло травой, в траве жужжали первые насекомые. Но дрейфующая в небе тучка и прохладный ветерок всё же настраивали на более тревожный лад.
Давненько меня не трогали. Неужели рассчитали, что я собираюсь на дембель, и хотят попрощаться? Нет, я никак не мог подозревать чеченцев в подобной сентиментальности. А может… Да, раз уж всё равно приходится расставаться с игрушкой, не лучше ли её… Мне вспомнился старый партизан из романа Ремарка, который стреляет в спину немцу, выпустившему его из клетки. Одним меньше…
Ну что ж, возможно это была моя последняя гастроль. Нервы стали ни к чёрту. Чем ближе к лету, тем больше надежд. Опять захотелось бежать. Этого давно не хотелось. Может, всё-таки ещё обойдётся? Может, тревога от травы? Но что-то опять-таки подсказывало мне, что на этот раз, скорее всего, не обойдётся. А я привык доверять своей интуиции.
Я был близок к панике. "Да, да, так всегда и бывает, – твердил я себе. – Всегда в последний момент. Чтобы служба мёдом не казалась…" Но почему я? А почему один утонул, а другой отравился водкой, третий… Но если бы не я… Да, может, кому-нибудь пришлось погибать за меня. Но лучше всё-таки постараться выжить. Даже если есть один шанс из тысячи – нужно его использовать. Но оптимистическая пропаганда не проходила. Я снова чувствовал себя агнцем, самостоятельно идущем на заклание или, может быть, дисциплинированным быком, стремящимся на бойню. Мне захотелось плакать, чего тоже со мной давно не случалось, наверное, с самой гражданки. Я чувствовал слабость и пугался собственной слабости. Я ненавидел себя.
Не надо было курить траву, не надо было пить водку. Не надо было соглашаться идти в эту проклятую армию. Не надо было вообще родиться – вот что! Придя к такому выводу, я несколько повеселел.
И вот она наконец, моя спасительная стена! Я прижался к ней, как к родной и охладил разгорячённый лоб остатками облицовки. Сейчас полезем.
Сейчас. Но почему-то я никак не мог решиться. «Давненько не брали мы в руки шашек», – заговаривал я сам себя. Но заговоры не успокаивали. Я не чувствовал силы в руках, ноги хотели сказать, что они ватные. Проклятая трава! Неужели из-за неё?
Ничего, ничего, ничего. Я должен сделать это! Ещё хуже будет, если я этого не сделаю. В таком состоянии я не могу ни пойти к чеченцам, ни вернуться обратно. Меня засмеют или расстреляют. Но чего, чего на самом деле мне надо было бояться?
Я растерялся и решил присесть, чтобы собраться с мыслями. Мне, и правда, на несколько минут полегчало, но затем я понял, что только оттягиваю время. "Перед смертью не надышишься", – сказал я себе. К тому же, сидеть было холодно, и я испугался, что у меня так закоченеют пальцы, что я не смогу цепляться. Вообще, было совсем не так тепло, как мне показалось вначале.
Я поочерёдно растёр себе мышцы на руках, поприседал и полез. Полез по уже неоднократно пройденному мною маршруту. Теперь мне даже не могло прийти в голову экспериментировать.
Ноги сами угадывали знакомые уступы и выбоины. Я даже стал торопиться, пока у меня ещё хоть что-то получалось. Я добрался уже до пятого этажа, а участок между четвёртым и пятым я сам для себя считал наиболее трудным. Я мог бы с облегчением вздохнуть, но та самая пресловутая интуиция, подсказывала мне, что это всё-таки в последний раз.
– Почему-у? – застонал я и чуть не сорвался.
Я перевёл дух. Из-под левой ноги вниз скалилось несколько камешков, вернее, даже песчинок. Я прижался щекой к стене. «Спаси меня», – хотелось сказать мне ей.
Стена молчала. Вообще кругом стояло гробовое молчание. Солнце ушло за тучу, дождь ещё не собирался, но всё было серо. Никогда, никогда я не видел здесь никого. И как же не любят сюда ходить, ни эти, ни те. Только разве что какой-нибудь усталый наркоман поправит здоровье между Сциллой и Харибдой. Даже стервятники больше не кружили надо мной.







