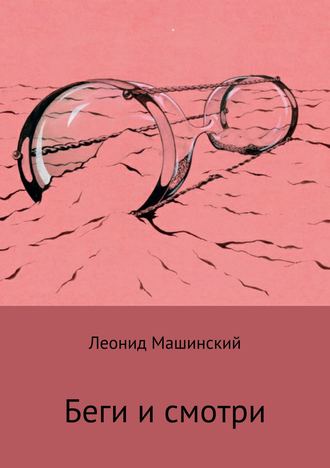
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Дальше всё как во сне. Скрежет торможения. Станция «Мазут» – ведь вот сумел же прочесть название. Даже запомнил какие-то, подтверждающие его, технические ёмкости на горизонте. К поезду торопятся негустые людишки. Прямо по желтоватой крупной щебёнке. Проводница, кажется, уже другая, открывает дверь. Я тут же вскакиваю в тамбур, отталкиваю её плечом и врываюсь в вагон. Интересно, почему они мне так легко открыли – уверены были, что меня уже нет. Там, сзади, ещё кто-то тяжело влезает с поклажей. Проводница что-то верещит мне в спину, даже вроде стучит мне в рюкзак кулачками – но я ноль внимания. Не могу поверить своему счастью. Ноги немного подкашиваются, поэтому цепляюсь за стены. Пассажиры смотрят на меня как на привидение. Их видно немного, потому что вагон купейный. Дохожу до противоположного конца вагона, заставляя шарахаться полураздетых дам и понимаю, что мне необходимо отдохнуть, просто отдышаться – иначе я рискую здесь же растянуться без чувств.
Я рывком откатываю в сторону дверь в последнем по счёту купе. Там полный комплект. Я с размаху сажусь на койку. Поезд трогается. Прибежала проводница, но я смотрю на неё в отсутствующим видом и улыбаюсь. В купе, похоже, одни дамы; да и вряд ли бы кто-нибудь из мужиков решился бы сейчас выставлять меня. Проводница жестикулирует – голос у неё слабый – не по профессии. Ближайшая сзади тётка пробовала меня спихнуть, но тщетно, я только посмотрел на неё с усмешкой через плечо.
Наулыбавшись вдоволь, сообщаю со всей возможной членораздельностью, что у меня есть билет на этот поезд, но только место моё в другом вагоне. Билет покажу, когда отдохнут руки. Показываю руки, которые не гнутся и трясутся в такт ходу состава. Проводница махнула рукой и ушла – скорей всего, опять кого-то звать. Но мне плевать. Женщины в купе молчат, глядят на меня с плохо скрываемой ненавистью. Проснулся мужик на верхней полке и раздумывает, стоит ли слезать. Не слезай – убьёт!
Я выдыхаю застоявшийся в лёгких воздух и отваливаюсь на спинку сидения. Затем прикрываю дверь купе – так меньше шума.
– Вы хотите мне что-то сказать? – обращаюсь я к застывшим в напряжённых позах пассажирам.
Они только ещё больше напрягаются.
Я закрываю глаза, блаженная улыбка опять-таки выпирает из меня наружу. Не задремать бы.
– Вы не волнуйтесь, – говорю я, едва приподняв ресницы. – я здесь посижу ещё несколько минут и пойду. В свой вагон.
Они ждут. А я медитирую, наблюдая смену света и теней на кроваво-красной изнанке собственных век.
Цыгане
"Мне нравится грубый здравый смысл, который обитает на улицах…"
Наполеон Бонапарт
В каком-то из городов. В Астрахани? В Краснодаре? Нет, скорее всего, в Воронеже – я иду вечером по правой стороне одной из центральных улиц. Не тепло, на мне плащ с вылезающим из ворота шарфом. В руке – торт на верёвочке.
В одном месте тротуар перекрыт строительством. Красноватые металлические леса облепили рельефное серое здание. Тут же, под лесами – какого-то чёрта базар. Мешая уличному движению, прямо на проезжей части, рядом с тротуаром, торгуют цыгане. Не очень характерное для них занятие – продавать фрукты-овощи. Не иначе – где-нибудь наворовали. Огурцы, чеснок и помидоры разложены прямо на асфальте, на газетах. Газеты подмокают, всё это выглядит нечисто, но какие-то покупатели есть. Они создают ещё большую непроходимость. Ступаю влево и вниз с бордюрного камня и пытаюсь прорваться через лабиринт горланящих торговок. Обращаю внимание на карманы – всякое может быть. Почти уже вышел, но чуть не наступил на разноцветные перцы, которые почему-то рассыпались и раскатились уже без газет. То ли кто-то поддел ногой, то ли просто из рук выронили. Аккуратно переступаю через мелкие плоды, которые выглядят, как замызганные сироты среди чёрных блестящих луж. Я на воле. Но слышу в спину ругань и злобные шаги. Какая-то цыганка бьёт меня в спину. Оборачиваюсь, стараясь не помять торт. Ничего себе – молодая и хорошенькая. Среди теперешних цыган такое редко встречается. Да и насчёт былых времён – сомневаюсь. А эта – ишь как распалилась – ей едёт. Глаза пылают, и серёжки с бусами на ней позвякивают. Не удивлюсь, если окажется дочкой какого-нибудь барона.
Но тут я начал злиться. Она таки довольно больно ударила меня по поджилкам своим сапожком. Лепетала что-то насчёт того, что я раздавил её товар. А я ведь не давил – очень внимательно смотрел под ноги, нарочно ступал как аист – и на тебе. Я понимаю, что ей обидно, но это ведь не я.
Поскольку ни на какие рациональные уговоры она не поддавалась, я тоже начал орать. Мол, что это за безобразие – я ничего не давил, а меня обвиняют. Устроили здесь! Угроза общественной безопасности! Наносят телесные повреждения! Милиция! Немедленно! И в таком духе.
Мой напор её ошарашил, и она заткнулась на несколько мгновений, приоткрыв рот – зубы тоже хорошие, нет золотых. Зато другие – в большинстве гораздо в более старые и отвратительные на вид – торговки, подняли гвалт, как стая рассерженных гусынь.
Я махнул на них рукой, как мог выразительно, и пошёл дальше. Мне в спину что-то полетело – возможно, тот же товар, который они подобрали из грязи.
– И испачканная одежда! – добавил я, оглянувшись и погрозив пальцем. – Милиция! – и прибавил шагу.
Я уже отошёл метров пятьдесят и миновал перекрёсток, когда меня нагнали два мужика, явно имеющие отношения к тому цыганскому базару. Один из них был невысокий и пожилой, и очень внушительного вида, несмотря на скромную одежду. Второй же – здоровила в оранжевой безрукавке, похоже, дорожный рабочий, которого я видел в паре с другим таким же, ошивающихся перед пресловутым базаром. Этот второй, явно не цыган, но мужчина выдающихся размеров, тут же, ничтоже сумняшеся, принялся дубасить меня своими ножищами.
– Бей его, бей, – приговаривал низкий. Он дышал с перебоями, и руки у него тряслись – надо меньше пить, дядя.
Я конечно старался уворачиваться от неприятных ударов. Хорошо ещё, что нельзя было сказать, чтобы бил он слишком профессионально. Работяга и есть работяга – заплатил он ему, что ли?
– Чего вы от меня хотите? – вырвалось у меня. И я застыдился собственного сорвавшегося голоса.
Низкий не говорил, а приговаривал. Очень темпераментно. Хотя при этом отнюдь не терял выражения достоинства. Мне бы так.
– Зачем ты её ударил? Она тебя била?
– Кто кого ударил? – пытался выяснить я, морщась от боли и всё же пытаясь спасти торт.
– Она тебя ударила?
– Ну, да она, ваша, ударила. Я-то её не бил…
– Зачем бил? Вот он тебя бьёт. Ударь его.
– Не хочу я с вами драться, – признался я.
Я действительно совершенно не хотел с ними драться. Не только потому, что это было бесполезно, даже в случае каких-то моих успехов на этом поприще, к ним прибегут на помощь, а ко мне нет. Во-вторых, я был далёк от того, временами находящего на меня, состояния отчаянной ярости, когда мне уже всё равно с кем драться и каков будет исход. Они застали меня в минуту слабости. Увидев бьющую меня цыганку, я вспомнил другую – та не била меня и не ругала – но уж лучше бы била и ругала…
В конце концов, я получил по яйцам. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы пресеклось дыхание и потемнело в глазах.
– Зачем бил? Бей его, бей! Он тебя бьёт – ударь его. Почему не бьёшь? – низкий дышал мне в ухо дорогим перегаром – коньячок наверное употребляет.
– Да .. вашу мать! – завопил я, – отбегая в сторону. На глазах выступили жгучие слёзы. – Не бил я никого! Уберите от меня, ради Бога, эту гориллу! Не хочу я никого убивать! И целым хочу остаться.
Но мои тирады, хотя и вырвались из глубины сердца, видимо, не произвели достаточного впечатления, и избиение продолжилось. Удивительно, что я ещё ухитрялся оставаться на ногах. Замечательно, что у издевающегося надо мной рабочего было очень честное лицо. Он, вероятно, совершенно искренне полагал, что делает нужное дело. Обидели невинную девушку, и всё такое… Я-то полагал, что вот такие среднерусские блондинистые лбы должны недолюбливать цыган, как и всех прочих «чёрных». Так вот нет, заглядывая в его голубые зенки, я убедился, что никогда не дождусь от него поддержки. Может, татарин какой? Скорее уж меня этот барон пожалеет – всё же есть в нём нечто интеллигентное, хотя, разумеется, и с криминальным душком. Но у нас – всё так.
Я получил по морде. Исполин выдернул у меня из пальцев коробку с тортом, синтетическая верёвка в кровь ободрала кожу. От нокдауна я плохо соображал, обзор заплывающего левого глаза стал стремительно сужаться.
– Зачем бил?
– Да не бил я, – выдохнул я обессилено.
И барон наконец заметил, что я плачу. Слёзы текли сами собой, но я почему-то смотрел только на торт. Торт было жалко.
Можно было предположить, что мой честный избиватель попляшет на нём своим растоптанным сорок шестым, или – как это делают уважаемые мной укротители чванливых особ – размажет мне сладкую кашицу по физиономии – хоть попробую, что' я теряю. Или взял бы угостить, пострадавших в кавычках, цыганок.
Нет, он зачем-то взялся развязывать верёвку на торте. Тут ему пришлось отвлёчься, что дало мне приятную передышку. Затем он мельком заглянул внутрь, и, ничего не выразив на крупном убеждённом лице, бросил торт в заскорузлый придорожный сугроб. Даже не бросил, выронил. Торт упал и даже не раскрылся, лежал в самой некрасивой, незаконченной позе – такой же серый, как сугроб. Но его ещё можно было есть.
Я плакал.
Громила собрался мне добавить, он барон остановил его жестом. Они взяли меня с двух сторон под руки и куда-то повели – не в сторону базара. Я шёл и плакал – у меня не было сил сопротивляться. «Заведут в какую-нибудь подворотню и убьют», – мелькнуло у меня. Я оглянулся на торт, его уже не было видно. Наверно подобрали – тут народ голодный.
– А это ваша дочь? – спросил я спокойно.
Барон остановился и с интересом заглянул мне в лицо. Глянув на шефа, и громила с неохотой отпустил меня – а то ведь почти нёс под мышку, чуть руку не оторвал.
Я перестал плакать, но погрузился в какую-то непробиваемую грусть.
– А ты, что, влюблён? – вдруг спросил меня проницательный барон.
– Да, влюблён, – ответил я честно. – Но не в вашу дочь.
Он окончательно отпустил мою руку и, отвернувшись, о чём-то на несколько мгновений задумался. После закурил, дорогую сигарету. Рабочий ждал.
Барон больше ничего не сказал. Он сделал наёмному бойцу знак гордой своей головой, и они пошли от меня назад, к цыганкам.
Я стоял, как в воду опущенный, и не оборачивался. Только зачем-то подумал, что надо всё-таки проверить – цело ли содержимое карманов. Но руки висели в стороны – как у орангутана.
Я бы ещё поплакал – да нечем уже было. Где-то под глазом выползла и запеклась кровь. Болело в паху.
В белёсых, не совсем цыганских, глазах барона, когда он уходил, было что-то брезгливо-сочувственное. И руки свои он слишком поспешно от меня убрал – как будто испугался заразиться. И я почувствовал себя зачумлённым. «Влюблён». Да, с таким уже ничего не поделаешь. Это не лечится. Такому не сделаешь хуже. Зачем бить дырявый матрас – разве что ради тренировки.
Интересно: насколько цело содержимое моих штанов? А то – какая уж тут влюблённость! Интуиция подсказывает, то всё-таки цело. Но шаги пока буду делать в раскорячку. Здо'рово я наверно выгляжу со стороны. Под ближайшим фонарём надо будет посмотреть, насколько я грязен.
Ловлю себя на том, что уже иду вперёд. С трудом, но иду. И ловлю себя на совсем уж идиотской мысли – насчёт того, что всё-таки надо бы вернуться и посмотреть, что там с тортом.
Любовь
"Другие люди ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того, чего ей не хватало…"
А. Платонов
Я сижу на эстраде, если это можно так назвать. Один из концов продолговатой большой комнаты, видимо, бывшей аудитории приподнят над остальным полом не более, чем на полметра. По этому возвышению раскиданы маленькие плотные подушки, здесь же стоят низкие прочные табуретки, которые, на самом деле, используются как столики для чая. Сидеть следует на подушках, как говорила моя бабушка, по-турецки или, как теперь принято говорить, в позе лотоса. Впрочем, по-настоящему замкнуть ноги кренделем тут мало у кого получается. Да и не затем здесь большинство посетителей, чтобы напрягаться.
Я сижу и смотрю на танцующих. Их пока немного, потому что я пришёл рано. Больше девушек – они танцуют восточные танцы – некоторые, похоже, самозабвенно, другие же явно для того, чтобы привлечь чьё-то внимание. Зрителей, впрочем, почти нет. Не для меня же они, с самом деле, стараются?
Я закрываю глаза и пробую сосредоточиться. Ударные в этих композициях присутствуют специально для того, чтобы вводить в транс. Мне хочется забыть всё, что я оставил на улице. Мне хочется просто захотеть танцевать. Даже эротическое воображение сейчас мешает. Да и смотреть-то особенно не на кого. «Пум-пум-бум, пум-пум-бум ..,» – бьют барабаны.
Как я попал сюда – особая история, и её скушно теперь рассказывать. Однако, обстоятельства моей жизни сплелись таким образом, что это должно было произойти. Чего хотело то меня Провидение?
Хорошо было бы, если бы человеку хотелось только танцевать и больше ничего не хотелось. Но, увы. Люди не умеют до конца раствориться в танце. Когда человек танцует один, ему не хватает ещё кого-то. А когда появляется этот кто-то, пара, вместо того, чтобы жить в сиюминутном ритме, начинает строить планы и вспоминать, как было раньше. Они стараются настроиться друг на друга, помочь друг другу, ну и, конечно, взять друг от друга всё, что возможно взять за это короткое время, когда соприкасаются тела.
Здесь, на этой странной дискотеке, встречаются довольно странные существа. У большинства из нас не всё в порядке в сексуальной сфере. Мы чего-то ищем. Здоровые люди приходят сюда ненадолго и, получив своё, убираются восвояси. Если же кто-то ходит на эти вечера долго и регулярно – это уже диагноз.
Впрочем, ставить диагноз танцующему рядом с тобой индивиду строго-настрого запрещено писаными правилами сего заведения. Называется оно «Восточный дом». И мне теперь грезится, что в этом названии есть что-то астрологическое. Ну и что?
Пахнет сжигаемыми благовонными палочками. По дощатому полу бегают босые дети. Народу прибавляется. Вновь прибывшие разуваются и складывают свои сумки в ячейки у стены – кто-то остроумно устроил эти ячейки из поставленных друг на друга рядов откидных сидений. Дерматин на этих сидениях синий, а все остальные драпировки в комнате в красных тонах. На красных полотнах, украшающих стены, подобия звёзд и портреты гуру. Красный свет призван возбуждать страсть.
Я увидел её краем глаза третьего июня. Мы танцевали с кем-то из моих друзей. Толпились на месте в неторопливом темпе индийского песнопения. Я сразу её оценил, вернее, даже не её, а её живот. Она выглядела очень молодо, и длинные волосы были расчёсаны на прямой пробор. Она была маленькая, стройная, и что-то было такое в глазах. Здесь, да и вообще где бы то ни было, такие редко встречаются.
Я понял, что могу влюбиться. Но я ведь этого ждал. Всё во мне ждало этого. Я знал, что это может меня убить. Так, наверное, наркоман предполагает, что его убьёт следующий укол.
Могло ли это не произойти? Я увидел её нос. Она держала голову немного вперёд, по-утиному. И нос мне не понравился. Я с облегчением вздохнул. Она не была настолько красива, чтобы я расплакался тут же, на месте. Но она была опасна. Я старался не смотреть на неё на протяжении вечера. Но всё равно смотрел. Вернее, я чувствовал её спиной, плечом, да чем угодно, где бы она ни была, и чувствовал, когда она отсутствует в комнате. Я подумал, что, наверное, всё-таки стоит пригласить её танцевать; но не теперь.
Любовь банальна. Она врывается в сердце, как стая громил. Вот тебе уже завязали рот и глаза. Почти нечем дышать. И тебе наплевать, что' они уносят – лишь бы остаться живым. Но могут попасться садисты и начнут сдирать с тебя кожу.
Когда мы с ней танцевали, она отвечала на вопросы просто и ясно. От неё веяло девственностью и цельностью, даже, может быть, тупостью, той самой здоровой тупостью, которая так привлекает. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что она побывала замужем.
У неё были странные взаимоотношения с жизнью, и в чём-то мы без сомнения сходились. Кто-то когда-то внушил ей, что у неё нет чувства ритма и она совершенно не может танцевать, и вот теперь она изо всех сил доказывает самой себе и всем остальным, что это не так. И у неё кое-что получалось. У неё получалось мило, хотя и однообразно. В ней была та самая опасная слабость, которая разит наповал.
Услышав эту струну, эту прорывающуюся глухим плачем струну обиженного ребёнка, я уже не мог отделаться от влечения слышать её снова и снова. Чего, собственно, я мог хотеть от неё? Мне нужна было любовница? Да, наверное. Видел ли я любовницу в ней…
Здесь вообще всё было не по-настоящему. Игра для взрослых – это меня бесило. Более, чем безопасный секс. Можно было прижиматься друг к другу, не опасаясь, что презерватив порвётся. Люди собирались от страха, от страха перед большой жизнью. Но ведь кто-то забредал сюда, чтобы найти спасение у этих испуганных людей.
Ты сожалела, что танцы тут не каждый день. Ты говорила, что когда танцуешь, отдыхаешь. Из-за него ты развелась с мужем, но ничего не вышло. Он, кому ты была готова отдать всё, бежал. У него уже было семья в другом городе. Я всё пытался себе представить, как это происходит у тебя, как ты любишь – и не мог. Все эти мальчики, твои мужья, возлюбленные и женихи, представлялись мне убогими бесплотными тенями. Да, наверное, они были красивы, красивее меня. Хотя мне это было смешно. Смех защищает. Да и не только поэтому я смеялся – смеялся я и над собой, смеялся над комплексом мужской некрасивости, который внушили мне моя мать и одна из моих подруг, моя первая женщина. Они хотели видеть меня другим. Но если бы я стал и в самом деле другим, я перестал бы быть самим собой, а только играл бы чью-то роль, чью-то чужую. Тогда и вся моя жизнь стала бы не моей, а жизнью какого-то изображаемого мной персонажа. Чаще всего, как на эталон, в таких случаях указывают на какого-нибудь киноактёра, среди которых и многие явно некрасивые кажутся весьма сексапильными. Слава Богу, я вовремя понял, что вовсе не хочу того, чего хотят от меня другие. До, я был жалок, но не более жалок, чем все эти кинофильмовские девичьи мечты. К чему менять шило на мыло?
Я хотел настаивать на своём, всегда настаивать на своём – чего бы мне это ни стоило. Побеждать – так самому, умирать – так самому. Я всегда гнушался каких бы то ни было авторитетов. Но как я мог понять людей, которые настолько боятся себя, что действуют всегда не иначе, как в масках, и от других требуют, чтобы те не снимали масок? Для всех это нормально. Это называется правилами общественного приличия.
Было ли в тебе что-то, чего не было у остальных? По прошествии времени я мог уяснить, что часто влюблялся в девушек фригидных. И это не потому, что я бил наугад и таких вокруг оказывалось много. Просто стандартная женская сексуальность вызывала у меня подсознательное отторжение, этакую тоску, а то даже и отвращение, какие может вызвать прямой бетонный канал. Если всё ясно, то собственно, что' не ясно? Что' тут ещё делать? Ту пресловутую таинственность, которую склонны напускать на себя плотски заинтересованные в мужском поле особы, они, как правило, почёрпывают в тех же фильмах и книгах, – и хорошо ещё, если им в нежном возрасте случайно попало под руку что-нибудь экзотическое. Одна моя бывшая любовь, читала повести про грузин и поэтому любила грузин и вообще кавказцев, а русских не любила – так во всяком случае она говорила. Меня она точно не любила. Но зато пыталась заниматься проституцией в общежитии ВГИКа с китайцами. Тогда у меня были все основания пожалеть, что я не грузин или – на худой конец – не узбек. Узбекам она тоже давала.
Незаинтересованность в мужских ласках моих любимых обманывала меня лишь потому, что я хотел обмануться. Что-то тут было не так. Было, за что бороться. Была надежда, что что-то изменится, пусть и чудом. Т.е. надежда на чудо. А если чуда ждать неоткуда, разве интересен весь этот процесс? Тут уж наверное следует употреблять ум, который расскажет тебе, как наилучшим способом обзавестись семейством и родить детей.
Я же желал жить сердцем. Я желал, хотя бы убедиться, что это возможно. Но пробовать любовь – так же чревато последствиями, как пробовать тяжёлые наркотики. Для того, чтобы долго выживать, нужна исключительная выносливость. Теперь я могу констатировать, что она у меня была. Однако, и я начал сдавать.
Мы сидели на месте бывшего розария под тёплым, но не кусающим августовским солнцем. Это была наша вторая встреча за пределами «Восточного дома».
Мы пили красное вино, молдавское каберне. Закусывали мясом и хлебом. В основании высоких иссохших стеблей перед нами копошились многочисленные полёвки, тут же, то взлетая, то присаживаясь на грунт, сновали азартные воробьи. Мы бросали им крошки, все были довольны – целая толпа птиц и зверей.
Мы сидели на горячих камнях, ты немного захмелела и что-то разглядывала там, под своими прикрытыми веками. Ты распустила губы и выглядела, совсем как замечтавшаяся школьница за партой. Но меня не было в твоих мечтах, хотя я и сидел рядом с тобой. Странным образом я не мог проникнуть в тебя, ты что-то думала, но думала не обо мне, а о каком-то воображаемом идеальном друге, поводом к мысли о котором я послужил. Ты спросила меня, что' я ценю в дружбе. Не помню, что' я ответил. А ты сказала, что ценишь в друзьях искренность и широту кругозора. Видимо, ты предполагала, что я потенциально отвечаю этим требованиям. Но что' ты собственно хотела со мной делать? Как с другом? Для чего я тебе мог бы сгодиться, если ты не видела во мне сексуального (эротического) объекта?
Когда мы сидели на камнях, я кроме всего прочего рассказал тебе об одном своём друге, который в сексуальном отношении так и остался ребёнком пяти-шести лет. Т.е. он мог отличить красивую женщину от некрасивой, так же как эстетически развитый человек может различать статуи. Он понимал и любил ласку, но не более той, которую можно дать своим детям. Конечно, ему бы понравилось, если бы его погладили по голове. Он мог, расчувствовавшись, прижаться к кому-нибудь щекой или поцеловать руку. Физически он не был импотентом, но собственная эта способность вызывала у него недоумение, если не раздражение.
Странно, но ты выслушала мой рассказ с недоверием и даже как-то не очень пристойно хохотнула. Впрочем – это действительно редкая особенность, и трудно сказать, насколько она хороша – ты почти не умела смеяться. Это была, пожалуй, чуть ли не единственная попытка полноценного смеха, которую я у тебя наблюдал. Ты улыбалась. Да, часто, почти всё время, на твоём лице можно было заметить улыбку – не вымученную, как у профессиональных телеведущих – твоя улыбка была грустна и уже потому естественна. И вся твоя способность к смеху будто растворилась в этой улыбке. Ты стеснялась смеяться и не то вообще никогда этого толком не делала, не то так пугалась собственного неумелого смеха, что, едва услышав самоё себя, тут же замокала. Страшные басовитые нотки, вырвавшиеся тогда из твоей груди, в самом деле, могли изумить и оттолкнуть – в этом подспудном, загнанном в самую утробу, смехе было что-то плотоядное и необузданно пошлое. Это совершенно диссонировало с внешностью примерной наивной старшеклассницы – прямо-таки клякса на чистейшем гимназическом фартучке. Нужно ли мне было тогда насторожиться? Расслышал ли я тогда сигналы из своего внутреннего центра?
Насторожился бы я тогда или нет – что бы это изменило? Ты и сама не без основания побаивалась своей глубины. А разве есть люди, которые самих себя совсем не боятся? Разве нормально, если молодая девушка совсем не смеётся? Что значит этот синдром Несмеяны? Уж недаром подобный сюжет затесался в сказку.
Если бы я мог быть беспристрастным аппаратом, этаким луноходом, который изучает неизвестную планету при помощи разнообразных щупов и антенн… Но самое серьёзное осложнение, какое может возникнуть у человека, решившего удовлетворить своё любопытство, – боль. Но именно боль и, скорее всего, одна только она, служит ориентиром, когда в непредвиденных экстраординарных инопланетных условиях все остальные чувства отказывают.
Мало того, что придётся танцевать на битом стекле и ходить по раскалённым углям, ты должен быть готов ещё и к тому, что все эти твои страдания оценены отнюдь не будут. Потому что у жителей других планет всё по-другому, они над тобой даже не посмеются – пытались подражать землянам, но так и не научились и не поняли, зачем это собственно делается.
Ты сказала мне, что когда влюбляешься, самое маленькое, что тебе хочется сделать, – это выброситься из окна. На протяжении нашего знакомства ты пережила ещё один разрыв с любимым человеком – ты настаивала, что таковой человек всегда является для тебя единственным и опять упоминала об окне. Вероятно, уже возникла привычка. Но ты честно призналась, что когда хорошенько выглянешь, – страшно. Я вот в детстве и ранней юности любил вешаться. По крышам тоже лазил.
Интересно, ка'к всё-таки ты любила? Каким образом женщина может желать мужчину, если она никогда ещё не испытывала оргазма и не знает что это такое? Тем более физиологически ты уже не была девственницей. Или всё-таки был какой-то намёк? Может быть, это напоминало то самое, что было у моего не развившегося сексуально друга? Но тогда – из за чего такие трагедии? Я пытался припомнить свои детские ощущения, когда терял навсегда мою главную и единственную любовь. Мне снился сон, один из немногих снов раннего детства, которые я запомнил. Мать улетала на вертолёте, ей куда-то было нужно, в какую-то командировку, она вечно улетала… А я бежал за ней, цеплялся за верёвочную лестницу, которую не успели убрать, и, рискуя упасть, летел куда-то – всё равно куда! – вместе с матерью. Это был мой детский ужас, мои детские слёзы. Я хотел быть с матерью во что бы то ни стало – пускай даже она меня совсем не хочет. Но и мать прорывало, кажется, её таки прорвало в этом сне, она тоже плакала, беспощадное выражение на её лице таяло, как маска снежной королевы, она принимала меня в свои прохладные объятия – впрочем, никогда их температура не поднималась для меня слишком и даже достаточно высоко. Я привык жить при умеренном климате. Мне всегда не хватало матери – до тех пор, пока я не почувствовал себя самцом. Старая моя боль сразу как-то отшелушилась – передо мной стояла совсем другая проблема.
Или, может быть, ещё это могло быть похоже на потерю любимой игрушки. Уж, помнится, я закатывал истерики по таким поводам. Ведь вместе с игрушкой теряется та любовь, которой её щедро награждали. Теряется как бы кусок тебя, потому что ты совершенно верно ощущаешь в детстве любовь куском собственной души.
Но, если ты не испытывала по отношению к своим любимым других желаний, кроме желания скромных поцелуев и поглаживаний, которые бы подтверждали их ответную расположенность, каким образом ты могла понять меня? Ты мне говорила о каком-то «сексуальном резонансе», который у тебя возникает, когда некоторые особи мужеска пола берут тебя за руку. Или даже ты можешь вообразить, что вот если этот определённый человек возьмёт тебя за руку, у тебя возникнет «сексуальный резонанс», а если другой – то нет.
По-русски говоря – побежит мурашек или не побежит. Примерно то же самое я слышал по телевизору от одной бывшей известной спортсменки, которая, похоже, благополучно дожив до преклонных лет, так и осталась фригидной, о чём, впрочем, решила совсем забыть – потому что жизнь ведь и так удалась. Был ведь у неё мурашек, а у других, может быть, и мурашка не было. Вот, и судя по плодам своим, она решает, что всё, что надо, у неё было и она теперь может чему-то научить других.
Как бы там ни было, ты не любила меня. И не любишь. Наверное – всему виной моя внешность. Не красавец. Во всяком случае, мою привлекательность никак не назовёшь стандартной. На любителя. А ты вот любительницей не оказалась, хотя я заметил, что тебе очень хотелось бы быть во всём оригинальной. Это правильно – раз уж Бог дал тебе какую-то оригинальность, почему бы не довести её до совершенства?
Я от тебя услышал три наимилейшие фразы: «У тебя ничего не получается», «У тебя не было выбора» и «Я тебе ничего не обещала». Всё это и правда и неправда. За то время, пока мы общались, положение с искренностью почему-то постоянно ухудшалось. А если говорить о широте кругозора – тут мне пришлось убедиться, что у тебя с ней совсем плохо. Но хотела ли ты на самом деле расширять свой кругозор? Как далеко распространяется твоё любопытство?
Теперь, когда я хотя и устал и изливаюсь остатками жёлчи, но не перестал любить тебя, что-то изменилось в тебе? Я узнал, что ты перестала быть фригидной, об этом мне сообщила твоя подруга, лучшая и единственная. Мне не понятно было, радуется ли она этому обстоятельству или сожалеет. Ну, раз ты всё-таки испытала доступное человеку удовольствие от полового сношения, может быть, и мои претензии перестанут казаться тебе такими уж несносными?
Конечно – я никогда не стану твоим единственным – это ты правильно сказала. Но я-то хочу стать твоим неединственным. А если бы и хотелось мне запечатлеть свою единственность в твоей душе, то, во всяком случае, уж не в сексуальной сфере.
Говорит ли во мне надежда? Ожидание чего-то? Мой друг нагадал мне на картах Таро трансформацию через вялость и двойственность чувств. Если карты не врут, впереди меня ждёт победа. Не то, чтобы эти посулы вселяли в меня слишком большой энтузиазм, но если продолжать действовать в выбранном направлении, одно из двух должно случиться: победа или смерть. Смерть, конечно, всё равно будет в конце концов, после любой победы; посмертные поражения и победы – не в нашем ведении. Но здесь – я чего-то должен достичь – может быть, только благодаря тому, что сумел сублимировать свою страсть к тебе. Т.е. господа психоаналитики могут радоваться, делая вывод, что все эти строки – ничто иное, как сгущённая и высохшая сперма.
Вообще, гадание – большой грех. И я проявляю непростительную слабость, заглядывая в будущее. Слабое извинение и то, что друга своего я вслух не о чём таком не просил. Честнее было бы ничего не предполагать наперёд. А ещё лучше – знать о неизбежности поражения и, тем не менее, выйти на поле брани и сражаться, не сдаваясь, до самого конца. Если победишь в этом случае – вот уж победа будет, так победа! Не так ли было у Христа?







