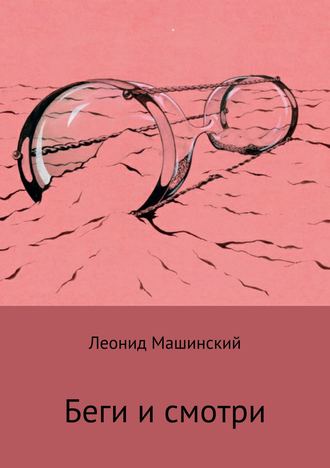
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Птичка пела внутри, в кроне дерева. Наверное, там у неё гнездо. Если только не посадили туда какую-нибудь поющую и – чем чёрт не шутит? – по совместительству истребляющую насекомых машинку.
Я долго мялся, прежде чем перешёл на ту сторону дороги. Эту дорогу, в которую упёрлась благоустроенная пристанционная тропинка, и впрямь можно было назвать просёлочной, потому что она было грунтовой, хотя и достаточно хорошей грунтовой, утрамбованной гранитной крошкой или чем-то в этом роде. Но даже такого я никак не ожидал здесь увидеть. Всё-таки это слишком напоминало оставленный дом. Да и забор вполне мог сойти за русский, те же доски, даже, кажется, смолой пахнут. Да неужели они их как следует не выдержали? Нет, в это уж я никак не могу поверить – наверняка, какой-нибудь ароматизатор.
А яблоня-то – настоящая? Мне ужасно захотелось подойти вплотную к забору и потрогать пальцами хотя бы один листочек – не пластмассовый ли, да и забор поковырять было бы желательно. Но ждут ли меня здесь? Поймут ли меня правильно? Это ведь в больших городах, может быть, ко всему привыкли, а здесь, можно сказать, дикая степь. Небось русских отродясь не видели. Ну что ж, буду первым – рискну. И я, как новый русский пионер на Западе, несколько неуклюже перепархиваю на ту сторону дороги. Даже пыль поднялась из-под пяток – ну прямо не Америка, а…
Птичка пела. Несмотря на моё приближение, которое она не могла не почувствовать, она продолжала петь и даже стала петь ещё громче. Это и понятно – она пыталось отпугнуть непрошеного гостя от оберегаемого ею гнезда, она намекала, что это место занято. Но я ей был не соперник, не самец того же вид, не кот, а лишь человек, зачарованный звуками. Нормально ли, что мы находим удовольствие в слушанье птиц? Почему-то считается, что нормально.
Я, затаив дыхание, сделал ещё несколько неуверенных шагов и наконец дотронулся до забора. Он был деревянный, настоящий деревянный с липкой смолой, наверное сосновый или что-то около того. Может быть, у них тут строят заборы из секвойи, которая как сообщает Обломов, живёт пять тысяч лет? Есть ли у секвойи смола?
Наряду со знакомым запахом хвои (хвои – секвойи?) и песня была знакома… Неужели соловей?! Да нет, я сразу отмёл это ни на чём не основанное нелепое предположение – яблоня, соловей – это уже слишком – как будто и не Америка, а…
Впрочем, мысли мои явно блуждают по кругу. Слушай и понимай, если это вообще возможно. Так сказать – внимай. Да, это всё-таки соловей. Я утверждаю это, но самому это кажется кощунством. Откуда в Америке, спрашивается, взяться соловьям? Завезли? Тайно воруют у нас где-нибудь под Курском? Или скупают у бессовестных отечественных предпринимателей? Нет, наши соловьи поют по-другому. Но тут может быть своя раса. Раса Майера. Или всё-таки наши? Так-так. Всё-таки чего-то не хватает для полноты картины. Может быть, другой вид?
Я вспомнил. Точно. Виргинский соловей. Опять-таки, к стыду своему, не могу воспроизвести на латыни. Виргинский соловей – это всё, что я вспомнил, два слова, родовое название и эпитет – если только не ошибаюсь. Но чем отличается виргинский соловей от нашего? Ясно чем – поёт он по-другому. Всё встало на свои места. Я даже заулыбался, несмотря на то, что на фоне всех этих событий продолжал хотеть пить и пи'сать. Яблочко бы что ли сорвать с этой яблони, но должно быть ещё не созрели – весна всё-таки. А не цветёт. До самого низкого листика я так и не дотянулся – всё снизу подрезали, гады. Или – если это искусственное – то сделано, чтобы крона для ощупывания была недостижима. Но траву-то под ногами я теперь вполне мог потрогать ругой – можно даже рискнуть и пожевать, если окажется, что она настоящая.
Я попытался поднять ногу, чтобы встать поудобнее, намереваясь затем присесть не корточки и разобраться с травой. Но что-то помешало мне. Какие-то ремни сдерживали движение одной из моих ног – не иначе, попал в капкан – допрыгался! Вторая нога правда ещё сохраняла подвижность, но затекла. И долго мне так стоять? Тут я потерял равновесие и начал падать, невольно натягивая невидимые тяжи, сцепившие мою левую ногу. Страшно мне стало уже давно, но теперь пришла пора ужаснуться по-настоящему: из высокой травы прямо передо мной вдруг стали выглядывать, раньше каким-то образом скрывавшиеся там и бывшие совершенно незаметными, собаки. Та, что была ко мне всех ближе, очень напоминала таксу, отличаясь от тех, которых я видел на родине, лишь огромной величиною зубов и в частности клыков, прямо-таки не помещавшихся у неё в пасти, – этакая саблезубая такса. От этих зубов до моей пойманной штанины было не больше двух с половиной метров. Я всё-таки устоял на ногах, хотя голова у меня кружилась так, будто я без страховки прохаживаюсь по канату над пропастью. Я схватился за голову и прикрыл ладонями глаза. Но теперь я совершенно отчётливо слышал, как такса рычит, рычит на фоне непрекращающегося идиллического пения птички. Я уже почти простился с ногой и – во всяком случае – со штаниной. Таких ужасных собак мне ещё не приходилось встречать, трудно было поверить, что эти теплокровные крокодилы способны выдерживать вес собственных перенасыщенных зубами голов. Головы у них и правда клонились долу, с языков сочилась клейкая, блестящая на солнце слизь.
Собак в траве, в непосредственной близости передо мной, было не меньше десятка. Все они возбудились и встали на ноги, когда я случайно потянул за постромки. Их стало видно, но они не могли толком сдвинуться с места, что и объясняло, почему они немедленно не атаковали. Не будь у них какого-нибудь крепежа, какого-то сдерживающего фактора, они бы уже непременно сожрали меня, обглодали бы как пираньи. Глядя на их злобные и одновременно глупые (что нашим таксам не свойственно) вытянутые морды, я никак не мог сомневаться в их кровожадности.
Но как же теперь мне быть? Пробуя выбраться из силков, в которые я угодил, я могу ненароком освободить и собак, и тогда… Значит стоять и ждать, пока кто-нибудь мне поможет? Через два часа, нет, уже через час и сорок две минуты я должен быть на станции, чтобы встретить свою даму! Пока никаких хороших мыслей в голову не приходило. Попробую облокотиться на забор и послушать птиц. Авось, медитируя подобным образом, я приду к какому-нибудь удовлетворительному решению.
Солнце шпарило нещадно. Пот стекал у меня с макушки и, протекая между лопатками маленьким ручьём, впадал в штаны между ягодиц. Да, я в шортах, – так что можно не волноваться насчёт штанин, их попросту нет – просто застарелый страх, рефлекс – глодать, если что, будут стразу ногу. Хорошенькое утешение! И вся задница мокрая! И пи'сать – всё равно хочется!
Собаки рычали, шевелились и шевелили головами и хвостами былинки и тёмно-зелёные мясистые листья трав, в которых они так удачно до поры укрывались от моих взыскательных глаз. Птичка пела. Или – как мне начало казаться – наигрывали какие-то бубенчики-колокольчики, которые были неясным образом соединены с сетчатой попоной удерживающей в шахматном порядке собак. Неужели, всё это придумано только для того, чтобы подать хозяину сигнал об опасности? Это какой-то бред! Я бредил. Наверняка. Ещё бы – такое солнце. У меня, вероятно, солнечный удар.
И всё-таки: птичка это пела, колокольчики звенели или это звенело у меня в голове? Я слушал птичку и никак не мог отделить её пение от всего остального. И была ли птичка? Эти звуки начинали приобретать зловещий оттенок. И как я мог принять её за соловья? Это пропеллер какой-то… Нет-нет, виргинские соловьи так и поют… Откуда я знаю? Может быть, друзья давали мне прослушивать в гостинице запись? Ну да, там шумел вентилятор или кондиционер, поэтому мне и запомнился шум, этот пропеллер…
Насколько, спрашивается, наше бытие творит объективная реальность и насколько оно обусловлено тем, что происходит у нас в сознании? Я близок был к тому, чтобы потерять сознание. Элементарный перегрев. А может, у меня начиналось какая-нибудь заразная болезнь, американская. При всей местной стерильности – я ведь лишён иммунитета к местным микробам. Может, собаки меня заразили? Или птичка?
Я застонал, пытаясь переминаться с ноги на ногу, что мне не очень-то удавалось. Я уже не открывал глаз и изо всех сил сжимал веки, словно намеревался протолкнуть глазные яблоки вовнутрь, чтобы там проснуться. Тут мне послышался скрип калитки и я почти равнодушно подумал, что это предсмертные эффекты – поскольку в Америке никогда и ни в коем случае не может быть скрипучей калитки.
Калитка оказалась прямо рядом со мной, приоткрывшись, она толкнула меня в плечо, и я опять чуть не упал. Поколебавшись, я всё-таки открыл глаза и, когда от них отлила лишняя кровь, никого не увидел. То есть – либо калитка открылась сама, например от ветра, либо кто-то открыл её и поспешил спрятаться. Версия с ветром была очень подозрительной, поскольку американские калитки наверняка прочно должны были закрываться изнутри. Вторая же версия пока ничем не подтверждалась. Птичка при открытой калитке стала петь ещё сильнее, или её ещё лучше стало слышно. Я наклонился, насколько мог, и заглянул в сад, ибо это был сад и ничто иное, американский сад. Узкая, в одну плиту, тропинка пологой короткой дугой вела к невысокому крыльцу – совсем как у нас на даче у какого-нибудь мелкого буржуина. Там, ближе к дому, лежала густая, спасительная тень. Мне даже показалось, что я смогу ощутить ладонями её вкус и запах, что-нибудь похожее на изабеллу. Ну да, ведь изабелла – американский вид, американский виноград – как и виргинский соловей. Я осмелел. А куда мне было деваться? Я захотел позвать хозяина, чтобы он помог мне освободиться. Человек ведь всё-таки. Надеюсь. Я шёл ва-банк. Я стал кричать, одновременно пытаясь, уже более активно, выдернуть из силка пойманную ногу, – может, это всё-таки не так безнадёжно? Собаки, было притихшие, угрожающе зашевелились. Стоит одной из них сорваться, и… Лучше бы сорвался я. Жёлтые, коричневые и пятнисто-чёрные, эти саблезубые таксы не производили впечатления чистой породы, какие-то неустоявшиеся эксперименты – не иначе, эволюцию ускоряли искусственно. Может, здесь где-нибудь неподалёку местный Чернобыль? Это многое объясняет.
Паче чаяния, скоро у калитки появился человек. Я не заметил, как он подошёл – точно специально подкрался. Хотя слово «подкрался» плохо вязалось с крупной одутловатой фигурой старика. Ему было явно за семьдесят, а может быть, и за восемьдесят. Грязноватая седая щетина, красные прожилки на подбородке, а сам подбородок блестит, будто смазанный жиром – не своим, выделяющимся вместе с потом, не то оставшимся от недавно употреблённой пищи.
Я опешил, увидев старика рядом с собой. Он же смотрел на меня, хотя и с лёгким удивлением, но совершенно спокойно. Во всяком случае, стрелять или гнать меня палкой она явно не собирался. В его глубоко упрятанных глазах можно было при желании отыскать сочувствие. А у меня было это желание.
Я открыл рот, но понял, что с дедом нужно разговаривать по-английски. Что я должен ему сказать? Зачем я собственно его позвал? На какое-то мгновение я забыл даже слово «help», которое скандировал минуту назад, а вкупе с ним и международное «SOS» – эта аббревиатура тоже, кажется, имеет английскую основу… Но не об этом надо было сейчас думать! Я начал краснеть и от стыда снова терять равновесие. Небось смотрит на меня сейчас, как на полного и окончательного дурака! Так пасть в глазах какого-то американского пенсионера! Но я ещё не пал, нет, хотя и собирался, нужно было что-то сказать или хотя бы показать на пальцах, чтобы как-то разрядить обстановку. Странно, что ото всего этого у меня тогда не случился апоплексический удар. Дед почти не улыбался, а может и улыбался, но только тихо-тихо – этакая Джоконда. А я…
– Ду ю спик инглиш? – сказал я.
Дед поднял на меня усталые, вымученные жизнью глаза.
– Ай эм ин… – я всё никак не мог припомнить, как по-английски будет ловушка, хотя раньше знал, точно знал!
– Хэлп ми плиз… Фри ми! – нашёлся я.
– Yes, yes, – закивал дед.
Он наклонился с неожиданной грацией и поковырял в траве, в районе моей ноги, обеими руками. Я почувствовал его манипуляции сквозь мысок сандалии, но очень лёгкие, словно у меня по ступне бегал паук. И хотя по коже побежали мурашки, скоро я почувствовал, что могу двигать левой ногой.
– Плиз … – сказал я, ошибшись от радости. То есть сэнк ю! Вэри мач!
– Yes, yes, – опять покивал головою дед, после того, как разогнулся со скрипом. У него явно что-то не в порядке было с коленками – может, вообще протезы – жертва войны и всё такое – Вьетнам.
– Yes, Korea, – похлопал себя дед по левому колену, мысли что ли читает? Мне стало немного страшно, хотя я и мог теперь же убежать, собаки всё ещё оставались в опасной близости. Может быть, отцепив меня, он и их освободил?
Птичка пела и заливалась за дедовским забором. Солнце, не отгороженное никакими облаками, выжимало из нас сок, как из каких-нибудь диковинных уродливых фруктов.
– Гив ми плиз сам дринк, – попросил я, надеясь, что он поймёт меня.
Дед задумался – то ли не понял, то ли глуховатый – это тоже очень вероятно, имея в виду возраст. Но слухового аппарата нет.
– Oh, yes! – нашёлся дед и расплылся наконец в ортодоксальной улыбке. Зубы точно искусственные – интересно, фарфор или пластик…
Он жестом пригласил меня в калитку. Я протиснулся, чуть не толкнув его в потный живот, марая спину об смолистый забор, чтобы быть всё время лицом к ненавистным собакам. Одновременно я поглядывал и щупал ногами, нет ли где поблизости камня – всё-таки какое-то оружие.
Пока мы шли по тропинке внутри сада, я всё пытался в уме сформулировать вопрос насчёт того, откуда взялись и какую функцию выполняют пресловутые собаки.
– А ю э бос оф виз догс? – решился я спросить около крыльца.
Он опять посмотрел на меня прищурившись, будто взвешивая. Казалось, все слова он пропускал мимо ушей, но ловил что-то ещё и из этого делал выводы.
Не помню, что точно он ответил, но я каким-то образом понял, что эти собаки принадлежат некой пожилой даме, одной из его соседок, и, вероятно, подружек, и что она их таким весьма своеобразным образам выгуливает. Он сам был недоволен тем, что в этот день эта неуправляемая собачья упряжка прибилась именно к его забору. Дама, хозяйка собак, отличается мизантропией, и время от времени, не особенно интересуясь мнением остальных жителей деревни, начинает проявлять излишнюю активность по охране здешнего порядка. Это и понятно – полицейского днём со огнём не сыщешь на сто вёрст вокруг (это, конечно, преувеличение!). Правда, нет и откровенных преступников, но любой прохожий может быть потенциальным. На всякий пожарный случай – лучше всё-таки подстраховаться. И засада из собак в траве – как раз то, что нужно – они могут защитить всю деревню. И даже если кому-то из жителей не нравится сама задумка и чрезмерное проявление инициативы, судить они будут по результатам, когда наконец в расставленные силки попадётся какой-нибудь растиражированный в печати маньяк или банальный домушник, которому, однако, тоже нельзя давать волю, чтобы не заматерел.
Как я всё это понял – и сам не знаю, ведь говорил-то мой собеседник по-английски.
– Но почему они не лаят? – спросил я.
– Это особая порода, – ответил дед.
Я опомнился, что спросил не по-английски, но он, кажется, тоже… Нет, не может быть! Наверное, он сказал что-нибудь вроде «This is a special kind». В общем, в голове у меня всё перемешалось, – от перегрева, от жажды и от разнообразных обрушившихся на неё эмоций. Кстати, лаят или лают? Никогда не мог запомнить. И тот и другой вариант читаются как-то странно. Чего-то в этом не хватает. Странное, короткое слово. В английском очень много коротких слов…
Дед куда-то исчез, но дверь передо мной осталась открытой. Вот она хвалёное американское гостеприимство! А впрочем, кто его хвалил? Но он выражает мне таким образом доверие. Что тут плохого? Он вовсе не похож на свою соседку, сумасшедшую тётку, которая всех готова заесть своими замечательными собаками. Да, люди везде разные, бывают плохие и бывают хорошие. В этом какая-то неизбывная пошлость, неизбывная пошлость бытия. Но ведь она удобоварима и даже приятна на вкус. Пребываем в приятности и покое, в тени садов у хорошего доброго человека. Птичка на ветке рядом поёт и не прячется. Аж в ухе уже звенит от этой птички.
И вот я ступаю под сень чужого дома. Нет этот домишко совсем не похож на замок коварного людоеда. Что-то он мне напоминает, что-то очень-очень далёкое – может быть, жилище моего прадеда, в неизвестно во что теперь обратившемся, Запорожье?
Но здесь всё, конечно, шикарнее – навес над крыльцом оплетает дикий виноград. Даже и не дикий, а изабелла, да, это изабелла. Потому-то меня так и тянуло в эту тень. Можно даже пощипать ягоды. Незаметно. Впрочем, очень мелкие. Всё же диковатый. Неухоженный. Всё здесь неухожено. Не очень ухожено. Оно и понятно, хозяин ведь стар. А социальные службы?
Я попробовал одну ягоду и выплюнул, дед опять скрипел по старосветским половицам мне навстречу. Крыльцо, не то прогнившее, не то проеденное какими-нибудь термитами, опасно подавалось под ногами. Но старик тяжелее меня и пока не провалился. Может, он полый внутри?
– Welcome! – поманил меня пальцам дед.
С ума сойти! Вперёд вёл коридор, застеленный ковровой дорожкой. В русских лучших деревенских традициях! И те же грязно-бордовые тона с продольными зелёными полосками. От этого странного зрелища у меня потемнело в глазах. А может, я просто впервые за последние полчаса ступил в настоящую тень.
Потом мы сидели на кухне, и дед кормил меня супом, похожим на окрошку и поил чаем с лимоном, холодным, но всё же недостаточно холодным, чтобы можно было сказать, что он в истинно в американском духе.
Я почувствовал себя совсем уютно, когда мои ноздри привыкли ко всей гамме запахов этого дома. Самым удивительным тоном в этой палитре была моча. От старых людей часто чем-нибудь приванивает – не всегда успевает или забывает сменить трусы, а может быть, не очень-то и хочется – кого тут стесняться? Но это не то. Моча в сочетании с разными другими компонентами даёт совершенно разные и неожиданные ароматы, и воспоминания, которые они пробуждают собственно тоже очень разнятся.
Всё здесь, в доме, было совсем не так, как я мог бы представить и нарисовать, пользуясь своей убогой фантазией, которая могла опираться только на просмотренные фильмы и на прочитанные книги. Как должен изнутри выглядеть американский дом? А русский? Может быть, все мы живём в плену мифов, и потому не понимаем друг друга? Американцы уже давным-давно стали в своём обиходе походить на русских, а мы только учимся походить на американцев. Но на каких американцев? Где мы берём эти образцы и эталоны?
Всё мне напоминало деревенские дома моего детства. Конечно, не было печки – тут и так жара. А в остальном… Самое изумительное обнаружилось под умывальником, на кухне. Это было ведро. В такое ведро за неимением водопровода стекает вода, используемая для помывки в русских деревнях. Туда же выкидывают и всяческие другие жидкие и легко разлагающиеся отходы, вроде, например, овощных или фруктовых очисток. Туда же по ночам мочатся, если на улице холодно или ненастно, или если просто лень выйти. Больные и малые дети мочатся само собой. Обычно в ведре плавают какие-нибудь обрезки огурцов, спитой чай и… Вот этот-то коктейль и ударил мне знакомой волной в ноздри. Я ещё не видел ведра, но сидел рядом с ним за столом и угадывал его присутствие.
Дед мыл сливы для меня, и вода, журча, стекала в металлическое (явно металлическое!) ведро. От всплесков запах усиливался. А птичка все пела где-то за стеной, хотя теперь это пение становилось каким-то нереальным. За разбитыми на квадраты рамами окна шумела и играла светотенями какая-то широколиственная растительность. Кусты словно наклонялись и на мгновение приникали к стеклу, стараясь рассмотреть кто там, используя для этого широкие листья, как внимательные пальцы.
Пахло и сливами, свежими сливами вкупе со всем остальным. Я почти заплакал, когда различил ещё и запах укропа. Закрою глаза и останусь здесь, и буду слушать, как шумит за окном американский ветер.
Дед осторожно потрогал меня за руку, я вздрогнул. Он указал мне пальцем на мои наручные часы и я понял, что рассиживаться здесь слишком долго мне не придётся. Я и так уже, похоже, злоупотребил гостеприимством. Интересно, сколько получают в месяц вот такие американские деды? А то, может быть, им ещё можно позавидовать…
Пока мы общались с ним, он будто помолодел. Глаза оживились и словно поменяли цвет, они стали светлее, я заметил, что они серые. Наверное, он рад был нежданному гостю, одиночество ведь в конце концов надоедает, даже если к нему очень сильно стремишься. Даже какому-нибудь завзятому йогу-отшельнику иногда до смешного хочется с кем-нибудь поболтать. Таков, человек.
Но не будем же мы проливать беззвучные слёзы, уставившись друг на друга. Что это за слюнявая сентиментальность? Или это песня о дружбе народов?
Я допивал чай и посматривал одним глазом за окно, на шевелящиеся листья, а другим на деда, который поставил только что передо мной на стол вымытые сливы. В блюдечке. У меня всё-таки выпала слеза, как грыжа из глаза. В таком или почти в таком блюдечке мне когда-то вполне могла поднести сливы бабушка.
Дед закивал головой, как китайский болванчик. Неужели у него начинается паркинсонизм?
– Сит даун плиз! – сказал я, заметив, что у него дрожат ноги.
Он тяжело опустился на стул рядом со ней. Вся мебель в доме не то рассохлась, не то, наоборот, отсырела и грозила развалиться, но не разваливалась пока. Возможно, это произойдёт в один момент, и всё обратится в прах. Всё изнутри съедено термитами или муравьями. Но всё это уже когда-то было… Вот именно.
– Вы со'лите огурцы? – спросил я по-русски.
Он никак не отреагировал и только с запозданием виновато улыбнулся, что, мол, пропустил вопрос. Наверное, ему было плохо – что-нибудь с сердцем или с сосудами. Он побледнел, на пятнистых висках выступила крупная испарина. Но почему здесь нет кондиционера или хотя бы вентилятора? Тоже мне Америка! А может быть, здесь электричество слишком дорогое?
– Вотс вронг? – нашёлся я.
– Nothing, – ответил он, тоже как-то удивительно совсем по-русски.
Ему и правда уже полегчало, снова появилась розовость на испещрённых склерозом скулах.
Время всё-таки ещё было, и он принялся мне объяснять разные вещи, касающиеся деревни, окрестностей, станции и заповедника, или, как тут у них это называлось, национального парка, который начинался сразу по другую сторону от железных путей. Я не всегда его понимал, но не оттого, что он говорил по-английски. Говорил он очень отчетливо – прямо таки оратор – закатывая мне каждое слово в ухо, словно какой-нибудь гулкий бильярдный шар в лузу. Просто слишком многое сейчас приходило мне на ум и отвлекало от текущего момента. Квадраты стёкол выходящего в сад окна напоминали мне стёкла какого-то чудовищного калейдоскопа, в котором барахтался и я сам, вскрикивая и кряхтя при поворотах цилиндра, – вокруг же раздавался сухой звон стекла. Или же я находился в гигантской паутине, в одном из её узлов, и дёргался как муха, и всё дрожало, и с паутины падала капля, свисая как атомная бомба, и, чтобы не слышать звука падения, я закрывал глаза и зажимал уши. Эти странные видения уводили меня слишком далеко от реальности. Но мне было приятно вернуться и вновь увидеть перед собой ставшее уже почти родным лица старика.
Он опять потрогал меня за руку, вернее положил сверху свою старческую руку на мои пальцы.
Я понял, что пора идти. Он вызвался меня проводить. Я отнекивался, но он сказал, что ему полезно ходить пешком и даже хорошо, что есть какая-то особая цель для прогулки. Тут, в городке, всё развлечение – ходить на станцию и смотреть на проходящие поезда. И это мне тоже что-то напоминало.
Я долго благодарил и кланялся, а дед кивал. Я так долго кланялся, что даже испугался, что тоже заболею паркинсонизмом.
На тропинке в саду я оглянулся на птичку. Она всё пела, напрягая маленькое горлышко. Горлышко было какое-то желтоватое. Нет, это был не соловей. Хотел спросить деда, но понял, что уж точно не знаю, как по-английски соловей. Надо было больше поэзию читать, какого-нибудь Китса, в оригинале. Или Шекспира… Ведь читал, а ничего не помню. Там соловей замолкает летом, а этот? Но раз такая у них весна…
– Бёрд? – только спросил я у деда.
– Bird, bird… – с готовностью закачал он головой.
С таким же успехом я мог бы спросить «Три?» или «Сонг?». Всё равно в каком-то смысле мы бы друг друга поняли. А был ли смысл в других смыслах?
Опять-таки пришлось проходить мимо собак. Та сетчатая конструкция из ремней, которая их, к счастью, сдерживала от нападения, теперь стала мне более ясна, хотя далеко не до конца. Я ухитрился попасть ногой в одну из петель и в общем-то мог сам выбраться на свободу, если бы не так испугался. Собачки могли бы сдвинуться с места и всем кагалом наброситься на меня, если бы их не удерживали, вбитые в землю и почти не видимые в траве, колышки. Они гуляли, как у нас часто гуляют коровы или козы, – на привязи. Впрочем, гулянием это трудно было назвать – они едва могли передвигать ногами – только приподняться и опять лечь или полуприсесть – кожаная сеть не выпускала их высоко, хорошо ещё – у такс короткие ноги. Оставалось загадкой, почему экстравагантная дама выбрала для расположения своих собак участок явно принадлежащий не ей, примыкающий к чужому забору. Единственное объяснение – потому, что он ближе других к дороге, ведущей от станции, откуда преимущественно и ожидались злые чужаки.
Моему благодетелю тоже явно всё это не правилось. Я хотел у него попросить ещё водички в какой-нибудь бутылке, с собой, но не решился из ложной скромности. Впрочем, мне почему-то не хотелось поить дедовской водой прибывающую ближайшим рейсом мою подружку. У меня в душе была к ней лёгкая враждебность. Что она мне сделала? Отчего-то я не хотел об этом думать. Лучше слушать, как поёт виргинский соловей, смотреть, как сверкают на солнце клыки саблезубых такс, и улыбаться. Примчавшийся с улицы ветерок имел отчётливый привкус полыни, я и этой горечи улыбнулся. Растёт ли в Америке полынь?
Дед ходил аккуратно и бесшумно, как слон. Я вспомнил о его больных ногах. При каждом шаге казалось, что его ноги сейчас подкосятся, а то и вывернутся коленками назад, как у кузнечика. Но этого, слава Богу, не происходило, раздавался только пластмассовый хруст. С протезами, говорят, даже бегают марафоны… М-да… У того, у кого нет ног, существуют особые стимулы к бегу.
Станция приближалась. Дед сзади спускался так осторожно, точно под его подошвами были не бетонные плиты, а залитая льдам детская горка. Уклон был небольшой, он не поскользнулся и не упал, я даже не успел подать ему руку, как он очутился рядом со мной на явно безопасном месте.
Поезд уже подходил. Звук, который он издавал при этом не вызывал у меня никаких новых ассоциаций. Я почему-то вспомнил про птичку и оглянулся, за стуком колёс её песню уже не было слышно.
Мы немного опоздали. Когда я оказался на платформе, двери вагонов уже стали закрываться. П-ф-ф! – сработала ничем не отличающаяся от нашей пневматика.
Метрах в двадцати от меня стояла молодая загорелая женщина, действительно загорелая и действительно в солнцезащитных очках. На ней был цветастый топик и узенькие джинсы, наверное боялась ободрать поклажей коленки и потому не надела шорты. Вокруг в живописном беспорядке валялись какие-то не совсем понятные крупные предметы.
При моём приближении женщина всплеснула руками, затопала ногами и стала причитать. Поезд тем временем зачухал с глаз подальше и вскоре исчез.
– … был? – услышал я конец вопроса, когда это стало возможно.
Старик в это время только ещё, пыхтя, взбирался на ступеньки платформы. Я опередил его бегом, предчувствуя расплату за несвоевременную явку.
– Ты слышишь меня? – спросила она.
– А? – я снова повернулся к ней, оторвав сочувственный взор от ковыляющего к нам старца.
Больше на платформе и в здании станции, кажется, никого не было. Даже птиц или собак.
Вдруг наступила зловещая тишина, только едва заметное дедовское шарканье. И соловья не слышно.
Звякнул и покатился упавший на бок баллон для подводного плавания. Я с некоторым неудовольствием осознал, что мы именно для этого сюда приехали. Я подставил ногу, чтобы баллон не рухнул на рельсы.
– Ловкач, – сказало подруга.
Я всё никак не мог разглядеть её получше. Какая она? Да и следовало ли так уж пристально разглядывать? Купаться так купаться.
Я познакомил её с дедом. И она вроде бы слегка смягчилась. Она весьма и весьма приветствовала всяческое общение с местным населением. И по-английски она говорила не в пример лучше меня, у нас бы сказали «владела в совершенстве». Так, что они сразу же запели на два голоса, а я едва поспевал улавливать хоть какую-нибудь суть из их ускоряющегося галдежа.
Она первым делом пожаловалась, какой я недотёпа, и извинилось за меня, а потом сразу рассказала страшную историю о том, как ей пришлось настрадаться, пока она тащила все эти штуки сюда одна. И если бы не милый молодой человек, с которым она случайно познакомилась в вагоне (это упоминание, очевидно, должно было вызвать у меня реакцию равности), то ещё не известно, сумела бы она выгрузиться на этой платформе. Во всяком случае, часть инвентаря она точно бы повредила, выбрасывая его как попало на перрон. Но молодой человек помог ей выгрузиться, а машинист (может, это был автопилот?) любезно подождал, пока она не заберёт все свои пожитки, и не отчаливал и не закрывал двери, рискуя нарушить график и получить нагоняй от начальства, пока не убедился, что с высадившейся пассажиркой всё в порядке. Такое внимание! Ещё бы, она тут у него была одна пассажирка. Ездит ли вообще ещё хоть кто-нибудь в этих поездах? Разве что милые молодые люди…
Дед же, увидев наше снаряжение и уяснив таким образом цель нашего прибытия, принялся с жаром объяснять по какой такой причине интересно для исследования дно именно этой бухты. Всё это я уже слышал на кухне, но пропустил мимо ушей. Подруга же моя была само внимание. Американцев она всегда слушала, раскрыв рот и распахнув глаза. Надо ей, что ли, посоветовать очки снять – а то кто оценит? Интересно, она в самом деле всего этого не знает или из вежливости? Даже я этого не могу понять.
Я уже совсем перестал понимать, а чём они говорят. Было очень жарко, только что перевалило за полдень. Я почувствовал, что очень устал и мне захотелось сесть, но на платформе, как на зло, не было никаких скамеек. Тоже мне забота о людях! Я мог бы присесть на один из наших рюкзаков, но не решился, боясь попасть под очередной град уничижительных реплик. Лучше буду слушать птичку, её опять слышно, она поёт там, далеко, в дедовском саду. Птичка и ветерок – вот мои друзья. И зачем всё время париться на солнце? К чему весь этот загар? Сами ведь американцы говорят, что она вреден…







