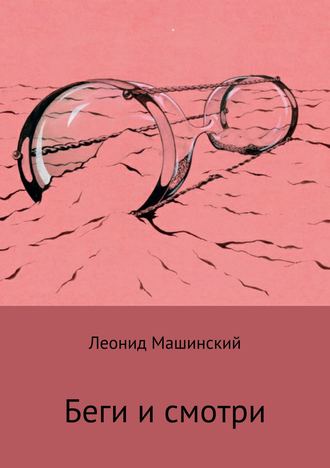
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Создаётся впечатление, что некая высшая сила придумала этот фокус с колесом для забавы и в назидание человекоподобным, которые должны были ещё только появиться и это колесо воспроизвести. Речь не идёт о предустановленной гармонии. Скорее тут – предустановленная дисгармония. Дорога в колесе не ведёт никуда, труд и время тратятся зря. Белка в колесе – символ тщеты, который предположительно может быть понят не только человеком, но и другими животными.
Но, может быть, это только игра? Обыкновенно не делающая лишних движений, кошка любит играть. Большинство млекопитающих склонно поиграть и порезвиться в детстве. Говорят, что таким образом они обучаются. Это похоже на правду, но кошки и собаки, развращеннее человеком, играют всю жизнь. Это уж явно бесполезно. Значит, они получают от этого удовольствие? Об удовольствии всё, пожалуй, знал только Фрейд. Ну, до него ещё и Шопенгауэр – он полагал удовольствие в отсутствии страданий. Я не замечал, чтобы кошки страдали от скуки, но они играют…
А как можно объяснить склонность всех человеческих детёнышей к каруселям. Когда быстро крутишься, что-то такое происходит в мозгах – перераспределение крови, перегрузка – тоже мне удовольствие. Может быть, у человека этот самый ГСК тоже пребывает в не совсем уж спящем состоянии? Может быть, из его активного присутствия вообще можно вывести само изобретение колеса? Когда дети пытаются покатать на каруселях тех же кошек и собачек, те не могут разделить их радости и поспешно соскакивают с круга по касательной. Лица у них при этом испуганные и недовольные. Вот поди ж ты, то, что хорошо для детей, совсем не так уж хорошо для их любимых друзей и питомцев. Старички, правда, тоже не очень-то обожают карусели. Но котята в этом отношении выглядят старичками от рождения, хотя – предложите им бумажку не нитке.
Детям уподобляются, например, вращающиеся дервиши, которые доводят себя до исступления, упорно и монотонно кружась на месте. Я сам в детстве любил кружиться, а ещё больше любил и просил, чтобы отец покрутил меня вокруг себя, держа за руки. Мне очень нравилось, что я терял ориентацию, когда после вращения вновь вставал на ноги. Иногда я даже падал, но, и ушибившись, был доволен, что всё так здорово и необычно получилось. Что же испытывает белка, когда она наконец выходит из своего колеса? Не получает ли она что-либо вроде озарения, как заправский танцор-суфий?
Все так называемые извращения вполне возможно отыскать в дикой природе. Тут – в отличие от колеса – человек не придумал ничего нового. Может быть, такая вещь как сознательное введение себя в транс, в какой-то мере присуща и другим, как мы любим говорить, менее организованным животным? Что делает обычно кошка, сидя на подоконнике, если не медитирует? И не возносит ли по сотне раз на дню порядочная собака молитвы собственному хозяину? Но тут мы опять попадаем в ловушку очеловечивания не совсем подобных нам существ.
Разумеется, колесо для белки – это не буддистский барабан, но и не тренажёр. И не карусель всё-таки, наверное. Тогда что? А может быть – все эти три вещи сразу?
Как сложно устроена природа, если твари была сообщена способность к этакому многоцелевому действию, причём в таких условиях, которые можно было лишь предвидеть. Может быть, для самой белки и нет никакого смысла во вращении колеса? Может быть, подразумевались именно те, у которых только со временем это колесо и могло оказаться? Т.е. белка в колесе – это шоу по преимуществу, и ничего более?
Итак, зачем бы на самом деле грызун ни крутил предложенную ему вертушку, мы имеем повод для медитации. А уж кто что' понимает под этим словом – это кому как нравится. Одни – на западный лад – соберутся как следует подумать, а другие – на восточный – наоборот постараются остановить все и всяческие мысли.
Созерцание вертящегося колеса, и в самом деле, может вызвать гипнотический эффект. Если кто-то видит в медитации пользу, тут она – налицо.
А ещё белка в колесе похожа на змею, кусающую себя за хвост. Вот вам, кстати, колёсоподобный символ, который, похоже, объявился среди людей задолго до колеса. Собачки (да и кошечки иногда) тоже бывают не против пострадать этим самым за-своим-хвостом-гонянием.
Круг – это символ бытия, а белка – символ человека в этом бытии. Или, может быть, это само бытие, суча лапками, вращает опустошённого человека как круг? Но белка входит в колесо и выходит по своему желанию или ещё по какой-то неизвестной нам причине. Она не умирает от переутомления в своём излюбленном снаряде. Разве что, белка сойдёт с ума – бывают ли бешенные белки? Белка не забывает поесть, попить и поспать. Только когда все более или менее значительные нужды удовлетворены, она вновь принимается за колесо. Т.е. в колесе она всё-таки скорее кружится от избытка, а не от недостатка. Т.е. вращающееся колесо – в таком случае – символ радости жизни. Радость довлеет себе самой, она не для чего и она являет себя в замкнутом пространстве. Но и от радости устают, и белка покидает колесо.
Неужели этому выходу из колеса соответствует наш уход из жизни? Но индусы утверждают, что это только кусочек, крошечный отрезок большой карусели – колеса Сансары. Белка выпрыгивает наружу перпендикулярно оси вращения. Нам тоже представляется, что мы всегда можем тронуться куда угодно по перпендикуляру от своего пути – например, вправо или влево от тропинки или, на лифте, – вверх, а то и под землю. При этом мы постоянно вращаемся, сидя на Земле, вместе с белками и колёсами. А Земля одновременно движется вокруг солнца и центра галактики, и ещё, может статься, по доброму миллиону уже совершенно нам неведомых орбит. Но мы же каким-то образом ухитряемся не падать? Бог создал тварей такими, что у нас не кружится голова и мы даже хотим, чтобы она у нас временами кружилась, ловим кайф от этого.
Когда человек направляется из пункта А в пункт Б, у него создаётся впечатление, что что-то меняется в жизни. В колесе – всё по-честному: ты с самого начала знаешь, что стоишь не месте, но в то же время прикладываешь усилие, чтобы устоять. Есть странная мазохистская привлекательность в попытке заведомо идти никуда. Но от любого усилия, и от этого в том числе, утомляются мышцы и нервы – как бы ты ни напрягался, в конце концов, наступает расслабление, и ты либо выпадаешь из колеса, либо делаешь несколько последних кругов вместе с ним, вращающимся теперь по инерции.
Возможно ли отыскать какой-нибудь вещий смысл в технике белкиного времяпрепровождения? Ведь если пробуждаются гены, то это кому-нибудь нужно…
А может быть, примитивный зверь всё-таки способен на иллюзии, и лента вращающегося колеса для него нечто вроде кинематографа? Не преследует ли он иллюзорно кого-либо, ну, например, полового партнёра? Или же – наоборот – не убегает ли он от кого-нибудь, скажем, от хищника?
Впрочем, плодить гипотезы мы можем долго и остроумно, не находя, однако, окончательного ответа на вопрос, точно так же, как хомячок не может добраться до конца своей внутриколёсной дороги. Не исключено, что он всякий раз и надеется, но мы-то видим, что его усилия тщетны. Может быть, не имея веры, не стали бы зверьки увлекаться колёсами, а человек – науками и искусствами?
Достигнуть края познания нельзя, как и горизонта, а жизнь происходит всегда на краю, там где правит чудо, а не закон. Мухи липнут на живое и разлагающееся – они не едят камень. Нельзя создать совершенное произведение искусства. Совершенство не может иметь конца, и поэтому всякий раз приходится начинать с начала. Никогда не будут рассказаны все сказки.
Беги же, беги, усердная белка! Моё сердце стучит с твоим в унисон. У меня есть надежда, что если я и не достигну цели, то наконец устану и выпаду из проклятого или же, наоборот, благословенного круга. А если и в этом проявится лишь моя человеческая слабость и ничего кроме слабости, пусть это послужит вам в утешение. Я так же бессилен как и вы, и может быть, даже бессильнее многих.
Лёжа вверх тормашками – ноги внутри обода, а голова – на засранных опилках затылком, я наконец спокойно взгляну на небо, пусть и сквозь частые прутья решётки. Может быть, я что-нибудь пойму как раз в этот момент… Может быть. Но если бы я предварительно не бежал, разве я смог бы впоследствии оказаться в таком положении? Закон причинности действует даже в замкнутом объёме колеса.
И всё-таки, чем мы ещё отличаемся от белки? У белки есть хвост, пушистый и красивый. А у нас что-то никакого хвоста на видно. Может, в этом наше горе общечеловеческое, – в утрате всех и всяческих хвостов? Может быть, имеющий возможность шевелить хвостом испытывает неизъяснимое наслаждение? Вот вам ещё один повод, чтобы завидовать животным…
А ещё можно привязать жука, чтобы он летал по кругу. И голуби летают по кругу, и я, заглядевшись на них, поскальзываюсь и сажусь в лужу, и ощущаю отрезвление от мокрых штанов, в которых отнюдь не содержится никакого хвоста.
Дождливый полустанок
«В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности…»
Н. С. Лесков
Я мечтал о книге. О большой книге, о мудрой книге. Не то, чтобы я хотел заповедать человечеству что-то определённое. Мне казалось, начни я писать книгу, всё получится само собой. Необходимо только не мешать ручке двигаться по бумаге – в этом всё искусство.
Но что-то у меня не клеилось. Жизнь проходила, а книга всё не начиналась. Вернее – я тысячу раз начинал её писать, но оказывалось, что это не она, т.е. не та единственно нужная книга, а какая-то другая, которая может и подождать. Да что там, тем книгам которые я пытался писать, лучше бы было и вовсе не начинаться. «Лучшая участь не родиться». Это конечно очень мудро. Но дальше что? А мне хотелось, чтобы всё-таки что-нибудь было дальше, была такая у меня фантазия.
И вот я, как и все другие, стал предполагать, что не получается у меня ни фига потому, что мне мешают обстоятельства. Нет, я не был настолько примитивен, чтобы пенять на отсутствие писательского кабинета и торжественной тишины, беспрекословно создаваемой домашними в периоды моего творчества. Это было бы уж вовсе пошло. Наоборот, я любил хвалиться друзьям, что смог бы писать – т.е., в данном случае, сочинять в уме – даже будучи подвешенным вниз головой за ноги. И это была не совсем пустая болтовня – наверное какой-нибудь стишок я до полной потери сознания таки успел бы сочинить. А потом, некоторые утверждают, что когда в голове больше крови, она работает быстрее. Не уверен в этом и проверять не хочу. Раз обстоятельства меня не заставляют. То-то и оно! Обстоятельства иногда могут помочь именно тем, что они мешают – возникающее препятствие требует преодоления, и, если желание не может быть исполнено – то воля (по Шопенгауэру) может быть обращена на самоё себя. Я, правда, не до конца понимаю, что это значит. Но фигура речи мне импонирует. Я бы выразился так: то, чего человек не может добиться в реальности, он вполне может восполнить в виртуальном мире, как то: в снах, в компьютерных играх, а также сочиняя всяческие небылицы. Самым распространённым жанром внутреннего монолога, вероятнее всего, является смесь слов и образов, которая возникает у индивида во время мастурбации и даже во время привычного полового акта. Все мы в такие моменты склонны утешать себя сказками.
Фрейд называл подобные явления сублимацией, хотя точнее было бы их назвать метафоризацией. В этом смысле – и смерть метафора оргазма, и наоборот.
В конце концов, не всё ли равно, откуда черпать энергию? Так вот, даже если изящное искусство есть всего лишь специфический продукт неправильно используемых половых желёз, будем судить о дереве по плодам его.
Я же никак не мог выдать эти плоды, но при этом мне и в личной жизни почему-то не везло. В карты играть – и думать боялся. Так что всё-таки решил сосредоточиться на одном: книга так книга.
В повседневном бытии всё отвлекало. И не так уж мучил меня и ближних моих вопрос о хлебе насущном, хотя и вставал перед нами время от времени, как игрушечная кобра из ящика. Скорее, сказывалась общая разбросанность жизни. Какие-то пьянки, необязательные встречи, просмотр не очень необходимых фильмов, звонки телефона, ночью – свет в окне напротив, немотивированно плохое настроение жены, головная боль, противный вкус во рту…
Я решил, что меня угнетает город. На надо было мне никаких Парижей, ни Ньюйорков. Мне Москвы хватало – выше крыши. И о джунглях я давно перестал мечтать… И тайга слишком большая… Мне бы в маленький лесок. Но в палатке всё-таки писа'ть не совсем удобно. Особенно, когда уже надвигается осень. А вдруг напишешь что-нибудь действительно прекрасное, и всё это смоют дожди?! Тут, конечно, я опять лукавил сам с собой, но хотелось всё-таки свой зад водрузить на тёплый табурет и иметь дощатую крышку над головой. Это, во всяком случае, казалось мне необходимым для написания прозы. А хотел я написать большой роман. Маленькие-то статьи и заметки можно и в палатке накрапать.
"Давно, усталый раб, замыслил я побег…" Т.е. я о нём думал так давно, что уже не мог даже толком припомнить когда. Помню только, что идея эта преследовала меня с детства. Только тогда я скорее хотел бежать за чем-то, а не от чего-то. Например, привести слонёнка из Индии или отыскать себе каким-то немыслимым образом идеальную пару – водятся же, в конце концов, какие-нибудь нимфы в лесу или не водятся? Теперь я тоже бежал кое-зачем – я бежал за книгой, но и мечта о нимфе мне до сих пор не была чужда. А вдруг? Вознаграждаются же каким-то образом отшельники? Происходят же иногда чудеса?
В общем-то, мне больше не на что было надеяться, как только на чудо – совсем как Сталкеру. Я и был Сталкером – в душе – я ещё только не нашёл свою Зону.
Книга, которую я хотел создать, вполне могла бы за таковую сойти. Я водил бы туда людей и показывал бы им всякие странности. Книга ведь похожа на дверь, на ворота.
А вот для того, чтобы исполнилось желание, надо очень сильно верить. Захочешь увидеть чудо на земле перед собой – и найдёшь его – только вера должна быть крепка как сталь.
Мне как раз и недоставало такой веры. А то бы я уже давно бросил болото повседневности. Жена мне сказала, что в брак вступают только для того, чтобы сидеть в тепле и спокойно кушать. И надо сказать, в её словах была своя сермяжная правда. Как-то мы вдруг перестали умещаться в женою в одном гнезде. Она стала какая-то чересчур большая – как кукушонок – и норовила вытолкнуть меня за' борт. Ей, мол, тесно и жарко, а от меня – одни заботы и нечистоты. Что ж – и то верно.
Пристыженный подобным образом, я тем более засобирался убегать. Не то чтобы мне было куда. Вот с этим была проблема. И не то чтобы совсем не было куда. Но доступные места сплошь были какие-то неудобные, ненадёжные, ненадолго, с заведомым отсутствием привычных удобств, но зато с неизбежным присутствием раздражающих факторов. Так, например, я мог себе живо представить, каково будет жить с мамой, которая будет всякий день требовать, чтобы я не возвращался домой поздно. А мамы без этого просто не могут, будь тебе, непослушному, хоть шестьдесят. Развестись и жениться? – повторить порочный цикл. Напроситься приживальщиком к кому-нибудь из друзей, можно на короткое время, но и за это короткое время можно успеть разругаться. Друзья хороши, когда они на расстоянии.
В общем-то, вопрос не стоял столь остро. Не обязательно было убегать навсегда, необязательно было делать это немедленно. Это расслабляло. А я хотел именно напрячься, сделать последнее усилие, чтобы порвать сковывающую меня паутину.
Бежать следовало подальше, я уже сказал, что предпочтительно – из города. В конце концов, у меня в голове выкристаллизовался образ некоей деревни где-нибудь на окраинах Московской области или в прилежащих к ней областях. Забираться куда-то дальше не хватало духа даже в воображении. Наверно, уже сказывался возраст.
Оставалось только найти бабушку со всеми удобствами, которая согласилась бы мне сдать помещение на неопределённый срок, причём не в дачный сезон – так что я рассчитывал на умеренность в оплате. Мечтал даже, что буду проживать вовсе бесплатно, если вызовусь кормить старушку, колоть дрова и пр. И так и сяк раскрашивал я картинку в своих видениях. Особенно настойчиво мне чудился дым из трубы, даже ощущал его запах. Интересно, какие дрова – берёзовые или осиновые? А то от хвойных – в нос шибает и слёзы текут. Хотя сосновые дрова разгораются лучше.
В общем, план, поначалу лишь в виде скелета присутствующий у меня внутри, обрастал мясом и салом до тех пор, пока не начал напоминать раздувшегося монстра, вроде тех многочисленных американцев, которые оттеняют своих соотечественников, усердствующих в похудении. Мне тяжело стало носить этакий груз. Буквально физически. Это должно было ускорить наступление момента Х, т.е. момента бегства.
Любая победа на Земле носит привкус Пирровой, и я не особенно обольщался по поводу того, что после свершившегося бегства мне станет надолго хорошо. Скорее, я сознательно готовился к трудностям. Но пока они лишь предстояли, и это радовало, возбуждало, как быка красная тряпка, вернее – как вообще любая тряпка, которой вызывающе водят у тебя перед носом… Я хотел действия, но так сильно и долго его хотел, что уставал и ложился спать. К тому же, находилось ещё много всяких насущных хлопот. Деньги были нужны. В том числе – на бегство. Неплохо, если их будет побольше. Всегда неплохо. Словом, я медлил. Хотя медлить было всё труднее, потому что меня изрядно подташнивало от приторности собственного воображения. Может, уже ничего и не надо, а?
Но книга? Это слово должно было воздействовать на меня пробуждающе, но и оно уже не действовало. Что-то должно было произойти: метеорит с неба прилететь, штаны порваться в самое неподходящее время, может быть, даже должен был кто-нибудь умереть, чтобы сдвинуть меня с мёртвой точки. А может, это я должен был умереть? А как же книга?
Но чем чаще я задавал себе подобные вопросы, тем монотоннее они становились. Вместо того, чтобы побуждать к поступку, они меня усыпляли, убаюкивали и, в лучшем случае, инициировали деятельность во сне. Но и там, во сне, я никак не мог добраться до заветной деревни и, тем более, начать писать книгу.
Однажды я проходил мимо вокзала и понял, что, если не уеду сейчас, то не уеду никогда. Конечно, нужно было забежать домой, взять кое-какие вещи. Благо, до дома было не так далеко и там, дома, никого не было. Пожалуй, я не решился бы на побег, если бы там кто-нибудь был.
Когда я уже собрал всё необходимое, мне захотелось включить телевизор и улечься на диван. И подумалось, что в какой-то момент маломальский комфорт действительно становится важнее так называемой любви. О, как мне возжелалось расслабиться! И пускай это выглядело бы как поражение – лежачего не бьют. Каких же сил стоило мне не сойти с избранной мною узкой дорожки! Аж поджилки дрожали. А ведь ещё надо было написать записку, чтобы не волновались.
Я не собирался совершать необратимые поступки, хотя возможно только они способны вызывать фатальное удовлетворение. Нет, я ещё хотел вернуться, – если повезёт. Я был уверен, что смогу вернуться – хоть на пепелище. Ну нет, вот этого, пожалуй, не надо.
В принципе, жена могла догадаться и сама о моих настроениях. Я ей не один раз за последнее время намекал, что возможным решением наших проблем могла бы стать белее или менее продолжительная разлука. Я чувствовал, что начинаю вызывать у неё психологическое отвращение, и не хотел быть ей в тягость. Говорят, что так бывает у всех перед разводом. Но я не собирался пока разводиться. Я думал, хотел думать, что всё ещё наладится. Просто не мог поверить, что всё это может закончиться навсегда раньше, чем кто-нибудь из нас умрёт. Отчего я так цеплялся за этот союз? Бог весть. Но в том, что он распадается, я всем нутром (впрочем, как и разумом) ощущал какую-то глубинную неправильность. Однако, каким образом я мог бы доказать жене свою правоту, если само моё искусство убеждать она была склонна ставить мне в вину?
Я начинал сходить с ума от вынужденного воздержания, а уж обет молчания, живя с нею в одной квартире, мог принять, только заведомо поинтересовавшись, в каком сумасшедшем доме мне удобнее было бы в скором времени поместиться. Я, казалось, готов был во всё поверить и всё принять, но почему-то ни во что не верил и ничего не принимал. Беда в том, что я уже успел убедиться, насколько точно мои предсказания сбываются. Пророком, даже случайным, быть отнюдь не радостно. Дело, наверное, обстоит так, что только сам пророк и может повлиять на ход предсказанных им событий. Но если он по малодушию или недостатку сил этого не делает, всё свершается так, как он видел. В этом, несомненно, чувствуется справедливость, но когда тебе справедливо отрубают голову – разве это намного приятнее, чем когда ты умираешь безвинным?
Я писал записку и поливал её слезами. Мне было грустно и немного страшно. Возможно, я никогда уже больше не вернусь. Свою жизнь я никогда не мог прогнозировать с такой уверенностью, как чужую. Кому понравится этакий пророк? Ветерок смерти щекотал мне затылок. Умирать ещё не хотелось. А кому хочется? Но вот такой уход из дома – это маленькая смерть – покруче всякого там оргазма. Возможно, она мне не простит, не пустит назад. Что ж.
Но если я всё-таки напишу книгу… Нет, наверняка мне уже можно было ставить диагноз. Налицо была сверхценная идея. Психи в первую очередь становятся бродягами. Я всегда был склонен к бродяжничеству – может быть, именно потому, что был не совсем нормальным?
Но с чего я взял, что кому-то уж так должна быть интересна моя личность? Откуда у меня представление, что я гений, способный подарить человечеству, что-то действительно новое? Это уж точно – мания величия!
И однако, даже растоптав себя подобным образом, я буду писать эту книгу. И это будет никому не нужный подвиг. Возможно. Мне только не нравится, что всё это попахивает безбожным французским экзистенциализмом – "чумой", "тошнотой" и пр. С этими товарищами мне никак не хотелось бы стоять в одном ряду.
Отчего я бегу? Оттого, что мне не везёт в жизни. А почему мне собственно должно везти? Кому везёт? Дуракам? Может быть, только потому они радуются, что чего-то не понимают? Совсем от иллюзий, вероятно, нельзя избавиться, но, видимо, следует стремиться к иллюзиям всё более высокого порядка. Такова жизнь. И если этого подъёма по ступенькам иллюзий не происходит, теряется само ощущение жизни.
Была ещё опасность, что меня подведёт здоровье. Один спецназовец заменил собою заложника и умер в машине террориста от сердечного приступа. Не вынесла душа поэта… А вдруг?
Если бы я промедлил ещё несколько минут, то не ушёл бы никогда. Вообще-то я против насилия над самим собой – очень редко оно приносит достойные плоды. Но совсем без этого насилия тоже мало что получается. Надо почувствовать или, как сейчас модно говорить, проинтуичить то самое мгновение, в которое благостное насилие особенно необходимо. Тебе невыносимо трудно, но ты веришь, что скоро станет легко. И подтверждением твоих чаяний может стать лишь внезапное освобождение – вдруг ты уже летишь, хотя совсем недавно еле влачил своё существование – как каторжник в колодках. Но вдруг я ошибаюсь и иду не тем путём и не туда? Кроме Бога мне не на кого надеяться – если Он действительно милостив, то поможет мне.
Лифт не работал, и я спускался по лестнице как автомат. Ужас нарастал. Я словно второй раз отделялся от матери, только теперь уже сам сознательно рвал пуповину. Сколько их может быть в жизни, вот таких, вторых, рождений?
И только в электричке я понял, что совершенно спокоен. Всё уже произошло. Я ничего не мог изменить. Наверное, жена уже прочитала мою записку; но даже если не прочла, обязательно прочтёт, пока я буду ехать назад, если я всё-таки струшу и дам обратный ход. Нет, мне уже не хотелось этого делать. Разве что только сработает какая-то инерция. Или – банально не сумею устроиться.
Я устроился и довольно быстро. Смешно, какие только истории не рисовались мне до того, как всё это произошло в реальности. Памятуя, что в Древнем Китае процесс поступления в обучение к какому-либо мастеру назывался не иначе, как стоянием на снегу перед домом такого-то, я воображал себе бабку в виде строгого гуру и почти намеревался провести первую ночь на улице, в самых тяжёлых условиях.
Мне хотелось помучиться физически, чтобы хотя бы на время отступили а задний план муки нравственные. Но не получилось.
Не буду долго описывать, как и к кому я попал на жительство. Не то чтобы это было так уж тривиально. Просто мне стыдно. Человек, который меня приютил, оказался намного добрее и проще моих доморощенных схем. Хозяйка, разумеется, не отказалась от денег и помощи; но было бы в тысячу раз труднее, если бы я попал к какой-нибудь экстравагантной отшельнице, которая из-за непомерной гордыни отказывается ото всего. К счастью, таких людей в природе не существует. Я, во всяком случае, не встречал.
О той, к кому я волею судеб попал, как и о всяком человеке, можно было бы написать отдельную длинную повесть, но у того, что' перед вашими глазами, есть только один герой, сам автор. Уж простите меня, что я вас не подвожу за ручку и не знакомлю с одной из милых деревенских старушек.
И действительно – я увидел дым из трубы. Только выглядел он более убого, чем в мечтах. Сама труба оставляла желать лучшего. А внутри, в доме, было душно. Хорошо ещё – не совсем похолодало. Это с одной стороны. А с другой – может быть, когда выпадет снег, дым из трубы будет смотреться красивее? И запах был какой-то не такой, как мне мечталось.
Вот уж чем плоха действительность, так это тем, что приходится расставаться с мечтами. Очень многие люди до того привыкают жить во своими уютными надеждами, что совершенно теряются, когда эти надежды оправдываются. Я не исключение.
Рубить дрова и топить печку на самом деле – это совсем не то же самое, что грезить об этом. Нет, это не хуже – просто по-другому. Я научился, привык, даже приспособился вовремя открывать и закрывать заслонку, и бабка перестала баяться, что по моей милости мы угорим.
Лес вокруг был густой, и я надеялся найти там грибы. Но, как назло, в том году всё лето стояла страшная засуха, даже в сентябре дождей почти не было. Так что и грибам и взяться было неоткуда. Дым из трубы не так радовал ещё и потому, что и без того воняло гарью, горели болота. Этой вонью я уже вполне успел насладиться в городе.
Что же оставалось? Писать? Да, я неоднократно предпринимал такие героические попытки. И надо сказать, что перед тем, как я отправился сюда, у меня было немало задумок. И я обольщался насчёт их количества, имея в виду, что уж хотя бы одну из них сумею воплотить. Но то, что совсем недавно стояло у меня перед внутренним взором как живое и просилось на бумагу, теперь почему-то показалось мне серым и скучным. По-хорошему – ничего не хотелось, хотелось только спать – да и плакать ещё иногда, когда вспоминал об оставленной в городе семье. Плачет ли кто-нибудь обо мне? Вечный вопрос. Как хочется, чтобы о тебе кто-нибудь плакал, и как это эгоистично.
Так вот, поспать тоже толком не удавалось, так как я не привык спать в такой духоте. Я сожалел, что не прихватил с собой спального мешка – в нём можно было бы попробовать спать на веранде – погода ещё позволяла.
Птицы улетели на юг. В лесу было тихо. Из бесприютных облаков стал-таки понемногу выделяться дождь. Почти все листья опали. Иногда хотелось волком выть, я и выл, когда был уверен, что убрёл достаточно далеко от населённых пунктов. Впрочем, пунктов-то было – одна деревня, и в той всего несколько жителей – дачный сезон давно кончился.
Однажды утром выпал первый снег. Но тут же растаял. От этого всё стало ещё только чернее и грустнее. Я стал выпивать за ужином не одну, а две, в то и три рюмки водки.
Писанину свою пока не жёг, но рассчитывал, что она пригодится на растопку. Хотелось домой. Но кто там меня ждал? И как я мог вернуться, не сделав решительно ничего?
Да и что за мистическое действо – эта книга? Во все времена главным критерием успеха писателя была издаваемость. Я и раньше писал, но кто знает об этом? Зачем я это делал? Что и кому хотел доказать? Себе самому? Своей жене? И опять я занимаюсь этим бессмысленным, порочным делом? Дело ли это?
Ох, какая же в моём сердце разверзлась тоска! Я потерял всяческую опору. И этот ужас толкал меня всё-таки предпринять хотя бы ещё одну попытку.
Я садился за шаткий бабкин столик, как, быть может, садился какой-нибудь потерянный полярник за рацию, намереваясь в стотысячный раз подать SOS в неприветливое безответное пространство.
Перед литературой всегда стояла дилемма: О чём следует писать – о том, что есть, или о том, что должно быть? В те или иные исторические эпохи в тех или иных культурах склонялись то к одному, то к другому решению.
Писать о том, как тебе тяжело, если тебе действительно тяжело, т.е. писать правду – довольно легко. Но иногда такие писатели бывают невыносимы – взять хотя бы классика от русской поэзии Надсона – недаром его мало кто помнит – да и стишки были так себе. Но делать хорошую мину при дурной игре – насколько убедительно это будет выглядеть?
Да, это большой соблазн – создать мир по своему образу и подобию, специально под себя, этакий сладкий мирок, куда можно будет убежать от досаждающих проблем. Что-то вроде наркомании, использования галлюциногенов. Это уж от твоего таланта зависит, насколько будут замысловаты и привлекательны твои грёзы. Многие хотят морали, хотят, чтобы им объяснили за что… Но как в выдуманном мире, так и в этом, "лучшем из миров", кажущемся нам не выдуманным, причины знает кто-то другой и, возможно, никто другой, как только Бог.
Безответственно было бы претендовать на роль Божьего вестника, не имея на то достаточной санкции, каковой, очевидно, может являться одна Благодать. Посему я не склонен прибегать к гуманизму ни в каких его формах. Впрочем, совсем избежать этой пагубной человеческой слабости – тоже вряд ли представляется возможным.
О чём же я хочу поведать миру? И хочу ли я действительно, чтобы мир меня услышал? Для кого змея оставляет свою старую кожу, когда выползает из неё? Может быть, писательство моё – только что-то вроде нездорового физиологического процесса. Кажется, об этом что-то сообщал писатель из «Сталкера» Тарковского. Ничто не ново на Земле! Но у того, уже хрестоматийного, писателя были изданные книги, известность и деньги, а у меня?.. Ах, я бедненький! Мне даже некому мстить, как мстила Маргарита за Мастера, потому что, собственно говоря, я толком и не пытался пробиться в издательства. Что это? Гордость? Страх неминуемой боли, как перед кабинетом зубного врача? Или, может быть, я в глубине души всегда был уверен, что пишу говно? Вот это – интересное предположение!







