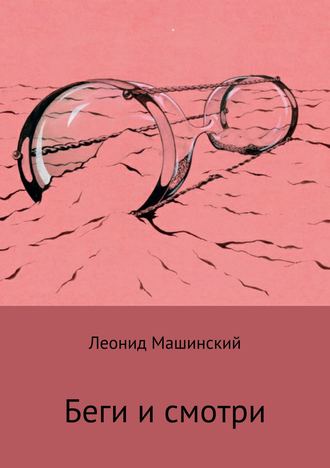
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Конечно, всё это было смешно. Девочка сначала сдерживалась, прикрывая ротик рукой, но потом расхохоталась в полный голос. Особенно она смеялась, когда сильно, но неудачно заведённый мною, волчок завалился на бок и, продолжая вращаться, стал съезжать по направлению под кровать, неуверенными движениями напоминая собаку, которая от трусости собирается забраться снова в будку. При этом собака бы подскуливала, а он скрежетал, царапая и без того изъязвлённый паркет и оставляя на нём неровные белые черты. Мне было стыдно, я чувствовал своё бессилие, но я не мог не засмеяться вместе с девочкой.
– Вы не умеете, – сказала она.
– Оказывается не умею, – констатировал я и тут же оправдался – разучился.
Она остановила юлу ногой, но прежде, чем совсем замереть, агонизирующий механизм, рванувшись, ударил её по хрупкой лодыжке.
– Ай! – вскричала девочка и на глазах её тут же выступили слёзы.
Я испугался. Вот сейчас прибежит мать, и мне останется только извиниться и уйти. Хорошо ещё, если не получу по шее. Впрочем, так и так – мне через несколько минут всё равно придётся извиниться и уйти. В конце концов, что я тут делаю? Не наниматься же в няньки к младшей дочери только потому, что старшая меня игнорирует? Интересная идея. Вот войдёт мать, я ей так и скажу: «Не нужна ли вам няня?». Шутка!
Я засмеялся. Теперь ребёнок рассмеялся, глядя на меня.
– Ну что, покажешь, как раскручивать юлу? – спросил я.
Она уже забыла, что ей было больно, слёзы высохли. Она с любопытством смотрела на меня – может быть, ожидала, что я брошусь целовать ей ножку? Может быть, мне так и следовало поступить? Но момент был упущен…
Девочка вдруг надула губки и с запозданием ответила:
– Нет. Он противный. Ударил меня.
Она сказала он, хотя раньше называла его юлой. Снова улыбаясь, теперь уже осторожно, пяточкой, она затолкала ненавистный волчок поглубже под кровать. Он недовольно загромыхал.
Тут вошла мать.
– Что вы тут делаете? – спросила она.
– Ничего, – я уже успел встать и развёл руками.
Мать ждала.
– Я пойду? – спросил я.
Она пожала плечами. И я вспомнил сакраментальную фразу Кролика из «Винни-Пуха» «Ну, раз вы больше ничего не хотите…»
Я хотел, я очень хотел, но… Мать стояла в дверях, мешая мне выйти. Неужели сейчас стеснит мне проход грудью, чтобы ввести меня в ещё большее смущение? Я почувствовал, что она тоже женщина. И она…
– Вы заходи'те, – сказала она, пропустив таки меня в коридор.
– Спасибо, – я торопливо обувался, опять опасаясь, что порвутся штаны. Спиной я не мог не ощущать, как мать подсмеивается надо мной.
Она вдруг куда-то исчезла, и я услышал её голос:
– Может всё-таки выйдешь? – Это она обращалась к старшей.
Я замер, но мне не суждено было дождаться ответа.
– До свидания, – сказал я заглянув в комнату.
– До свидания, – сказала мать.
Младшая тоже не вышла. Я сам справился с замком, захлопнул за собой дверь и стал пешком спускаться по лестнице, на ходу наматывая шарф и застёгивая пальто. Меня бил мандраж, щёки горели. Не помню как – выбежал на улицу, отбежал шагов на двадцать и посмотрел на их окна. Я давно и хорошо знал, где они расположены, теперь я мог предположить, кто из них где сейчас находится. Наконец я дозастегнул верхнюю последнюю пуговицу пальто. Спрятал руки в карманы и повесил голову. Всё было кончено. Во всяком случае, на сегодня. А вообще? Можно дойти до ближайшего автомата и позвонить. Что толку? Я представил себе, как будет смеяться мать, глядя на рассерженное лицо поднявшей трубку старшей дочери. Или поднимет младшенькая и будет жеманничать на свой детский манер, а они, те двое, опять-таки будут смеяться. Неужели я так боялся насмешек?
Я побрёл по давно тёмному двору в сторону железнодорожной станции. Шёл мелкий снег. Когда я ещё по' свету не спеша добирался сюда, в одном из дворов мне запомнилась большая снежная горка. Кто-то не только дооформил и укатал скопившиеся в одном месте сугробы, но и попытался придать им неестественный цвет. Скорее всего, по бокам горки разлили несколько пузырьков разноцветной туши. Цветовые пятна, впрочем, не оказались достаточно большими и яркими, снег слишком хорошо всё впитывал. Но внимания заслуживала сама попытка разукрасить действительность. Мне захотелось ещё раз увидеть ту горку и, хотя разумнее было бы спросить дорогу, я побрёл к ней почти наугад, по снежным двором. Довольно долго то место не находилось, ибо под фонарями всё выглядело не так, как под солнцем. Я уже было решил отказаться от своей затеи, но когда решительно свернул к станции, натолкнулся на то, что искал.
Неужели это было та горка? Дети ещё не угомонились и что-то делали на ней. Что могут делать дети на горке? Кататься? Нет, они не катались. Вернее, некоторые из них скатывались с горки, но кубарем. В царя горы, что ли, они играют? Тут я понял, что это не горка, а крепость, и дети играют в снежки. Один из них на излёте мягко упал мне на шапку. Та ли это горка? Не всё ли равно… Скорее всего – та, ибо не её боках видны какие-то кляксы и разводы. Совсем не эстетично это выглядит, лучше бы оставили чистый белый снег. Но они ведь из лучших побуждений. Вот так и всегда всё мы творим из лучших побуждений. Но я вовсе не собирался брюзжать, хотя секунду назад и не знал, что я сейчас буду делать.
Я взошёл на гору, не обращая внимания на снующую вокруг детвору и не уворачиваясь от снежков. Дети заметили меня и пока не знали, как реагировать.
– Я хочу с вами сыграть, – сказал я и сам удивился своим словам.
Они смотрели на меня с недоверием и ждали.
– Я один буду защищать эту крепость, а вы все штурмовать. Согласны?
Какой-то самый бойкий парень вскарабкался ко мне поближе:
– Дядя, вы не того? – повертел он рукавицей у виска, и все захохотали. Он же предусмотрительно откатился подальше.
Теперь я ждал. Стоя на горе, я вдруг показался себе Гитлером или Сталиным, выжидающим паузу перед выступлением. Я дождался тишины и посмотрел в небо, я даже успел разглядеть там какую-то звезду.
– Вы будете на меня нападать или нет? – спросил я.
Кто-то из них, может давешний хулиган, метнул в меня первый снежок, но неуверенно, и снежок был рыхлый – развалился.
Я сам слепил себе снаряд, пользуясь своей взрослой умелостью и состоятельностью, и почти без жалости залепил его ближайшему пацану в лоб. Попадание оказалось неожиданно точным.
Опять нависла пауза, как гроза.
– Ну? – спросил я и стал швырять в них без разбора все снежные куски, какие попадались мне под руки.
Они отступили, но ненадолго, должно быть, чтобы посовещаться, что делать с этим взрослым идиотом, захватившим их холм.
Я догадывался, что они собираются со мной сделать. Эти муравьи наверняка сейчас злы и хотят сожрать заживо Голиафа. Они будут наступать, если только их мамы прямо сейчас же не начнут их выкликивать домой.
И вот уже снежки полетели в мою сторону одни за другим, пока, правда, ни один из них не попал в цель, но…
– Ура-а! – заорал истошно заводила, тот самый, который выказал меня придурком.
– Давай! Подходи! – заорал я и начал работать руками как мельница – благо вокруг было предостаточно смёрзшихся готовых комков.
Похоже, многим из них хорошо досталось. Они не шутку рассвирепели и с детской стайной яростью набросились на меня.
Недолго мне удавалось сдерживать их отчаянный напор. Дети буквально старались схватить меня за горло и я, забыв о несоответствии весовых категорий, сталкивал их в горы всеми доступными методами, только разве что не бил их по голеням ногами. Они откатывались и набегали вновь, они-то не стеснялись теперь лягать меня своими валенками и ботинками. Одна из почти в упор брошенных ледышек рассекла мне бровь, и я со смешанным чувством удовлетворения и печали слизнул со своего окоченевшего пальца тепловатую жидкость. В это время меня сбили с ног. Я брыкался, но уже не мог совладать с навалившейся на меня толпой. Может, мне казалось, но их было никак не меньше дюжины, причём некоторые совсем не такие уж маленькие. Может, они позвали на подмогу старших? Что ж, против таких, как я, все средства хороши… Я получил по губе, ногой, между прочим. Это совсем уж свинство. Я хотел рассвирепеть, но понял, что у меня не осталось эмоциональных сил. Слишком много я растратил их за сегодня. И всё зря. Да и конечности, ни руки, ни ноги, уже не слушались. Меня зарывали, хоронили в снегу. Скоро на поверхности осталось только моё лицо. Но мне было тепло, тепло и почти уютно, несмотря на то, что кровь заливала мои глаза. Я опять увидел звезду, или это был самолёт? Или фонарь? Ведь я лежал на боку… Я перестал понимать, на спине или на боку я лежу, и немного испугался. Но потом и страх прошёл. Дети куда-то убежали, всё стихло, будто кто-то заложил мне уши ватной тишиной. Фонари по периметру прямоугольного двора, истекали желтизной, но я не видел их, только представлял, как их свет медленно падает мне каплями на губы. Если бы я смог, то заплакал бы, если бы сумел, то уснул. Но ничего, ровным счётом ничего не происходило.
В конце концов, я встал, отряхнулся и, немного прихрамывая, побрел к железной дороге.
Джигит с собакой
(сон дочери)
«Я люблю и уважаю сон. Я люблю его глубокую, сладостную и целящую отраду…»
Т. Манн
А теперь я расскажу вам сон моей дочки. Говорят, в приличном обществе не принято рассказывать сны. Придётся некоторым либо смириться с тем, в какое общество я их погружаю, заставляя общаться с собой, либо вовсе отказаться от чтения.
Дочка моя оказалась на железнодорожной станции и должна была ехать в Москву. Но, как известно, воспитанные люди покупают билеты прежде, чем сесть в вагон. Потому-то наследница моя и стала искать кассу, и нашла её в несколько необычном месте.
Касса возвышалось над землёй, как бы паря в воздухе. Хотя, возможно, дочке только так с непривычки показалось и касса на самом деле была расположена просто-напросто на пешеходном железнодорожном мосту, которые из-за ветхости, как опять-таки каждому известно, случается и падают. Так что, не исключено, что вся остальная часть моста уже обвалилась, а оставшуюся площадку задействовали как фундамент для помещения кассы. К кассе, естественно, вела лестница, и по всей лестнице, что тоже естественно, стояла очередь. Хвост очереди простирался и довольно далеко по земле, в горизонтальной плоскости.
Дочь моя, ничтоже сумняшеся, встала в эту очередь и скоро оказалась на нижних ступеньках лестницы. Не то чтобы очередь быстро двигалась, в ней вообще не наблюдалось порядка. Народ убегал и прибегал вновь, и не все настаивали на том, чтобы им заняли место, может быть, потому, что не все были уверены, что стоят именно туда, куда надо. Так что более стойкому товарищу сзади оставалось только оперативно занять освободившуюся территорию, при этом он очевидно мало рисковал получить по физиономии или выслушать ругательство в свой адрес.
Дочь моя уже немного продвинулась вверх, когда услышала странное объявление. Откуда-то свыше до всей публики донесли следующее: «Железнодорожные билеты будут продаваться участником конкурса на лучшего джигита с собакой».
Дочь моя очень удивилась и почти расстроилась. Как же теперь она попадёт домой, в Москву? Впереди неё стоял дяденька кавказской внешности, и она решила обратиться к нему за объяснением по поводу только что сказанного по радио. Дяденька был среднего возраста, явно положительный, одет в джинсы и в расстёгнутую джинсовую куртку, под которой была футболка. По этой его одежде и ещё по некоторым приметам можно было догадаться, что на дворе стоит прохладное лето или, может быть, ранняя осень.
– Как же теперь быть? – обратилась к нему дочь. Именно к нему, может ещё и потому, что он всё-таки, в отличие от большинства в этой толпе, мог как-то сойти за джигита.
– Не волнуйтесь, – ответил дяденька. – Видите, у меня тоже нет собаки. – он был очень вежливым и говорил по-русски без какого-либо акцента.
Дочка посмотрела на его пустые ладони и убедилась, что в них нет поводка. По близости вообще не было заметно ни одной собаки и даже кошки.
– Видите, остальные ведь стоят, – продолжил интеллигентный кавказец.
Он мог бы добавить, что ни у одного из них нет собаки, и они при этом ещё отнюдь не джигиты. Дочка и сама видела. В основном, эту очередь, как и почти все очереди в России, составляли женщины пожилого и близкого к пожилому возраста. На что же надеялись эти тётеньки, волоча на верхотуру свои некультяпистые сумки, громыхающие по ступенькам разболтанными колёсиками?
Кто-то же ведь всё-таки получал билеты там, впереди, иначе каким образом возникла очередь? Если бы в кассе ничего не продавали, те кто ближе к окошку, в конце концов, отошли бы от неё. И неужели там, впереди, собралось так уж много джигитов в собаками? Что-то ни одного отсюда не разглядеть… И потом, если хотя бы один из них, из этих законных участников в конкурсе, получил билет, он должен был бы спуститься вниз по этой самой лестнице. Мимо ни одного счастливого обладателя билета с собакой также не проходило. Всё это, разумеется, могло сбить в толку. Очередь двигалась очень медленно и неясно было, почему она движется. А может быть, касса ещё просто не открылась и поэтому все ждут?.. Дочке захотелось обратиться к толпе и крикнуть: «Кому-нибудь из вас, хоть кому-нибудь, удалось купить билет?!» Но она понимала, что её голосок потонет в этом бестолковом гуле.
Никто ни на кого не обращал внимания, все были заняты исключительно собой. Но почему-то каждый надеялся, что именно ему, хоть каким-нибудь чудом, достанется билет. Вся эта шевелящаяся компания на лестнице была похожа на сошедший с ума муравейник. Только дяденька с невозмутимым кавказским лицом ненадолго дочку успокоил. Да и куда деваться? Ей надо было ехать в Москву. Другого пути она не знала, и кассы никакой другой в округе не было видно.
Но тут ситуация изменилась. Дочка и не заметила, как к станции подошёл поезд. Вероятно, разгорячённые обыватели так шумели, что заглушили даже гудок и стук колёс.
Электричка стояла за перроном, через пути, и толпа ринулась туда, забыв о необходимости сначала приобрести документы для проезда. Впрочем, если испытывать терпение граждан проведением подобных несуразных конкурсов, как от них можно требовать серьёзного отношения к какой-то необходимости?
Бабушки и дедульки, молодые мамы и детки, и всякие прочие парни и мужчины бросились на перегонки штурмовать перрон. Даже самые толстые и неуклюжие тётки ухитрялись на него взгромоздиться. Все торопились, некоторые спотыкались об рельсы, поскальзывались на шпалах, разбивали и пачкали колени и даже лица, но всё же вновь вставали и шли или даже ползли вперёд, чтобы наконец вцепиться мёртвой хваткой в бетонный край вожделенной платформы. Это можно было характеризовать как радостную панику, ибо поезд всё-таки прибыл и бежали они к нему, а не от кого-то. Несмотря на толкучку, никто, кажется, ещё не получил тяжёлого увечия, никаких поездов или маневренных тепловозов не проезжало по путям, которые нужно было преодолеть, ни один из диспетчеров или автоматов не ухитрился перевести стрелку именно в тот момент, когда один (или одна) из расторопных, но неосторожных штурмующих засунул (а) в неё ногу. Словом, всё обходилось благополучно. Но может быть, лишь потому, что народу всё-таки было не слишком много. Поезд издалека казался пустым, и в него все должны были поместиться с лихвой, так что собственно и спешить-то было особенно некуда, всем должно было хватить сидячих мест. Разве вот только он уже вот-вот должен был отправляться. Посмотреть расписание было негде, спросить не у кого. Так что дочери моей, при всём ей природном аристократизме, нельзя было слишком долго оставаться сторонним наблюдателем. Если она хотела в ближайшее время попасть домой, ей оставалось только принять участие в этом новом безумии.
И сама она не заметила, как оказалась на перроне. Возможно, лёгкость тела не позволила ей почувствовать тяжесть пути, или какие-то, уважающие девичью грацию, благородные силачи перенесли её через все препятствия и поставили в нужном месте. Хотя последний вариант мне, как отцу, и не очень симпатичен. Но, может быть, её подхватили невидимые ангелы – могли же они выбрать её за то, что она не лезла вперёд и не расталкивала других плечами и локтями? У дочки осталось ощущение, что она телепортировалась. Но что такое телепортация? Не знает никто. Или кто-то уже знает? Пускай мне расскажет.
Так вот. Перед ней была электричка с открытыми дверями. Перрон почти опустел, бо'льшая часть людей, вероятно, была уже внутри; и моя девочка тоже вошла в один из вагонов. Почему-то в поезде было темно. Места, и правда, не все были заняты, в среднем, на каждом трёхместном сидении сидело только по два человека.
Дочка уж было хотела приискать себе уютный уголок у окошка, но тут её стало мучить справедливое сомнение: «А точно ли этот поезд направляется в Москву?» Она даже не видела, с какой стороны он пришёл. А потом, если он так долго здесь стоит, совсем не факт, что он теперь не поедет в противоположном направлении. Но самое главное, она теперь вообще не могла уверенно сообразить, в какой стороне находится Москва или, вернее, вокзал, потому что сама станция, вероятнее всего, располагалась в пределах Москвы, но ближе к окраине (например, это могла быть известная почти всем москвичам «Лосиноостровская»).
Ещё смущала странная темнота, которую нельзя было объяснить выключенными лампочками. Дело в том, что лампочки вроде бы и не было необходимости включать – на улице стоял день, но в поезде было темно – как ночью, при свете далёких фонарей.
Девочка вернулась на освещенный перрон и к своей радости увидела там давешнего дяденьку, джигита без собаки, единственного, кто дал на её вопрос хоть сколько-нибудь вразумительный ответ. Зачем этот дяденька тут стоял, правда, было не совсем ясно, но очевидно он ждал другого поезда, раз не садился в этот. А может быть, Провидение послало его сюда специально лишь для того, чтобы он сослужил добрую службу моей дочке. И он вновь отвёл тень тревоги, нависшую над её головой.
– Этот поезд на Москву, вы не знаете? – с надеждой спросила она. Вероятно, теперь она уже улыбнулась этому дяденьке как знакомому. (Я, впрочем, как отец, не могу одобрить флирт с джигитами, даже во сне.)
– Прошлый поезд был на Новую Зеландию, значит этот на Москву, – уверенно сказал мудрый кавказец.
И дочери вдруг всё сразу стало ясно как день. Не осталось никаких сомнений. Конечно на Москву! Куда же ещё, если следующий или предыдущий на Новую Зеландию? Вот туда ей не надо, значит на этот, в другую сторону.
А тот кавказец, он интересно кто на самом деле был – может быть, новозеландец? Но почему тогда он говорил по-русски? Может быть, в Новой Зеландии он позабыл свою собаку?
Она даже не спросила у него, достался ли билет хоть ему. Все забыли о билетах. Таковы люди, все почему-то полагают, что могут запросто становиться зайцами на время транспортировки.
Девочка поблагодарила дяденьку и вернулась в поезд, но теперь уже в другой вагон, тот ей показался слишком мрачным. Поезд, благо, ещё не совсем собрался трогаться, хотя неясное тарахтение, проходящее по составу, и намекало на то, что он к этому готовится.
В этом вагоне было так же темно, и дочка в последний раз выглянула на платформу, чтобы удостовериться, что там день. Она пожала плечами и пошла на свободное место. Как она и хотела, удалось сесть у кона. За окном была ночь. Или, может быть, это была какая-нибудь экспериментальная электричка, с новейшими затемнёнными стёклами. Они, эти стёкла, специально превращали для сидящих внутри пассажиров день за окнами в ночь. Для чего? А мало ли для чего и что делается у нас на железных дорогах…
Дочке стало немного скучно, она устала от недавних треволнений и теперь имела полное право расслабиться и отдохнуть, хотя, возможно, где-то в глубине души её и мучило предчувствие опасности, связанной с внезапным появлением контролёра.
Но обстановка больше не располагала к тревоге. Хотя это и была самая обычная электричка, но отделана она была на ночной лад. По существу, это был в каком-то смысле спальный вагон. А что ещё делать, когда нельзя ни читать, ни играть в карты и ничего толком не видно в окно?
Дочка прислонилась горячей головой к прохладной стенке и прикрыла глаза. Машинист объявил по обыкновению что-то неразборчивое, двери закрылись, и поезд поехал. Будем надеяться, что он действительно поехал в Москву.
Цветок Мудрости
«Не желая служить –
заблудился в цветах…»
Ли Бо
Я тогда жил с мамой и бабушкой. Бабушка была уже очень старенькая и не выходила из квартиры. Весной у неё появилась навязчивая идея. Она стала просить нас с матерью, чтобы мы купили ей Цветок Мудрости. Я пишу с большой буквы, потому что бабушка явно предполагала не только и не столько конкретное растение, сколько некий символ, вроде Аленького Цветочка из сказки или Красного Цветка Гаршина.
Надо сказать, что бабушка моя отличалась довольно странным артистизмом, который до некоторой степени передался по наследству и мне. Не всегда можно было понять, говорит ли она серьёзно или придуряется. Не то, чтобы она очень любила придуряться, но способность к этому развилась в ней, вероятно, как одно из приспособлений к тяжёлой жизни. Возможно ли вычислить, например, на сколько процентов придурялся, а на сколько был самим собой Швейк? Так и моя бабушка сохраняла разум и обаяние для людей, которые её знали и любили, и могла представляться совершенно невыносимой идиоткой для людей, которые ей самой не очень-то нравились. Некоторая придурошность, надо сказать, отнюдь не лишает, а часто и добавляет человеку обаяния.
Так вот, в последние годы бабушка много болела. Однажды её даже, по её же просьбе, пришлось положить в больницу. Казалось, что это уже конец. Когда мы её навещали, она либо вообще лежала в отключке, либо несла такой бред, что смеялись даже остальные больные в палате. На самом деле, то, что она говорила, было очень похоже на то, что она говорила всегда. Человека на смертном одре трудно заподозрить в неискренности. И тем не менее, когда она общалась с нами, называя нас другими именами, это выглядело как безобидное издевательство. Может быть, она притворяется, что нас не узнаёт?
Как бы там ни было, но после того, как бабушку забрали домой, она временно пошла на поправку. Сознание, похоже, вернулось к ней, и стала она такой же бабушкой, которую мы знали, только очень слабенькой.
И вот теперь эта странная и настойчивая просьба. Бабушка вообще очень редко нас о чём-либо просила. Я бы сказал – не просила почти никогда. Она отличалась крайним равнодушием к себе, и заботилась только о нас, о детях и внуках. Но откуда у неё могла теперь явиться идея о каком-то цветке? Не иначе, она продолжала бредить.
Бабушка была городским человеком и любила зелень умозрительно, никогда я не замечал, чтобы её тянуло к земле. Зато мы с ней оба обожали гулять по лесу, собирая грибы и ягоды. И домашним растениеводством бабушка никогда не увлекалась. Может быть, просто потому что было не до этого. На повестке дня всегда стоял один и тот же вопрос: что есть и во что одеть детей? К старушкам, которые слишком носятся со своими фиалками и геранями, бабушка даже, как мне казалось, относилась с некоторым презрением. Мол, чего только не придумают от нечего делать и от одиночества. Сама же она дозволяла себе только два удовольствия – почитать и поспать, когда выпадало свободное время.
Мать эту новость о цветке восприняла без особого энтузиазма. Сперва её немного развлёк монолог бабушки на новую, неожиданную тему, но потом она заподозрила, что это продолжение или последствие болезни, и решила не придавать особого значения бабушкиным капризам. С другой стороны, мы оба с ней прекрасно понимали, что бабушке осталось недолго и отказывать умирающему родному человеку в каком бы то ни было желании нам, конечно, было неприятно.
Я пытался получше выяснить у бабушки, что она имеет в виду. Я расспрашивал её, выдвигая различные предположения, а она то удовлетворённо кивала, соглашаясь, то активно крутила головой, выражая отрицание, – и всё это, не раскрывая глаз. Опять-таки создавалось впечатление, что, уходя от прямого ответа, она специально морочит нам голову.
Я предложил матери купить в качестве паллиативного средства какой-нибудь заметный комнатный цветок в горшке, но она вдруг заартачилась, ссылаясь на то, что у неё на подоконниках нет места. Мать, в отличие от бабушки, как раз имела склонность к сельскому хозяйству.
Преодолев свой вынужденный постельный режим, бабушка ходила по квартире в самодельной бязевой ночной сорочке, волосы неопределённого цвета, которые прежде она заплетала в смешные индейские косички, теперь были укорочены и растрёпаны. Она напоминала не то какую-то античную безумную пророчицу, не то даже Левшу Лескова, который хочет объяснить высоким чиновникам, что не надо чистить ружья кирпичом.
Впрочем, все последние дни и недели бабушка сохраняла ясность сознания, всех узнавала, со всеми мило беседовала, смотрела телевизор и даже высказывала суждения, остроумию которых могли бы позавидовать многие. Она также выполняла нехитрую домашнюю работу: кормила кашку, кипятила чайник и поливала те самые многочисленные материны цветы.
Я пытался найти в энциклопедиях и книгах по ботанике, коих у меня было немало, что-нибудь похожее на Цветок Мудрости. Может быть, есть какое-нибудь такое латинское название? Тогда выходит, что «Цветок» – это родовое имя, а «мудрости» – видовой эпитет. Я откопал русско-латинский словарь и слепил Floribus sapientiae. Может быть, есть какая-нибудь такая трава или дерево? Поиски мои, однако, так и не увенчались успехом. То ли искал я недостаточно усердно, то ли не те у меня оказались под рукой фолианты, то ли, и в правду, нет на Земле никакого такого чудесного цветка.
На улице, между тем, разгоралась весна, и бабушка всё чаще выглядывала в окно. Несколько дней она таинственно молчала, и за это время листья уже совсем-совсем собрались распуститься. Бабушка осматривала кусты под окном как заговорщик – уж она-то точно знает, что с ними происходит. Человек был занят, и мы с матерью расслабились. Но тут, однажды вечером, бабушка опять вдруг вспомнила о своём цветке.
Она стояла на кухне и, при всей неряшливой ветхости, смотрелась как актриса на сцене.
– Ах! – сказала бабушка, – никогда мне уже не увидеть Цветок Мудрости.
Я конечно же не стал разочаровывать бабушку, утверждая, что на свете и вовсе нет такого цветка. К тому же, и сам в этом был не уверен. Мало ли существует видов растений? А сортов выведенных сколько? Но я всё-таки должен был хоть как-то её успокоить:
– Ба, – сказал я, – мать говорит, что некуда ставить. А так, я бы тебе купил какой-нибудь цветок.
Мне почему-то всё воображалось какое-то коренасто-мясистое растение с крупными красными цветками, а ещё лучше – чтобы был вообще один цветок, но очень большой – почему не кактус?
И бабушка, похоже, сейчас своим внутренним взором видела нечто подобное. Мы в ней иногда понимали друг друга без слов.
– Ну пусть не в горшке, – старушка изображала какую-то Офелию. – Хотя бы один цветочек, отломленный за самую шейку. Я бы его пришпилила к занавеске и любовалась. – Бабушка вполне картинно показала, как и где именно она пришпилит цветок, при этом её движения были чуть ли не танцевальными. Рассматривая как бы уже материализовавшееся перед нею сокровище, она что-то намурлыкивала себе под нос, и получалось даже почти музыкально, хотя петь она никогда не умела.
Мать, заглянувшая в кухню, из дверей тоже наблюдала всё это представление. На её губах застыла многозначительная грустная улыбка: мол, конечно, всё это забавно, но ей, а ни кому-то другому придётся всё это расхлёбывать.
– Мам, ну неужели у нас нет ни одного местечка под горшок? – обернулся я к ней.
Она пожала плечами и покинула нас. Бабушка всё примеривалась, где бы ей лучше прицепить цветок, словно вышивала – вот вышивать она действительно умела.
Я решил всё-таки добыть бабушке какой-нибудь цветок. Пусть она даже окажется недовольной, важно сделать попытку. И пускай подоконники действительно загромождены, место всегда можно найти. Да на телевизор в конце концов поставим! А отчего бы просто не купить какую-нибудь красную розу или лилию и не приколоть её, куда хочет бабушка? Но бывают ли красные лилии? Ни разу не видел.
Мать не собиралась потакать ничьим капризам. Оно и понятно – на ней лежала большая часть ответственности за наше существование. Я – другое дело, мне ещё можно быть романтичным, это легко – за чужой счёт.
Я решил прогуляться и заодно обдумать, чем я реально могу помочь старушке. Бабушка проводила меня до дверей, в её замутнённых катарактой глазах пылал весёлый огонёк. Она чувствовала, что мы вступили в сговор. Я улыбнулся, а она показала мне жестами, что, мол, я всё понял и ни к чему, чтобы мать знала об этом.
Спускаясь по лестнице, я встретил знакомого парня. Он поднял голову и не сразу узнал меня в полумраке подъезда. Одно время мы вместе работали, но с тех пор не виделись уже давно. В общем-то, у нас с ним кроме этого эпизода в прошлом не было ничего общего. Разве вот ещё, что жили в одном подъезде, но выходили и приходили обычно в совершенно разное время.
Теперь мы, однако, оба почему-то обрадовались друг другу. Он был моложе меня, но уже облысел, да и вообще он был не хорош собой, но это искупалось живостью и доброжелательностью.
– Как жизнь? – спрашиваю я.
– Весна, – разводит он руками.
– Да, нынче ранняя весна. Ты вон уже и без шапки.
– Да, тепло, – он улыбается.
С ним что-то не так. Не в том смысле, что плохо, а в том, что то, что с ним сейчас происходит, не похоже на него. Он словно весь светится, и голова его чем-то напоминает лампочку.
«Влюбился, – думаю я. – Ну, немудрено – весна, со всеми это когда-нибудь происходит».
– Весна, – говорю я. – Скоро листья на деревьях распустятся. А у тебя как на любовном фронте?
Он поднимает брови – не то чтобы смущён, но затрудняется сразу ответить.
– Да, вообще, любовь – серьёзное чувство, – говорю я.
– Этого-то я и опасаюсь, – говорит он и идёт вверх.
Поравнявшись, мы наконец жмём друг другу руки. Я искренне желаю ему удачи и выхожу из затхлого подъезда на вольный воздух.
Тут я вспоминаю, что сосед, которого я только что встретил, последнее время работает в зоомагазине. Может быть, у них там продают и цветы? Надо спросить – может быть, он мне что-нибудь и подскажет. Бежать за ним вслед уже поздно. Что ж, я знаю примерно, где он живёт.
На улице вечереет, тихо и тепло. Не так давно прошёл дождик и поэтому не пыльно. Ещё один-два таких дня, и зацветут тополя.







