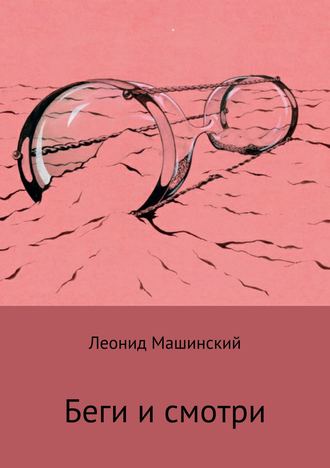
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
Поблизости зачадила выхлопной трубой прогреваемая хозяином машина, честно говоря, мне всегда хочется убить человека, портящего таким образом ценный воздух, но на этот раз моё возмущение было смягчено действием травы, оно легко отделилось от меня и стало абстрактным. И я подумал, или, может быть, только теперь я это на самом деле подумал, что жить в этом дерьме, которое называется цивилизацией, может быть, только и возможно под действием наркотиков. Тогда ещё терпимо. Нет, я ничего не говорю, покурить анашу, конечно, лучше где-нибудь на природе, под пение соловьёв и цветение черёмух. Но когда не из чего выбирать? Под кайфом даже самые отвратительные вещи делаются интересными, а значит терпимыми. Всем нам в этом большом городе необходим наркоз, хотя бы для того, чтобы не замечать, как мерзко воняют по утру выхлопные газы, как до смешного мала цель, заставляющая человека нарушать святую тишину и портить отстоявшуюся за ночь чистоту. Я думаю, Провидение могло бы не заметить и раздавить такого человека, как муравья. Но почему-то и он не исчезает. Значит он кому-то нужен? Значит есть в нём какой-то смысл? Во всём есть смысл – с этим приходится мириться.
И вот мы утомляем, ублажаем наши ретивые мозги всяческими смягчающими средствами. Голову, впрочем, можно заморозить не только наркотиками и лекарствами. Подходят и деньги и спорт и философские рассусоливания, вот хотя бы в том виде, в котором они перед вами сейчас разворачиваются.
Я хотел бы бежать и не оборачиваться, и здесь нужно было стремиться уподобиться не нетерпеливому Орфею и не слишком привязчивой и сентиментальной жене Лота, но ловкому Персею. Главное не заглядывать в лицо преследующей необходимости, как смертельно опасной Горгоне. Как прав Шестов! Бежать и смотреть только вперёд, в крайнем случае, по сторонам. А мысли и слова, которые мы роняем на пути, пусть становятся камнем. Пусть скачут, как драже, и закатываются под кровати и в канализацию.
Мы повернули ещё раз направо, и я в который раз отметил, как много на перекрёстке останавливается машин. С каждым годом из становится больше и больше. И даже теперь, когда работающие в близлежащих офисах ещё не прибыли, здесь приходится лавировать среди автомобилей, как в своеобразном лабиринте. Машины, лишённые гаража, чем-то напоминают бездомных собак, они стоят, смотрят своими пустыми, унылыми фарами и ждут своих владельцев. Но даже от неподвижных машин плохо пахнет.
Однажды, при взгляде на одну из автомашин в родном дворе, я испытал нечто вроде озарения. Я не узнал её, т.е. вообще как бы забыл, что такое машина, и очень удивился, что это именно такое, а никакое другое. Замыленный буднями глаз не чует гротеска существования. Очень трудно объяснить другому, чем тогда меня так поразила эта машина. Это было почти инопланетное существо, что-то совершенно чуждое, но почему-то здесь и сейчас сосуществующее со мною. Я ничего не мог поделать с этой данностью. Открыв её присутствие, скорее пугающее, нежели приятное, я мог только смириться.
Постараюсь прокомментировать этот случай более рационально. Известно, что все движущиеся машины в идеале должны быть наиболее обтекаемыми. Для автомобиля, вероятно, наиболее целесообразна каплевидная форма. И во всём мире автомобилестроители медленно, но верно приближаются к этой форме. Но в том-то и дело, что приближаются они слишком медленно, я бы даже сказал, подозрительно медленно – как будто ещё при Леонардо Да Винчи нельзя было нарисовать удовлетворительный чертёж идеальной повозки. Люди отвлекаются на дешевизну, удобства, внешние аксессуары, каким-то непостижимым образом в машиностроение вмешивается мода. Кто бы мог спрогнозировать, какого вида автомобили в каком десятилетии двадцатого века будут преобладать? В каждый момент времени мы имеем данность, и остаётся ей только изумляться. Изумляться, хотя бы тому, что всё это – в общем-то недоразвитые уроды, своеобразная металлическая кунсткамера.
На этом же перекрёстке в детстве я видел одну из последних лошадей, использовавшихся в Москве для грузовых перевозок. Возила она исключительно стеклотару и тоже подолгу дожидалась своего хозяина, переминаясь с ноги на ногу на углу, потряхивая блондинистой гривой. Теперь лошадки в городе применяются только для развлечения.
Мы перешли встречную улочку по диагонали. На той стороне был забор, аляповато разрисованный кем-то для детей, а может, рисовали и сами дети. Во всяком случае, рисунки были весёлые. Впрочем, от них теперь мало что осталось. А цел ли забор?
Правее забора был вход в продолговатый, перпендикулярный улочке двор. По сути дела это, скорее, был длинный газон, ограниченный с одной стороны узким проездом и стеной из двух последовательно стоящих друг за другом домов, а с другой тем самым забором, уходящим вглубь, причём в глубине он загибался налево, образуя соответственно расширение двора.
Травы на замусоренной земле пока не было, но всё пространство газона было почти равномерно уставлено обнажёнными деревьями. Обнажёнными, но уже с такими набухшими почками, что можно было считать их условно одетыми. В самом деле, в нежном свете утра деревья переливались всеми оттенками зелёного и розового цвета, по ветвям прыгали какие-то птички.
Прямо к оградке торца этого городского леска на тротуаре был привален штабель каких-то досок. Через дорогу, напротив, располагалось отделение милиции. Мы и сами не знали, почему пришли сюда. То ли Глеб привёл меня, то ли я его. Ведь, в конце концов, это я тут жил.
По дороге он поведал мне о своей нелёгкой жизни, о том, что будка – это для него только временное пристанище, что вообще-то ему негде ночевать. Я не стал интересоваться, почему он не ночует дома, у родителей, – вероятно, у него были веские причины.
Глеб спросил, не могу ли я ему предоставить убежище, и это его просьба не на шутку меня напугала. Ещё на одну ночь или, скажем, на сегодняшний день, я бы, конечно, с радостью пригласил его выспаться у меня. Но ведь он может вселиться надолго и даже навсегда. При всей моей любви к этому другу, я с трудом представлял, что смогу его продолжительно выносить с собою в одной комнате. К тому же – эти наркотики и его склонность к пьянству…
Глеб, наверное, сразу почувствовал, что меня угнетает поднятая им тема. Не смотря на удар по голове он сохранил тонкость натуры и не настаивал на своём. Только что в его взоре и во всей фигуре сквозила неподдельная грусть, но вот уже он снова улыбался как ни в чем ни бывало. Я лихорадочно думал, чем бы таким я мог ему помочь, только чтобы не вводить себя в долгосрочные неудобства. На кого бы его свалить? Решения как-то не находилось, ну да, кому нужен такой вот великовозрастный дитятя? Каким бы он ни был милым… И вспомнилось мне ещё из Евангелия: "А Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову". Я устыдился самого себя и чуть не прослезился. Во всяком случае, на один день я могу приютить Глеба у себя. Мать с бабушкой не будут возражать, они его знают. На том и порешили, и сели на штабель, потому что Глеб предложил докурить незаконченные косяки. Сама идея присесть ради такого дела прямо напротив входа в милицию может показаться ребяческой и предосудительной. Но Глеб, оказывается, знал многих их этих ментов, пока мы шли сюда, он с некоторыми из них при встрече даже здоровался за руку. Может быть, они его, как это говорится, крышевали? Или, может быть, что' ещё более вероятно, они, в основном, и являлись его клиентами? Я не стал допытываться, но, глядя на Глеба, решил тоже быть смелым, хотя бы таким способом выражая ему солидарность и пытаясь искупить малодушие, с которым я воспринял его просьбу о помощи.
После измызганной будки доски показались мне чистыми, я уже смело опустил свой зад на эти занозы. Было высоко и довольно неудобно. В конце концов, я устроился не сидеть, а стоять, прислонившись к штабелю спиной. Наверное, уже вся моя спина была в смоле и опилках. Может, потому Глеб рядится в свою телогрейку потому, что чувствует себя в ней более свободно? Да и кто пристанет вот к такому работяге с косяком?
Мы закурили. Обгоревшая газета немножко припахивала копчёным. И так уже было хорошо, но можно было добавить. Я с интересом зоолога наблюдал, как исчезают и появляются людишки в дверях через дорогу. Все они были одеты в парадную форму и все куда-то торопились.
И вдруг мы поняли, что происходит, но не увидели, а услышали. Где-то справа по улице ударил большой барабан и басом заиграла труба. Вероятно, милиционеры готовились к празднику и решили устроить генеральную репетицию на воздухе. А я и не знал, что при нашем отделении милиции существует духовой оркестр. Или недавно завёлся? Всё это было малоправдоподобно и, учитывая наше состояние, показалось нам тем более забавным.
Мы отклеились от своего штабеля, чтобы посмотреть, продолжая нагло курить. На на нас никто не обращал внимания, все милиционеры стремились на одну малюсенькую площадку с нашей стороны дороги, где уже в основном построился оркестр. До них от нас было, может быть, метров тридцать. Мы увидели аксельбанты и золотой блеск инструментов, отчего-то смотреть на этих бравых молодцов было прямо-таки вкусно. Мы переглянулись – ни у меня, ни у него не было слов, чтобы выразить недоумение. Велики чудеса Твои, Господи! – Что ещё тут скажешь?
Какой же праздник они имели в виду – 1-ое мая или 9-ое мая? Или у них тут какой-нибудь юбилей местного значения, важный именно потому, что он как следует отмечается только раз в сто лет?
Мы опять привалились к штабелю. Милиционеры, надо отдать им должное, быстро настроились и начали играть. Мы даже ещё не успели докурить, но надо сказать, что и косяки были длинные жирные.
Теперь меня окончательно покинула всякая тревога, и угрызения совести оставили меня. Я слушал не совсем стройные звуки оркестра и смотрел в небо, от присутствия Глеба мне делалось тепло и спокойно. Или нет, тепло стало на самом деле. Наверное, пришёл тёплый фронт, который обещали. Мне даже захотелось снять пальто. Птички пели, по-моему синицы, и оркестр играл.
Бедный Глеб, который сразу забывает то, что он сказал, Глеб, который вынужден смеяться над собой, Глеб, который ночует в будке и знает милиционеров по именам, Глеб, с которым я распрощаюсь уже сегодня вечером и, быть может, навсегда. И бедная моя больная бабушка…
Автомобили больше не досаждали нам. Вероятно, в связи с репетицией, временно было перекрыто движение по этой дороге. И воздух был необыкновенно вкусен, несмотря а может и благодаря распространяющемуся аромату анаши. Но было ещё что-то в нём, что-то едва уловимое, но очень важное, знакомое мне даже не с детства, а с младенчества, то, что всегда будоражило меня, то, чего от во мне просыпались неясные, но очень приятные предчувствия.
Музыка была нестройной, мотив едва угадывался. Скорее всего, это был какой-нибудь марш, а, может, вальс. Вальс даже скорее. Барабан бухал, отдаваясь у меня в диафрагме, а трубы булькали в голове, словно моя собственная кровь собиралась закипеть. Но во всём этом не было ровным счётом ничего угрожающего. Я перестал на какое-то время бояться, я вступал в резонанс с этим нелепым оркестром, с весенним утром, с птицами, с домами, даже с машинами, со всём миром, и тело моё пело, стучало пульсом в такт ведущему барабану.
Странно было предположить, что эти милиционеры могут любить меня, но, похоже, они меня действительно любили в этот момент. И я их любил. И Глеб испытывал тоже самое, и мы с ним прекрасно понимали друг друга, и нам не надо было ничего говорить, не надо было даже смотреть друг на друга.
Мы смотрели вверх, в серую голубизну, исчерченную упругими ветками. Косяк дымился и догорал у меня в руке, но всё никак не мог догореть. Время замедлило свой ход и почти остановилось, но музыка, которая может существовать только во времени, всё-таки продолжалась.
Мы стояли и улыбались как идиоты, они дудели в свои трубы, а мы – в свои. Они выпускали звуки, а мы – дым. Всё мне прощалось – и что я не купил цветок бабушке, и что я не мог любить Глеба всю его оставшуюся жизнь. Все мы, смертные, сейчас, в этом единении, были равны.
Становилось всё светлее, уже стоял белый день, и я понял, разглядел то, что происходило непосредственно надо мной. Это были тополя. Коричневые блестящие чешуйки почек медленно отваливались и летели вниз, из таинственной глубины жизни выглядывали тёмно-красные червячки нарождающихся серёжек.
Это был то самый запах, который всегда заставлял моё сердце биться сильнее и туманил глаза слезами. Всего несколько дней, и они неряшливыми гусеницами опадут на асфальт, потом всё это почернеет и будет смыто дождями и стёрто грубыми мётлами.
Но я, наконец-то, застал этот миг, миг рождения тополиных цветков. Они тоже были мужиками, как мы с Глебом, эти тополя над нами, и они сейчас начинали рассылать по ветру свою пыльцу, надеясь, что где-нибудь она даст семя, тот самый тополиный пух, который наводнит Москву месяца через полтора.
Тополя распускались. Каким-то непостижимым образом я видел это, то ли помогала трава, то ли весна, то ли вся моя жизнь собралась сейчас в этой точке, чтобы помочь мне.
Время, как и положено времени, в самый патетический момент, невообразимо растянулось, и между и без того протяжными и ставшими от этого ниже нотами духового оркестра, между сотрясающими воздух, как нестрашные артиллеристские разрывы, ударами барабана можно было услышать целую повесть о странствиях со стороны прятавшейся за дальним бетонным торцом длинного двора железной дороги. А на её фоне, хрипя и скрипя перед тем, как забросить своего крошечного сидельца прямо в небо, раскачивались непоправимо тяжёлые и тугие, за всю свою жизнь никогда не знавшие смазки детские качели. И при всём при этом вокруг ещё было непередаваемо много тишины…
Я всё-таки посмотрел на Глеба и заметил, что у него глаза тоже на мокром месте. И я втянул поглубже в ноздри смолистый тополиный дух, и запрокинул голову на штабель. Оркестр ангельским хором звучал у меня внутри, и я чувствовал как тело моё, подобно древесному, наполняется соком от пяток к макушке, по миллионам прозрачных трубочек восходила нежно-розовая непобедимая сила. Я рос как тополь, и не удивился бы, если бы на моей лысой голове закучерявились серёжки.
Я распахнул пальто и подставил грудь рассеянному звенящему свету апрельского солнца. Если что-то вроде счастья случается на Земле, то это случилось с нами. Воздух был как музыка, а музыка, как небесное вино, текла к нам в уши и в рот. Мы слышали, как открываются почки – щелчок, лёгкое падение и шорох. Мы были почти счастливы.
Позор
«Он, Гитлер-де, может судить обо всём этом гораздо лучше, так как он в Первую Мировую сражался в качестве пехотинца на фронте…»
Э.Манштейн
"И пришло время наконец-то отправляться туда, где мне придётся остаться навсегда", – так подумал я, когда меня очередной раз вызвали в штаб.
До дембеля оставалось, самое большее, два месяца. Приказ уже был объявлен, и празднования по его поводу сменились затяжным ожиданием.
Последнее время всё вроде бы нормализовалось. Никто не погибал. Во всяком случае, погибало не больше, как мне казалось, чем в любой другой военной части, расположенной на какой-нибудь гораздо более мирной территории. Солдаты, как известно, болеют, голодают, стреляются нарочно или случайно, замерзают по пьяни. Но не везде они часто наступают на мины, тут уж у нас было больше возможностей.
И не то чтобы это была такая уж дедовщина. Хотя поначалу так оно, конечно, и было. И часть-то у нас была не очень большая, так что даже хлеба всем хватало. Я попал сюда по призыву, хотя, как меня уверяли, по призыву никого сюда давно не берут. Потом кто-то мне сказал, что я бы мог отказаться, закосить, что, мол, пацифист и пр. Что бы в конце концов мне сделали? Ну, в психушке бы отсиделся.
Почему я этого не сделал? Да нет, не потому, что так уж люблю приключения. И никаких особенных патриотических чувств я не испытывал. Просто, когда это произошло, т.е. когда я окончательно осознал, куда мы едем, я ощутил взгляд судьбы. Она смотрела на меня, ну точно как удав на кролика, и я не мог не поддаться этому змеиному очарованию. «Пусть всё идёт, как идёт…» Не знаю, ведь это кто-то сказал. Наверное, из какого-нибудь фильма…
Как ни странно, оказалось, что рядом со мной много таких. Они не роптали, ни о чём не просили и, похоже, даже ни на что не надеялись. Я не верил своим глазам. Неужели я не один такой? Неужели целое поколение выросло, поколение фаталистов?
По телевидению только и делают, что рассуждают о социальных условиях, – будто в этих социальных условиях есть какой-нибудь смысл. Ну да, у одного условия лучше, у другого хуже – что с того? Кто-то, наверное, в силу этих своих условий ни коим образом не мог бы попасть сюда. Мы попали. А он попал ещё куда-то, только и всего. Во всяком случае, нас здесь было немало, поэтому нам было не так страшно.
Но те, кто здесь были до нас, конечно, не могли нас сразу принять на равных. Говорят, на войне дедовщина отменяется. Но здесь уже вроде было мирное время. Я бы сказал, перемежающееся войной мирное время.
Когда у тебя появляется надежда, что тебя не убьют в ближайшие несколько месяцев, но ты должен сидеть и ждать, потому что всё-таки, паче чаяния, это может произойти, становится очень скучно и хочется покуражиться над кем-нибудь. Куражиться безопасно только над кем-нибудь слабым, потому что иначе это опять-таки увеличивает риск быть убиенным.
Да и не происходило с нами ничего такого сверхобычного. Как и положено новичкам, мы занимались самой грязной работой, только и всего. Конечно, били, но мне на гражданке, случалось, доставалось и больше. Было очень плохое питание, но я же выжил – так что грех жаловаться.
Вы, разумеется, знаете, что в армии любят посылать за «менструацией». У нас такого не было, но только потому, что все знали, что такое менструация. При всех недостатках образования, что касается секса, кругозор масс за последние года сильно расширился. У нас были другие приколы, и это связано было с местными условиями. Зачем посылать молодого за какой-то менструацией, если его можно послать к горцам за травой или водкой. Может и не вернуться – ну что ж, невелика потеря, он же молодой, мы к нему ещё не успели привыкнуть – всё равно что эмбрион, до срока извлекаемый из матки. А уж что' получится – кесарево сечение или аборт – посмотрим.
Да нет, всё обстояло не так уж и кровожадно. В основном, возвращались. У горцев был свой бизнес, у нас свои принципы. Они знали, что русские могут вдруг рассердиться по самому пустячному поводу. Ничего, ничего, а потом вдруг начинают выжигать землю. За это нас не любили, за это и боялись.
Я конечно был не самым приятным собеседником для прожженных псов войны. В глаза им старался не глядеть, а если глядел, не появлялось в них никакого подобострастия. За гордость меня можно было бы простить, если бы я не говорил иногда непонятных вещей. Видит Бог, я вовсе не хотел обижать старослужащих и офицерский состав, просто, хоть изредка, я всё-таки должен же был разговаривать. Ну, хотя бы по делу. И тут уж проявлялась натура. И образование. Сам не знаю, где это я нахватался.
В одной из книжек, которую мне довелось прочитать, рассказывалось о молодом самурае, который считал, что у него слишком умное лицо и последовательно и самоотверженно боролся с этим недостатком, чтобы не задевать самолюбие начальства. Это, в общем, вполне в духе христианской максимы: «Повинуйся начальнику своему».
Но где мне было взять смирение? Я вовсе не хотел получать оплеухи. Я хотел жить и хотел сохранить целым нос, имея в виду хотя бы будущую собственную свадьбу. Много чего я хотел сохранить. Но военные доктрины утверждают, что нельзя защищать сразу всё. Отчаявшийся на такую тотальную защиту, в конце концов, всё и потеряет.
Я не желал жертвовать ничем, но зато мною могли запросто пожертвовать. Как пятым колесом в телеге. И в чём-то они были правы. Что' я тут искал, рядом с ними? Ведь, как уже сказано, я не совсем случайно попал сюда. Солдата не могут не раздражать политики, корреспонденты и прочие, сующие нос не в своё дело. И хотя я был на одинаковых правах с ними, слушая мои речи и глядя в мои глаза, они ощущали гнетущее неравенство. Только подверженность смерти равняла нас, и из этого вытекало вполне логичное решение о том, что уж раз я такой особенный, то почему бы мне не быть одному из первых?
«Зачем ты сюда пришёл? – как бы спрашивали меня наши старички. – Ты ищешь смерть? Что ж, ты найдёшь её». И если почти всех их можно было уличить в недостатке образования, то уж в недостатке интуиции никак. Здесь это шестое чувство очень быстро развивается, не владеющие им в совершенстве просто не выживают.
Потому-то, когда мне предложили первый раз прогуляться к чеченцам, я не стал устраивать истерик. Если бы побежал к командиру, упал бы в ножки – ну, накостыляли бы мне, ну, потомился бы в карцере, но, скорее всего, выжил бы. А тут – полная неизвестность. И не то чтобы за время моего пребывания здесь так уж много наших оттуда не вернулось. Таких случаев, слава Богу, пока не было ни одного. Но ходили упорные слухи. Дыма без огня не бывает. А здесь мне уже довелось видеть и огонь. Мины взрывались, стреляли. Непонятно кто в кого стрелял, но выстрелы раздавались почти каждую ночь. В конце концов, к этому привыкаешь, почти как к хору кузнечиков.
С другой стороны, такой поход можно было расценивать как боевое крещение. Дорога к горцам представляла собой своеобразную полосу препятствий. Говорят, всякий раз, когда они приглашали к себе кого-нибудь из наших, они заблаговременно устанавливали на пути какую-нибудь неожиданность, а то и не одну. Чем не азартная игра? В ней могут принимать участие желающие и с той и с другой стороны. Дойдёт или не дойдёт? Не удивлюсь, если по предварительному сговору в нашими офицерами. Развлекаться ведь все хотят, а тут не так уж много развлечений. Надо использовать возможности.
Почему я? Ну, была и ещё причина. Все знали, что я недавно получил перевод. Это здесь вообще нечасто случается. У большинства родители бедные, и почта плохо работает. У молодых вообще-то переводы, как правило, безжалостно отбирают. Я-то ещё удивился, что это меня сразу не начали шманать. Только улыбались как-то загадочно – видать, уже знали. В самом деле, принцип экономии должен соблюдаться во всём. Расставаться со своими деньгами всякому жалко. А тут не надо и сбрасываться – товарищ готов к бою и вооружён, т.е. имеет достаточные средства, чтобы послужить общему делу.
Я пошёл. В какой-то момент у меня всё упало внутри. "Это всё," – подумал я. "Какой идиот! Зачем я это делаю?" – подумал я. Но хотя и не получил на свой вопрос ответа, почувствовал, как что-то неожиданно тёплое и успокаивающее появляется в глубине груди. Это я жалел себя, и от этой жалости делалось тепло. Я уже относился к себе как к безвременно ушедшему, и от этого делалось легче.
Тысячи раз в тысячах разных мест, в выступлениях, в докладах, в книгах осуждались агнцы, безропотно идущие на заклание. И наоборот – воспевались герои, предприимчивые пионеры, открывающие новые горизонты ценой невероятных усилий. Умирать было глупо. Нужно было бороться до конца – таково было требование людей, которые продолжали руководить нами. И кроме того, для того чтобы победы свершались, всё-таки кто-то должен был умирать.
Я и не собирался помереть глупо. Иначе я попробовал бы, например, закосить, испортив себе здоровье. Я хотел играть по-честному. В этом, правда, было что-то немецкое. И сам не знаю, откуда это во мне. Трудновато приходится с русскими, а тем более с горцами, когда ты немного немец.
Я хотел играть по-честному, и уж если помереть, так помереть, если выжить, так выжить. Я никому не собирался лизать пятки. Но мне было страшно. Пока мне удавалось сохранить лицо, хотя по нему и били. Теперь я вынужден был иметь дело со врагом, которого почти не знал.
Вы скажете: всего-то послали за травой к чеченцам. Шёл бы и всё. Чего тут разглагольствовать? Бог не выдаст, свинья не съест. Кто его знает, где кончается трусость и начинается глупость. Я знал, я слишком хорошо знал, чем это всё может кончиться.
Хотя мне и сказали вернуться как можно быстрее, я понимал, что им всё равно придётся меня дожидаться столько, сколько чеченцы захотят меня продержать, или сколько я захочу, потому что пока я нахожусь в дороге, я почти совершенно свободен и от тех и от других. Только от смерти я не свободен. У меня еще, кажется, не было увольнительных? Вот и отлично, подышу свежим воздухом. До сей поры нас даже ни разу не выпускали с территории части, можно сказать, из казармы – всё время приходилось что-нибудь драить и чистить. К тому же, у меня в первую же ночь спёрли сапоги, и я, ничего не предпринимая, довольно долго из чувства противоречия, ходил в тапочках. Это мне, конечно, кое-чего стоило, но зато обувь выдали, новую.
Вот теперь и будет возможность её обтоптать. Место, куда я иду, я представлял лишь только очень приблизительно. Я и горцев-то толком не видел. Однажды только, на построении, ко мне подошёл какой-то, неизвестно откуда взявшийся на территории части, нехорошо улыбнулся и ткнул меня под ложечку. Сержант отогнал его, шутливо помахав автоматом. Оказалось, что они чуть ли не друзья. Наверное, это был кто-то из местной чеченской администрации.
По христианским понятиям я должен был любить и этого зачем-то ударившего меня урода, и сержанта, у которого харя поперёк себя была ширше, и который тоже не раз оскорблял меня и бил на протяжении последних дней. Я носил под формой крест, и это поощрялось, но простить я их не мог, как ни упрашивал самого себя. Может быть, мне не хотелось их немедленно убить, но если бы они вдруг упали рядом бездыханными, я бы только вздохнул с облегчением. И таких людей, т.е. таких, которым я тайно желал смерти, здесь было почти большинство.
Какое же я право после этого всего имел на что-то рассчитывать? «Не судите, да не судимы будете». Но я судил в сердце своём, ещё как судил.
Тот самый сержант в самых общих чертах указал мне, как и куда я должен добраться, как вести себя, когда доберусь, и кого спросить. На самом деле, этот сюжет до смешного напоминал сюжет сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Но мне почему-то было не смешно.
Хорошо ещё, меня не послали ночью. Такое, говорят, тоже случается. Это уж была бы наверно верная смерть. Хотя, кто мне мог помешать отсидеться в каком-нибудь тихом месте до утра? Мозги надо иметь!
Я вышел утром, мне даже дали позавтракать и масло не отняли. Всё-таки, став потенциальной жертвой, я ощутил к себе некоторое почтение. На прощание сержант, правда, дал мне пинка, но сказал, что это такой обычай. Что-то вроде пожелания «ни пуха ни пера». Вот он-то, похоже, не так уж и сильно желает мне смерти. Хотелось мне огрызнуться – ну, стукнуть его хотя бы новым ботинком в коленную чашечку. Я всё равно ухожу и не знаю, вернусь ли, это делало меня смелым. Но я сдержался, быть может, зря. Но сержант, в конце концов, был наш и тоже, может быть, когда-то ходил за местной «менструацией».
Тропинка вела через открытое поле, на котором так давно ничего не сеяли кроме металла, что можно было уже говорить об образовании новейшего слоя полезных ископаемых. Я старался смотреть под ноги и не отвлекаться на красивые цветы. Какой-нибудь необычный цветок вполне мог соответствовать смертельной ловушке. У некоторых чеченцев наверняка есть поэтическое воображение, и я склонен был предполагать, что они отнюдь не всегда ловят дичь на старые кошельки. Глупому русскому – глупая смерть, умному русскому – умная смерть, всё по справедливости.
И поскольку со своим умищем я ничего не мог поделать, как тот продавец, похожий на Карла Маркса, из анекдота, мне оставалось быть только очень осторожным.
Но похоже, я переоценивал способности чеченцев. Они, конечно, люди поэтичные, я бы даже сказал, душевные, но ленивые. Вот в этом они даже нас, русских, превосходят. Может быть, потому-то так долго и тянется эта война.
Испытывая судьбу, я специально разглядел поближе несколько красивых цветков. У нас такие не растут. Нигде я не обнаружил никакого подвоха и даже зашагал быстрее, но вовремя спохватился – всё же не следует терять бдительности, ни при каких обстоятельствах.
Поле-то я прошёл, а за полем была настоящая череда препятствий, развалины жилого квартала. Кто-то и когда-то выстроил здесь современные панельные дома, смотрелись они точно также, как где-нибудь на окраине Москвы. Вернее, смотрелись бы, потому что от них ко времени моего визита сюда мало что осталось. Можно было подумать, что эту местность специально долго приспосабливали для игры в войну по-взрослому. Естественно, местные жители мешались, убраны были также окна, двери и некоторые этажи. Похоже, здесь уже никто и никогда не собирался жить, всеми как бы овладело отвращение к этому месту. Оно, наверное, толком так ни для кого и не успело стать домом. Если кто и вселился, то был взорван или расстрелян. Ещё не успели вырасти корни, как их отрубили.
Тропинка шла по пути наименьшего сопротивления, т.е. не делая большого крюка вокруг развалин, но выбирая наиболее проходимые направления. Здесь, говорят, подарки встречались даже чаще, чем на поле. Оно и понятно, растяжку, например, куда удобнее было приспособить где-нибудь у стены.
Я не встретил никого. Только одинокая, полудикого вида корова, каким-то чудом ещё не ставшая мясом, бродила на туманном горизонте. Развалины располагали к тому, чтобы отдохнуть, полежать где-нибудь в тени. Всякое отклонение от курса опасно – это я знал. Но и сам курс чуть ли не гарантировал неприятности. Так что, выбирать было в общем-то не из чего.
Очень тщательно я стал выбирать дорогу, очень внимательно смотрел по сторонам. Не обнаружив ничего замечательного, кроме нескольких использованных шприцев и окаменевших кучек говна, я наконец решился присесть на какой-то относительно ровный кусок бетона. Это, разумеется, могло стоить мне жизни. Но на этот раз обошлось. Сидеть здесь, имея в виду некоторые запахи, было не очень приятно. Но я был благодарен судьбе и за такой отдых, последние месяцы мне вообще редко удавалось присесть. Курить было нечего и нечего было надеяться найти здесь хоть какой-нибудь приличный бычок. Я пожалел, что сержант не дал мне в дорогу котомку с какими-нибудь пирожками, как мама Красной Шапочке, а то, может быть, передал бы какому-нибудь его другу… Горько усмехаясь, я наблюдал за пауками и ящерицами, бегающими по разогретым солнцем камням.







