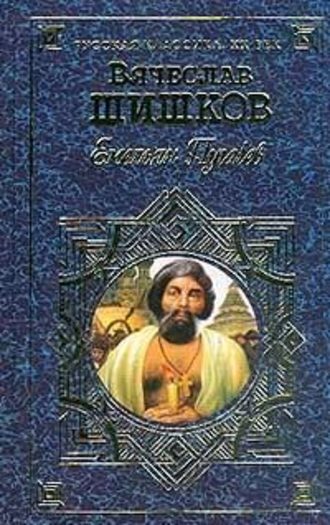
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
2
Между тем веселье было в полной силе: присвист, балалайки, дудки, плясы – дом дрожал. Грузно кидаясь вправо-влево, тряс боками семипудовый Пустобаев, разухабисто выкрикивал:
– Эх, кахы, кахы, кахы! Эх! Кахы, кахы, кахы!
Верткий Падуров выкручивал с носка на каблук забористые штучки. Скакали веселыми козлами Иван Александрыч Творогов в паре с атаманом Овчинниковым. Возле них крутились каруселью, взвизгивали, гикали молодые казаки. Вот втерлась в круг танцоров пышнотелая Ненила, за ней – молоденькая черноглазая татарка, за ней – подслеповатая полупьяная баба Лукерья в новых липовых лаптях и чубастый Ермилка с наклеенными под носом, смеха ради, черными усами. И все это – живое, пестрое – загайкало, с силой завертелось в вихре.
Митька Лысов, продолжая ругаться и бубнить, схватил самую большую кружку, до краев наполнил ее вином и с жадностью, единым духом выпил. Затем грохнул кружку об пол, вскочил на стол, спиной к Пугачеву, и диким голосом заорал что-то несуразное в толпу.
– Полковник Лысов, слезь! – озлобленно выкрикнул из хоровода плясунов разгорячившийся атаман Овчинников и резко взмахнул рукой: – Геть! Государю смотреть мешаешь.
– Ха! Государь... – истошно, стараясь заглушить шумливый, беснующийся в плясе хоровод, закричал Лысов. – Знаю, знаю я, кто батюшка-то наш... Емелька Пугач он, вот кто! В манифестах государыни все пропечатано... – Он, видимо, потерял всякую волю над собой и безудержно катился в пропасть. – Гей, казаки! Выбирай меня едино... единодержавцем... Завтра же Оренбург возьмем, по колено в золоте ходить станем, в господском вине купаться!
Пугачев впился руками в локотники кресла:
– Заткните ему глотку!
Горбоносый Овчинников, схватив Лысова за ворот ярко-красного чекменя, уже сдернул буяна со стола, опрокинул его на пол, начал душить. Лысов отчаянно барахтался, хрипел.
– Стой, Авдей Афанасьич! Не трог полковника! – кинулся к Овчинникову прибежавший с улицы Максим Горшков, – он в меховом чекмене, в шапке и с плеткой через плечо.
Пляска чуть приостановилась, наиболее трезвые казаки уже вытягивали шеи, стараясь всмотреться и понять, что такое среди начальства приключилось.
– Митя, друг! – меж тем обратился Горшков к Лысову. – Что ты наделал... Ведь тут тебя... Ах, друг!... Пойдем, Митя, тихо-смирно на улку.
– Макся, ты? – проквакал насмерть испугавшийся Лысов и стал чихать. – Этот сволота Овчинников... за горло... головушка гудит. Охмелел я... Пойдем, пойдем скорей.
Была звездная ночь с морозцем. Свежий воздух благотворно вламывался в грудь, охлаждал взбудораженную кровь, прогонял хмельной удар из головы. Во дворе уныло тявкала продрогшая собака, гремела цепью. У высокого столба с сигнальным колоколом маячили черными тенями два неподвижных человека. Вдоль прясла привязаны казацкие лошади, они хрупали овес, отфыркивались, всхрапывали.
– Веди меня домой, Макся, я тебе два золотых перстня подарю, – бубнил Лысов. – Стой! Колодец... Водички бы. Душа горит, объелся. Чхи!
Колодец был с высоким журавлем, с железной бадьей.
– Кто тебе, Лысов, сказал про батюшку, что он Пугачев? – сквозь зубы прошипел Максим Горшков.
– А сам Чика сказал, что вот кто.
– Ой, врешь! А ежели и так, ежели проболтался кто тебе, так по тайности, да и зазря, потому как ты сволочь, – скоргоча зубами, шипел Горшков, – ты всякому болты болтаешь. Мы знаем, как ты третьего днись в тверезом виде нашим илецким казакам о том же самом брякал, а вчерась – трем пленным гренадерам, их сомущал...
– А вот буду брякать, буду! А вы...
Он не договорил. Сзади подскочил Идорка, размахнулся, ударил Митьку кирпичом по затылку. Тот враз уткнулся по плечи в колодезный сруб.
– Спускай!
Татарин схватил Митьку за ноги и с силой сбросил его вниз головой в колодец.
Загремела собачья цепь, залаял Шарик. За высоким тыном, вдоль дороги, громко переговариваясь, ехал казачий дозор. Во дворце, сквозь подернутые морозом стекла, тускнели огоньки, просилась наружу заунывная степная песня.
– А где Митя? – спросил Андрей Овчинников вошедшего в шумное зальце Горшкова.
– Воду пьет, – басом сказал Горшков и задвигал бровями; глаза его хмурые, неспокойные, взбаламученное сердце гулко колотилось.
Казаки с Витошновым дружно выводили песню. Затем, усталые, сытые, принеся благодарность государю, начали расходиться по домам. Остались только ближние.
Поднялся с полу проспавшийся поп Иван, разыскал митру, истоптанную каблуками плясунов. Качая головой и причмокивая, он выправил ее, пообчистил, водрузил на кудлатую голову, поклонился Пугачеву в пояс и поблагодарил за угощенье...
– Не обессудь, – ответил мрачный Пугачев. – Пошто ты в архиерейском колпаке-то?
– А как я могу в другом виде пред очами отца отечества, государя самого, явиться?
– Изрядно говоришь. А на ногах лапти... Пошто вы ему, господа атаманы, сапожнишек не добудете?
– Ох, царь-батюшка, – опустил поп голову, – добывали мне благодетели, добывали... да я... я возьму да и пропью, благословясь. Вот все корят меня – пьяница, пьяница! А чего ради винопивцем-то стал аз, грешный, об этом-то никто не спросит.
– Ну, ступай себе, отец Иван, ступай! Да не жри винцо-то зря, а то я выгоню, а нет – так плетьми велю выдрать.
Чем свет труп Дмитрия Лысова был извлечен из колодца и повешен. Палач Иван Бурнов вздымал его на виселицу охотно и с легким сердцем. А ближние все еще сидели с государем вмолчанку, грызли поджаренные арбузные семечки или вели разговор о пустяках. О скандальном же поступке Лысова никто не вымолвил слова. Пугачева стало клонить ко сну. Последним уходил от хозяина Шигаев.
– А где же полковник Лысов, запьянцовская голова? – спросил Шигаева Емельян Иванович. – На фатеру, что ли, увели его, али под арестом?
– Нет, ваше величество, – ответил Шигаев резко. – Подмок он маненько, ну так и подвесили его... сушиться.
Пугачев не вдруг понял. А поняв, сказал глухо:
– Так, так... Что ж, сам в петлю влез...
По армии было объявлено:
«Постановлением Военной коллегии полковник Дмитрий Лысов, уличенный в государственной измене и беззаконных грабежах середь населения, приговорен к казни смертию, что и совершено».
Труп Митьки висел три дня, на четвертый был брошен в овраг, на съедение волкам и хищным птицам.
3
По прибытии в Берду Перфильев сразу направился к своему доброму знакомцу, с которым важивал в Яицком городке хлеб-соль, главному атаману Овчинникову. Атаман с грамотным молодым казаком Ершиком проверял записи по выдаче казакам жалованья: Ершик диктовал цифры, атаман щелкал на счетах.
– Ба! Перфиша! Да откудов это ты? – воскликнул Овчинников, пораженный столь нежданной встречей с другом. Обнявши гостя, он отправил Ершика домой, а свою прислугу – форсистую, в скрипучих сапогах и бусах Фросю – послал к Горшкову: – Добудь-ка нам, девонька, веселенький штоф хмельничку!
Гость и хозяин остались одни. Перфильеву сорок три года, Овчинников был почти на десять лет моложе его, а уже имел при Пугачеве высокое звание. За короткое время атаманства он привык властвовать, был строг и тверд характером. Серыми умными глазами уставился он на гостя с некоторым подозрением. На него исподлобья смотрел Перфильев; его некрасивое, изрытое оспой лицо было сурово. Так они старались испытать один другого. Да оно и понятно: время стояло необычное, смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и, дико сказать, – за самого себя.
Вспомнив, однако, про свою давнишнюю дружбу, они оба, как по уговору, облегченно захохотали. Овчинников потрепал приятеля по плечу, сказал:
– Толкуй-ка, брат, толкуй!
– А я, друг, из Петербурга, Андрей Афанасьич, – пряча завилявшие глаза, пробасил Перфильев. – А как прослышал, что здеся-ка объявился своею персоной государь, не стерпел, бросил все дела, да тайком и ударился сюда, послужить хочу батюшке.
– Хм... – недоверчиво хмыкнул длиннолицый горбоносый Овчинников, оглаживая кудрявую, как овечья шерсть, бороду. – Да ведь ты же был нашими казаками послан в Питер по войсковым делам. Как же ты, не окончивши делов, улепетнул оттудова?
– А чего же попусту поклоны там терять, Андрей Афанасьич? Рассудил я, что милости искать сподручней у самого государя.
– Так-то оно так, теперича мы и сами резолюции кладем, – сказал Овчинников. – Только нам, яицким казакам, все милости от пресветлого государя уже дадены по манифесту его. А вот ответь-ка мне: каким ты побытом из Питера мог вырваться самовольно? Да тебя уже двадцать разов изловили бы, покудов ты сюда ехал. Сдается мне, лукавишь ты, Перфиша, чего-то, какую-то утайку творишь от меня.
Перфильев надул губы, отвернулся, побарабанил пальцами по столу, затем с сердцем сказал:
– Не чаял я, что этак примешь меня, Андрей Афанасьич, с подозрением с таким.
– Вот и обидно, что своему приятелю врешь ты. Сознайся, ведь врешь, Перфильев? Я, брат, не терплю этого. У нас, брат, знаешь как? У нас, брат, здеся-ка строго!
Перфильев взглянул в серые похолодевшие глаза Овчинникова и сказал, вздохнув:
– Ну, слушай! Опасался я тебе открыться-то, понимаешь? Как бы ты простой казак, так моя душа вся пред тобой настежь была, а теперь ты самоглавный атаман. Эвот у тебя сабля-то какая, вся в серебре да золоте, и чекмень с позументом. Думал, наляпаешь на себя лишнего, так ты...
– А ты говори, говори о деле-то, а то девка скоро вернется, – нетерпеливо сказал Овчинников и раскинул по столу крепкие руки.
– Прямо, без утайки скажу, – решительно начал Перфильев. – Послал меня сюда граф Алексей Григорьич Орлов и дал повеленье казаков от самозванца отвращать, чтобы они от него отстали да связали бы его. Тогда, сказал мне граф Орлов, вы и все милости от государыни примете...
– Вот видишь, Перфиша, не прав ли я был, что в подозрении держал тебя? – тяжело задышав, сказал Овчинников и нахмурил брови. Наступило томительное молчание.
Затем Овчинников заговорил:
– Начхай ты на этого Орлова, мы сами здеся-ка Орловы-Чернышевы, графья! Плюнь, говорю, да служи верно батюшке – он точный государь, Петр Третий. Эвот его даже офицеры признают. Недавно Горбатов, офицер из Оренбурга, перебежал к нам, так и он в государе уверился довольно. А что Екатерина нашего государя злодеем обзывает, так это ее дело: ей податься некуда, ей так и так надобно простой народ обмануть. Идем, идем, Перфиша, к государю нашему, откройся ему во всем...
Пугачев только что вернулся с Маячной горы, куда он ездил с офицером Горбатовым, дававшим ему наглядное пояснение, как Оренбургская крепость устроена.
Войдя во дворец, Овчинников велел Перфильеву обождать в прихожей, а сам, прихрамывая, прошел в золоченое зальце и доложил Пугачеву о приехавшем из Петербурга казаке.
– Покличь! – сказал Пугачев. – А сам ты, Андрей Афанасьич, шагай до Военной коллегии, пущай все сюда идут. Надо нам под Уфу человека слать, чтобы обначалить дело наше, полагаю Чику туда спосылать, благо он на Воскресенском заводе, не столь уж далече от Уфы-то.
– Отменно, ваше величество, рассудить изволили! Чика хорош будет. Ну-к, я пошел в коллегию.
Войдя к царю и взглянув на чернобородого плечистого человека в простой казачьей одежде и в длинных валенках, Перфильев сразу заскучал сердцем. «Вот так царь, – подумал он, – мужик – мужик и есть... Ах, сукин сын Овчинников!» – и повалился Пугачеву в ноги. Сделал это вопреки всем своим мыслям, как если бы кто с силою толкнул его: на колени! – столь повелителен был взгляд у этого детины.
– Встань и расскажи, что ты в Питенбурхе делал?
– Был по войсковому делу там, да, не дождавшись резолюции, коль скоро услыхал, что вы здеся-ка объявились, бежал, чтоб служить вам верой и правдой.
– Истину ли говоришь мне, есаул? Не кривишь ли? Не шпионствовать ли прибыл к нам? Ась?
– Нет, ваше величество, супротив вас я никакого намерения не имею. Не такой я человек, чтобы...
– Ой ли? Ну, гарно, гарно... В таком разе оставайся, служи верно, как все казаки ваши мне служат. – Пугачев разглядывал Перфильева в упор. Он казался ему человеком твердым, воинственным и как будто честным. Лишь не нравились глубоко запавшие глаза казака, то, как исподлобья, сурово и хмуро смотрел он. – Ну, иди с Богом!
Когда Перфильев вышел через сени на крыльцо, охрана яицких казаков расступилась перед ним. Его все знали, спрашивали наперебой:
– Каким побытом пожаловал к нам, Афанасий Петрович? Ну, каково в Питере? Каково в дороге? Поди, государыня-коварница войско по нашу душу шлет?
– Нет, не бойтесь, братья казаки, – здороваясь со знакомыми, говорил коренастый, небольшого роста Перфильев, рыжеватые щетинистые усы его топорщились. – В Питере есть слых, что промежду великим князем Павлом Петровичем и его матерью черная кошка юлит. Быдто бы Павел-то Петрович сторону родителя держать собирается, Петра Федорыча!
– Дай-то Бог! – откликнулись хором казаки.
Перфильев, умный и бывалый, после краткой встречи с Пугачевым враз почуял в нем человека стоящего, сильного духом. «Эка диво, что в мужицком шебуре! Он ведь с похода прибыл... А вот как взглянул в глаза, так насквозь, кажись, и усмотрел меня. Эх, дурак я, дурак!.. Не открылся сразу! Беспременно открыться надо. Все начистоту доложить!»
К явившейся во дворец Военной коллегии Пугачев вышел не вдруг. Он облекся в нарядный, с позументами, кафтан, в бархатные, малинового цвета, шаровары, в желтые татарские, шитые шелками, сапоги.
Иван Почиталин вытащил из кармана бутылку с чернилами, Максим Горшков – свою. Поднялась вслед им из кухни Ненила, зашумела:
– Это чего же вы, молодцы, озоруете? Склянок поганых понатыркали на чистую скатерть... Опрокинете, кому стирать? Уберите!
Почиталин с Горшковым, оробев крикливой бабы, сняли чернильные бутылки. Ненила сдернула скатерть, сказала:
– Ладно, и на голом столе наварачкаете бумажонки-то, не бо знать какие писаря великие!.. – Она пренебрежительно крутнула носом. – Эта скатерть батюшке дареная... Сама Стеша Творогова препоручила ему... Ой, да уж... Не глядели б мои глаза... Чего пялишься-то на меня, Иван Александрыч? Не узнал? Твоя хозяйка батюшке скатерку-то приперла!.. Твоя, твоя!
– Геть на кухню! – притопнул на нее появившийся на пороге Пугачев.
Ненилу как ветром сдунуло. Иван Творогов, вдруг помрачнев, метал косые взгляды на батюшку и, потеребливая черную, в крупных кольцах, небольшую бороду свою, сидел все время молча.
Пугачев приказал думному дьяку Ивану Почиталину составить именной указ Чике-Зарубину, находившемуся на Воскресенском заводе, чтоб он немедля отправлялся в Уфу и принял начальство над всей собравшейся там толпой усердных государю воинов.
– Окромя того... Ну-ка ты, Горшков, возьми бумажку, подобротней которая, голубенькую, да напиши Ивану Зарубину тако: «Я, Божией милостью Петр Федорыч Третий, император, тебя, Зарубина-Чику, облекаю навсегда полной мочью. И всем, как военным, тако и гражданского и церковного званья особам, тебе во всем покоряться. Облекаю тебя полной мочью казнить и миловать».
Пока Горшков, сопя и выделывая губами натужливые гримасы, писал, Пугачев, наморщив полуприкрытый челкой лоб, выискивал в своей памяти знаменитых генералов, с коими приходилось ему встречаться. «Граф Чернышев, с ним мы Берлин брали!» – мысленно воскликнул Пугачев и спросил Горшкова:
– Ну, что, господин секретарь, написал, что ли? Пиши еще... как его... лескрип: «И жалуем мы тебя, Ивана Зарубина, в графы Чернышевы. Отселева ты больше не Зарубин-Чика, а именоваться тебе по всей государственной форме тако: граф Чернышев...» Господа Военная коллегия, поздравляю вас с новым произведенным графом! И напредки нам надобно, внушения ради, званья графьев да князьев раздавать достойным. Давилин, прикажи, чтоб из пушки три раза вдарили в честь нашего казацкого графа Чернышева. А ты, Овчинников, не забудь объявить по полкам, чтобы честь честью касаемо чина и порядка.
4
С казнью полковника Лысова воздух очистился: атаманы и все приближенные вздохнули свободнее. На душе Пугачева тоже полегчало, как будто ему вырвали больной, сгнивший зуб.
За последнее время Дмитрий Лысов стал вносить в армию начало распада. По природе предприимчивый и коварный, он явно горел завистью к Пугачеву, умышлял тем или иным манером свалить его, захватить власть и объявить себя «не каким-то там царем», а доподлинным «казацким батькой». В этом духе он и действовал: копил богатства для подкупа нужных людей, старался расположить к себе казачьи низы, крестьян и солдат. Привлек на свою сторону офицера Волжинского. Эти кривые, но далеко нацеленные пути Лысова впоследствии узнались.
Пугачевскому штабу довелось принять меры, дабы на корню прикончить брожение в армии. Военной коллегией было предано казни двенадцать явных изменников. А когда начались побеги заговорщиков, беглецов ловили и немедля вешали. «Нечего злодеям мирволить, – говорил Емельян Иваныч в Военной коллегии и добавлял с угрозою: – Я еще доберусь и до шатунов-паскудников, кои не прочь повоздыхать об участи изменников... То в понятие воздыхатели не берут, что не укроти мы бешеного пса – он тысячи невинных загубит!»
Большую, полезную для порядка работу среди казаков, крестьян и солдат вели офицер Горбатов, атаман Витошнов, Горшков, Шигаев, полковник Падуров, отчасти офицер Шванвич. К речам депутата Большой комиссии, полковника Падурова, всегда носившего на себе депутатский золотой знак, народ относился с особым доверием. Верили люди и слову Горбатова, они уважали его как офицера, самовольно передавшегося батюшке.
– Мы, как люди образованные и в Петербурге подолгу жившие, – говорил Горбатов, – можем вас заверить, что тот, который называет себя государем, есть истинный государь Петр Третий, уж вы никакого сомнения не держите в мыслях. Он и в военном деле искусен, и ум у него крепкий, и государственные знания его предостаточны, да и по портретам зело схож, только что бороду отпустил.
Эти речи говорились не как заранее приготовленные, а как случайные дружеские беседы во время обычных учебных стрельбищ при полевых экзерцициях. Пугачеву было известно усердие офицеров, он прислал в подарок Горбатову и Шванвичу по отличной шубе.
Офицер Волжинский, живший в одной избе со Шванвичем, был арестован и казнен. Ему вменялась в вину государственная измена. Он подговаривал своих гренадер сесть ночью на казацких коней и мчать к губернатору Рейнсдорпу. Выдали его сами же гренадеры, в том числе денщик Шванвича, старый Фаддей Киселев. Он еще в походе усумнился в Волжинском и непрерывно следил за ним.
Вскоре после казни Волжинского в избу к Шванвичу с небольшим мешком в руке вошел Андрей Горбатов.
– Здравствуйте, Шванвич, – поприветствовал он молодого человека, читавшего возле окна книгу. – Вы не удивляйтесь, что я вломился в вашу келью без зова. Меня полковник Падуров направил к вам в сожители. Которая койка Волжинского? Эта? Чудесно! Жизнь есть жизнь, война есть война! Один уходит – другой на его место! – Он бросил мешок в угол, снял шубу.
Молодые люди пожали друг другу руки. В связи с изменою Волжинского юный Шванвич приметно насторожился и с людьми держал себя замкнуто. С Горбатовым он уже успел встретиться несколько раз, Горбатов был симпатичен ему.
– Слушай, Горбатов, я ласкаю себя надеждой, что мы сойдемся хорошо.
– Что ж, Шванвич, я буду рад этому... Вот дурак какой сожитель ваш, Волжинский этот, – продолжал он. – Взял да и сгубил себя безрассудно. Да разве побеги устраивают так?.. Сущий дурак! Без меры болтал и... все прочее.
Горбатов отдернул занавеску в кухню, заглянул на печку, спросил:
– Вашего личарды, Киселева, нету?
– За бараниной ушел.
– Так вот, – раздумчиво сказал Горбатов, провел пальцами, как гребнем, по волнистым белокурым волосам, сел на кровать и уставился в лицо Шванвича темными улыбающимися глазами. – Так вот, Шванвич, можно нас с вами поздравить: мы оба на службе у самозванца... Да, да, у самозванца! Но какого! Талантлив, как сто чертей...
– О каком вы самозванце? – воскликнул Шванвич с явным притворством, тем не менее вздрогнул, как при ударе. – Он же царь, Петр Третий. Я безоглядно почитаю его таковым.
– Ай-яй, Шванвич! Как не стыдно прикидываться! – по-серьезному возразил Горбатов, глаза его перестали улыбаться. – Он такой же царь, как царица Екатерина – матерь всех скорбящих. Оба неплохие актеры, только наш играет по воле народной, а та – под дудку сиятельной знати... Что, не так?
Шванвич вскочил с табуретки и принялся взволнованно вышагивать из угла в угол.
– Эге, голубчик, Михаил Александрыч, да вы изменились даже в лице... Уж не опасаетесь ли, что предам вас? Не бойтесь. Ведь вот я же нимало не страшусь, открыв с вами беседу по столь щекотливому предмету. Впрочем, вы можете поступать как вам угодно... К смерти я с равнодушием отношусь.
– Да что вы, Горбатов, с ума сошли! – вскричал Шванвич с жаром. – Какой же я предатель!
– Успокойтесь, успокойтесь! Я к слову. А что касаемо этой казацкой затеи с мятежом супротив Екатерины, то прямо скажу: как бы мы ни расценивали дело, кончится-то оно печально. И меня, и вас ждет виселица, плаха. Словом, наша приверженность к царю-лиходею нам даром не пройдет. Вы юны, вы очень юны, Шванвич, и еще не знаете, на какую месть способно вельможное дворянство...
– Стойте! – прервал его Шванвич, густо краснея и прихмуриваясь. – Вы так говорите, такой держите со мной тон, будто наперед видите во мне труса.
– Нисколько, Шванвич. Я нимало не сомневаюсь в вашем мужестве и потому-то столь откровенен с вами... Да я и в помыслах не допускаю, что вы... что вы захотите повредить мне...
– Я – вам? Ни-ко-гда!
– Верю... Итак, извольте: мы с вами служим не царю, а всего лишь казаку Пугачеву. И, ежели угодно, не ему, а черни... И вот я спрашиваю вас, бывшего офицера армии ее величества, спрашиваю в упор: готовы ли вы в полной мере к испытаниям судьбы, связав себя службою с самозванцем? – Горбатов, сидя на кровати, засунул кисти рук под мышки, вытянул ногу, глядел вприщур на Шванвича.
Тот остановился, присел у стола, беспомощно вскинул голову.
– Собственно, об этом я еще не думал как следует, – сказал уклончиво и припал спиной к стене. – Пожалуй, думал, но... не решил еще вполне, как быть.
– Голубчик! – воскликнул Горбатов почти весело. – Да нам с вами и решать-то нечего. Обстоятельства за нас решили все. Нам с вами в удел – либо конец, как Волжинскому, от руки Пугачева, либо честная служба ему. Какой еще третий предвидите выход? Бегство?
– Хотя бы...
– Ах, милый юноша... Но ведь там, куда вы убежите, спросят вас: а скажите-ка, почему это тридцать два чернышевских офицера и сам Чернышев предпочли измене мученическую смерть, а ты, голубчик, на кроватке у злодея полеживал да под окошком книжечки читал?..
Что вы на это ответите? Винюсь, мол, прошибся – как солдаты отвечают. «Ага, – скажут, – прошибся? Срубите этому офицерику голову, чтоб он в другой раз не прошибался!» Ну, так как, Михаил Александрыч, решена наша судьба или не решена?..
Шванвич некоторое время молчал, грудь его вздымалась, на верхней губе проступили капли пота.
– Вы правы... Все кончено, – глухо произнес он и опустил голову.
Глядя на него с лаской и жалостью, Горбатов продолжал:
– Сущая правда говорится: «Попала в колесо собака – пищит, да бежит». Так и мы. Впрочем, я-то сам в свою судьбу скакнул. А почему? Надобно знать жизнь мою, чтобы понять – почему. Жестокая, нещадная жизнь!.. Как-нибудь на досуге расскажу вам про себя.
– Расскажите сейчас.
– Нет, после. Итак, мой друг... Друг, не правда ли? (Вспыхнув, Шванвич кивнул в знак согласия головою.) Итак, дорогой друг, одна, неизбежная для нас обоих, развязка говорит нам о многом... И прежде всего о том, что жизнь и долголетие нашего царя есть наша жизнь, его преуспевание – наш успех... Да только ли наш? Ведь речь идет об участи несметного числа людишек, коим он, реченный царь, сулит вольную волю... Читали вы его манифесты да указы? Вот... А ежели так, то подь к черту всякое колебание мыслей!.. Вытянем! А вытянем общее дело – спасем и себя. Что, не так? Ей-Богу, так!.. И еще: вы, Шванвич, к нему, к царю-то нашему, присматривались? Присмотритесь-ка, очень советую. Конечно, Вольтера и Монтескье он сроду не читывал, зато в нем есть что-то такое... этакое, как бы вам сказать? Ну, одним словом – силища! Такой человек, ежели что вбил себе в голову, запросто не сдаст. Такого за здорово живешь не взять. Что, не так? Так, так Шванвич! Вы приметили, как он атаманов своих в лапах держит!
– Атаманы у него дельные, – отозвался Шванвич, оживляясь.
– Дельные, башковитые и... отчаянные! – проговорил Горбатов. – Слушайте, Шванвич, а вы, надеюсь, чем-нибудь меня покормите?
– Всенепременно! Сейчас придет мой Киселев, он нами и займется.
– И знаете что, Шванвич, – после короткого раздумья молвил Горбатов. – Я опять про нашего государя. Особый он человек, широкой души человек и вдобавок немалого внутреннего зрения; берет сердце человеческое теплым, трепыхающимся, берет рукой уверенной... И вот, Шванвич, я дал себе клятву служить ему до издыхания!
Шванвич в волнении закинул под затылок скрещенные руки, прикрыл глаза.
– А я еще буду с ним говорить, – сказал Горбатов. – Всенепременно! И по-серьезному! Душа в душу.
Помолчав некоторое время, он продолжал:
– Вы, Шванвич, наверно, немало удивлены, что я вот так вломился к вам и по первому же абцугу с самого щекотливого вопроса закрутил. Ведь так? Не изумляйтесь, милый юноша. Я многое слышал про вашего родителя, про то, например, как он вздумал подпортить ударом шпаги портрет красавчика Орлова. Ваш родитель человек честный, стойкий, с характером. И вы в него! Я многих ваших гренадер расспрашивал про вас... Ну, так вот... По этому самому я с вами и откровенен.
За окнами послышался нарастающий шум. Горбатов приник к окну. С песнями, с криками шагали мимо избы подвыпившие казаки, человек сорок. Они вели под руки какого-то коренастого, видимо, почетного, казака, с повязанным через плечо белым полотенцем. Впереди несли штоф, а на капустном листе – закуску. Вот приостановились, подали почетному казаку чарку, подали закуску, закричали «ура» и тронулись дальше.
Вошел, прихрамывая, старый гренадер Киселев.
– Что там за шум, Фаддей? – спросил его Горбатов. – Кого это вели по улице с песнями?
– А это, ваше благородие, какой-то Перфильев прибыл. С самого Питера! Его Перфишей казаки зовут. А кто он, в точности не ведаю. Уж я подумал, не с весточкой ли какой к государю от Павла Петровича? Был слых, будто великий князь с маткой-то своей повздорил, полки сюда ведет, отцу родимому на помощь, нашему Петру Федорычу, амператору.
Горбатов подмигнул Шванвичу и сказал, обращаясь к старику:
– А тебе матки-то Павла Петровича нешто не жалко? Ведь, как-никак, сын единокровный – и вдруг супротив нее пошел!
– Кого жалко? – сердито воззрился старик на Горбатова. – Да такую жалеть – себя потерять надо! Небось она батюшку-то нашего, а своего богоданного супруга не шибко-то жалела, как на жизнь-то его покушалася!..
Старый гренадер все повышал и повышал голос, поблескивая на молодых людей взором возмущения, а те, затаившись, глядели на него с жадным любопытством.
Затем они втроем стали полудневать, аппетитно уписывая ржаной хлеб с малосольным салом. При этом старик, как ни упрашивали его занять место за столом, устроился со своим куском в сторонке, поближе к печке: сердцем-то льни, а чин да порядок соблюдай!







