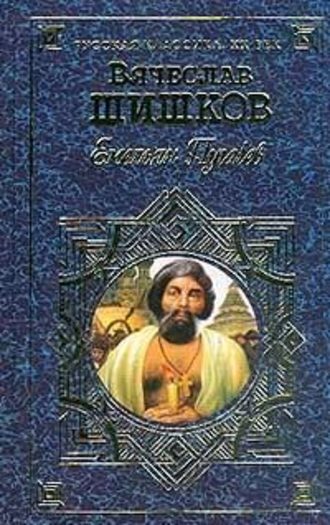
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
Глава X
Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя. Матушка Волга
1
Мужицкий царь со своими малыми разрозненными силами двигался левым берегом Волги в сторону Нижнего Новгорода. Пройдя около ста верст от Казани, он 18 июля остановился и решил переправиться на правый, нагорный берег реки, возле деревни Нерадовой и селения Сундырь.
Здесь поджидали Пугачева сотня бурлаков с купеческими «посудинами» и много плотогонов, сплавлявших с Керженца лес на понизово в степные края. На иных плотах были разведены большие огороды со всякой овощью.
Волгари вскарабкались на берег, хлынули к царской палатке, но «царя-батюшку» там не нашли, царь стоял среди своих казаков на бровке берега, любовался нагорной стороной, обильными плотами, баржами.
Наконец, разыскав «батюшку», толпа окружила его. Рассматривая огород на ближнем плоту, он говорил стоявшему подле Горбатову:
– Глянь, ваше благородие! Двенадцать гряд. Лучок зеленый... Ну и затейники, вот затейники!
Обернувшись на шум, возникший за его плечами, он увидел наконец опустившихся на колени бурлаков.
– Кто такие, откудова? – спросил он.
– Бурлаки, надежа-государь! Бурлаки мы, волгари... Да вкупе с нами – плотогоны.
– Ну, здравы будьте, детушки!.. Вставайте-ка, будет вам кувыркаться-то...
– И ты здрав будь, твое величество! – закричали, подымаясь, бурлаки.
Началась беседа. Пугачев рассказал о поражении, постигшем его армию. Ну, да ведь он шибко головы не клонит. Казань-то все ж таки взята, только кремль не покорился, – он, государь, крепко надеется на помощь Божию да на свой народ, первым делом на крестьянство: не выдадут, помогут. «Поможем, свет наш!» Бурлаки принялись толковать, что их у Макарья на ярмарке да в Нижнем Новгороде наберется много тысяч. А как тянули они, бурлаки, посудины вверх по Волге, своими глазами видели, своими ушами слышали, как попутные селенья сжигают и громят помещичьи гнезда, помещиков ловят да вешают, а сами всем скопом собираются к «батюшке».
Слушая, Пугачев вдруг приметил в толпе женщину. Не старая, с загорелым добрым лицом, одетая в сарафан, в чистую, тонкого холста рубаху, она то прикрывала лицо рукой, то опускала руку и умильно взглядывала на «батюшку», подбородок ее дрожал, из серо-голубых глаз капали слезы.
– Эй, о чем, милушка, плачешь? – подняв руку, спросил женщину Пугачев. – Уж не изобидел ли кто тебя?
– Да как же не плакать-то, свет наш!.. От радости, батюшка, плачу. От радости, – часто замигав, откликнулась женщина и сквозь слезы улыбнулась.
– Ты сорви-ка, Матрена, огурчиков батюшке-т, – сказал рыжебородый дядя в беспоясой рубахе с засученными рукавами, по-видимому – муж ее. – Репки да моркови с брюквой...
– Ужо-тка, ужо я всего с грядок понадергаю, – обрадованно сказала женщина и шустро двинулась к плоту с огородом.
– Стой, Матренушка! – остановил ее Пугачев. – Не рушь зря огорода, вам еще долго плыть, пригодится. А мне бы луку зеленого пучочка три да чесноку малость. Уважаю я чеснок-от...
Пока баба бегала на плот, Пугачев, продолжая беседу с плотогонами, заговорил о переправе его армии на тот берег, расспрашивал о Нижнем Новгороде. Они сказали, что губернатор Ступишин город укрепил хорошо, есть пушки, есть и солдаты. Что касаемо переправы, то лучше этого места не найти, да к тому же у них много челнов, а у бурлаков два порожних баркаса.
Матрена притащила с огорода всякой всячины, передала Ермилке, а «батюшке» вручила вышитое, тонкого холста, полотенце.
– Прими, батюшка!.. – сказала она, кланяясь. – Личико свое пресветлое утирать будешь да нас, сирых, вспоминать.
– Благодарствую, – проговорил Пугачев и, сняв с руки кольцо, подал его женщине. – Возьми, милушка. Радость ты мне принесла.
– Что ты, что ты, желанный наш!.. Недостойна я твоего царского подарка... Ой, ты!
Она повалилась Пугачеву в ноги.
Он поднял ее, спросил:
– Чьих ты господ?
– Кожевниковых, батюшка.
– Будь отныне вольна! – властно проговорил Пугачев. – И все вы вольны будьте, детушки! А ежели крестьянство даст нашей императорской армии подмогу, то и вся Русь с землей, с волей будет.
– Спасибо, отец наш! – закричали бурлаки. – Продли тебе, Господи, живота да веку!
Вскоре под наблюдением Овчинникова с Твороговым началась переправа на тот берег. Полсотни челнов заскользили по зеркальному течению тихой Волги. На том берегу уже дымились костры.
Постепенно стягивались к царской ставке части разбитых под Казанью пугачевских сил, подходили, подъезжали из ближних селений новые кучки крестьян, иные приводили с собой на царский суд лихих помещиков, бурмистров, старост.
Прибывшие каргалинские татары доложили Пугачеву, что их атаманы Алиев и Махмутов схвачены высланными из Казани розыскными командами. А прискакавший белобородовский писарь Верхоланцев сообщил, что полковник Иван Наумыч Белобородов пленен.
– Да неужто? – схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачев. Все меньше и меньше становилось у него атаманов. Не стало Зарубина-Чики, рассудительного Максима Шигаева, убит атаман старик Витошнов, без вести пропал Падуров, золотая голова. А вот теперь лютое несчастье поразило и верного Наумыча.
Оправившись от тяжелого известия, Пугачев ездил по берегу от толпы к толпе, верховодил переправой. К жаре он человек привычный, но волжский раскаленный день и его сморил.
– А поплывем-ка, ваше благородие, купаться.
И вот они вместе с Горбатовым, раздобыв лодку, отправляются вдвоем на середку реки. Лодку поставили на прикол и бросились в воду. Купались не торопясь, со вкусом: поплавают, побарахтаются да опять в лодку. Горбатов сказал:
– Вы, государь, шибко-то не унывайте. Я, как человек военный, несмотря ни на что, считаю, что дело под Казанью было одной из блестящих побед ваших...
– А кремль-то, кремль?
– Взяли бы и кремль, когда бы нам Михельсон не помешал да будь у нас поболе артиллерии.
– Верно! А Михельсонишка-т того... дюже пообидел нас.
– Наша армия сопротивлялась неплохо ему. И о вас, о вашем начале хулы не скажешь.
– Благодарствую... А все ж таки трепку дал нам Михельсон.
– Был момент, могли бы Михельсона раздавить вовсе. Но... – Горбатов развел руками. – Дисциплина у него железная, солдаты вымуштрованы, да и вооружены как надо. Тысячный отряд его врубался в нашу несметную толпу, как топор... в гречневую кашу.
– Вот то-то и оно-то, – проговорил Пугачев.
– А все ж таки...
– А все ж таки наша взяла, да только, вишь, рыло в крови! Так, что ли? – выкрикнул Пугачев и улыбнулся, но голос его звучал невесело, и во взоре было темно, без огонька.
Помолчали. Емельян Иваныч, спустив ногу в воду, смотрел, как мелкая рыбешка льнет к ноге, щекочет кожу.
– Офицер ты на диво! – продолжал он. – А ведаешь, я не знаю, кто ты есть? Было у меня в помыслах, уж не высмотрень ли ты, а таперь думаю – не-е-ет, мы с тобой, ваше благородие, одной глины горшки. Ну, кто ж ты, ась?
– Извольте, государь, с большой охотой поведаю вам о судьбе своей, – ответил Андрей Горбатов и принялся рассказывать сначала об участи своего брата Коли, именно то, что он рассказал уже Дашеньке (где-то она, что-то с ней?), затем повел речь о себе:
– Когда мы разлучились с Колей, мой досточтимый дядюшка, этакой усач с брюшком на коротких ножках, повез меня на юг: «Там мы, говорит, лошадей закупим дешевле и хороших статей». И подъехали мы после долгих странствий к самой, как потом оказалось, турецкой границе. Остановились в корчме у грека. В корчму начали приезжать какие-то богатые толстые люди, оказалось – молдаванские купцы. Все пальцы их сплошь унизаны драгоценными перстнями. Стала завязываться картежная игра. Дядя прожил в корчме около недели и умудрился спустить двадцать тысяч казенных денег. Когда опамятовался, хотел стреляться, но раздумал. И вот, помню, ужин. Грек вынес из-за перегородки три стакана виноградного вина – мне красное, а себе и дяде белое. Кроме нас, никого в корчме не было. Я выпил, у меня замутилась голова, и я потерял сознание. Был в обмороке, по моим расчетам, больше суток...
– Эге ж!.. Да это они, анчутки беспятые, сонного зелья тебе всыпали, – проговорил Пугачев, посапывая.
– Очнулся я и не могу признать ни себя, ни окружающей обстановки. Довольно приличная, увешанная коврами чужая, незнакомая комната, возле меня старый турок в красной феске с кисточкой, а на сундуке, у двери наш хозяин корчмы, грек. Я лежу на скамье. На мне старые синие шаровары, турецкая заплатанная куртка, на ногах мягкие чуваки. Я приподнялся, спросил: «Что это означает? Куда это меня завезли, где мой дядя-офицер?» Грек сказал: «У тебя дяди нет, ты в Турции, ты больше своей России не увидишь. Вот тебе записка от дяди». Я весь затрясся, я едва мог прочесть дядины каракули. Он писал: «Дорогой Андрюша! Я из подлецов подлец. Я лишился всего: денег, чести, родины. Я проиграл и твои золотые часы, и твое ношебное платье, и все вещи твои. Чтоб перебраться за границу, я принужден был продать тебя. Вырученные деньги дадут мне возможность кой-как добраться до Бухареста, где у меня есть дальний родственник, зажиточный человек. Но думаю, что сего позора не переживу, лишу себя жизни... Прощай, мой мальчик, навсегда».
– Вот видишь, вот видишь, Горбатов, какие есть сволочи помещики-то! – со страстностью вскричал Пугачев, брови его сдвинулись к переносице.
– Прочитав записку, – продолжал Горбатов, – схватился я за голову, и мне показалось, что со мной продолжается кошмарный бред или я сошел с ума. Я вскочил, стал кричать, топать ногами, требовать, чтоб меня тотчас везли домой, к родителям. И в отчаяньи ринулся с кулаками на грека. Грек дал мне зуботычину, свалил меня, связал веревкой. «Ты брось буянить, – сказал он. – На помощь к тебе никто не придет, а государыня Екатерина воевать из-за тебя не станет. Вот твой господин, – и он указал на старого турка. – У него есть на тебя запродажная бумага, бумага заверена у русского и турецкого начальников». Сказав так, он распрощался с турком и поехал к границе, чтоб ночью перебраться чрез нее к себе домой. Я лежал связанный и тихо плакал. Турок сказал мне: «Имя твое – Гирей. Будешь работать на моих виноградниках. Подрастешь, примешь нашу истинную веру, женишься на дочери моей, будешь славный турок». Я заплакал пуще. Он развязал меня, велел подать для меня баранью похлебку с кукурузными лепешками. Еду приносила горбатая старуха. Хозяин-турок говорил по-русски кой-как, едва поймешь. Он сказал: «Ты будешь жить на кухне. У меня гарем. Морда у тебя красивая. Ежели что замечу, знай, сделаю из тебя евнуха. Бойся!» Я две недели каждый день буянил, на работу не ходил, требовал отвезти меня в Россию. Меня били плетьми, били кулаками, я изнемог и целый месяц пролежал, как мертвый. Когда поправился и окреп, в ночное время бежал, но был пойман. И хозяин посадил меня на цепь, как собаку. Тут я на своем опыте познал, до чего худо, до чего унизительно быть человеку в рабском состоянии.
– Во! – крикнул Пугачев. – А из-за чего и сыр-бор-то весь горит, супротив чего и мы-то с тобой стараемся да страждем?
– Так, государь, так... – согласился Горбатов. – В течение года трижды пытался я спастись бегством, меня ловили и снова сажали на цепь. Так прошло два года. Я пробовал писать письма отцу, своей крестной, помещице Проскуряковой, даже одно письмо императрице. Посылал, казалось мне, с верными людьми, но всякий раз письма мои попадали в руки хозяина, и он, издеваясь надо мной, швырял их на моих глазах в печку. Тогда я понял, что, ища себе спасенья, надо поступать по-другому. И я начал... втираться в доверие к хозяину. Сделался веселым парнем, на славу, за троих работал. Хозяин был доволен, подарил мне хорошую сряду – красную куртку со шнурами, с позументом, атласные шаровары, сафьяновые туфли. И стал я красивый турок, участвовал в игрищах, выпивал, ловко плясал, славно пел. К тому же и турецкий разговор кой-как осилил, научился неплохо лопотать по-ихнему. Как-то хозяин спросил меня: «Ну что, Гирей, бросил по России скучать?» Я весело ответил: «А чего мне скучать! Отвык я от России. Здесь лучше!» Он сказал: «Ты знаешь по-французски, учи мою дочь, а как примешь наш истинный святой закон, женись на ней». Я притворился, что очень рад, и согласился.
Горбатов замолк. Пугачев вскинул на него взор и проговорил:
– Сыпь дальше, занятно, слышь. А хороша ли турецкая девчонка-то?
– Нет, государь, подслеповатая, кривоплечая, а на правой руке шесть пальцев...
Емельян Иваныч смешливо присвистнул. Горбатов продолжал:
– В конце года хозяин уже доверял мне вполне: я ездил с деньгами в город, вершил там разные дела. Я принял турецкое подданство, получил паспорт, через месяц должна была состояться моя свадьба, мне шел восемнадцатый год. Тут мне улыбнулось счастье. Хозяин тяжело захворал, а меня отправил в городок по денежным делам. Я туда выехал и больше не возвратился. Я купил пару чудесных лошадей и направился верхом прямо в Константинополь.
– В Цареград? Эге ж! Да ты парень пройди-свет, я вижу,– прищелкнув языком, сказал Пугачев.
Солнце спускалось за Волгу большим красно-огненным шаром. Казалось, оно трепещется, играет, то увеличиваясь в объеме, то сжимаясь. По смирной воде протянулась к лодке прямая самоцветная тропинка с зазубринами по краям. Изжелта-красный цвет ее постепенно угасал. Обманную тропинку эту то и дело пересекали скользящие челны, издали они казались черными ползущими букашками. На горе, в лучах заката, розовела белая церковка села Сундырь, а многочисленные избы с загоревшимися слюдяными оконцами – будто скопище невиданных зверей: вот они вышли из дремучего леса и, развалясь отдохнуть на берегу, уставились пылающими глазами на солнце. Беззвучно прилетали, взмахивая мягкими крыльями, лиловые чайки, парами и в одиночку. Кругом было тихо, благостно.
– Словом, коротко сказать, – говорил Горбатов, – очутившись в турецкой столице, я измыслил пробраться в канцелярию нашего посольства и объявить там стряпчему, кто я такой и как попал в Турцию. Стряпчий отечески потрепал меня по плечу и молвил: «Приходите, молодой человек, через недельку, авось, на ваше счастье, кой-что и наклюнется. Есть перспективы». Так оно и вышло. В скором времени Турция объявила войну России, наш посланник, очень почтенный человек, взял меня под свое покровительство, и вот я с русским посольством снова на родине. Ах, государь! Какое великое, какое святое слово – родина! Когда ступил я на родную землю, сердце мое сжалось, и я заплакал. И как бы вновь родился я на Божий свет. И подумал тогда, да не перестаю и ныне так думать: только тот наособицу любит родину, кто вкусил долгой разлуки с ней, тем паче будучи в неволе лютой.
– Истина твоя... – подтвердил Пугачев.
– Вскорости прибыл я в свое гнездо, надеясь упасть к ногам бесценных родителей моих... И что же там встретил я? Встретил я там то, отчего на веки вечные померкла, озлобилась душа моя... – Горбатов опустил светло-русую свою голову и часто-часто замигал. – Ставни на окнах в нашем доме закрыты, парадная дверь забита доской. Я прошел на кухню. Наш старый слуга Федотик спросил меня: «Что вам угодно?» Я говорю: «Здравствуй, Федотик! Нешто не признал?» Он бросился мне на шею: «Андрюшенька, Андрюшенька!» – и заперхал стариковским плачем. «Где мои родители, где Коля?» – спросил я не своим голосом. Он перекрестился и, утирая слезы, сказал: «Все они по воле Божьей на том свете, Андрюшенька: и барин с барыней, богоданные родители твои, и родной твой братец Коленька». У меня закружилась голова, едва я не упал с лавки. Старик подал мне квасу и, видя, что я пришел в чувство, стал рассказывать о Коле, погибшем на почтовой станции под Нижним. «А мамашенька ваша, говорит, как узнала, что Коленька скончался на чужбине, да и от тебя-то ни толикой весточки нет, тронулась умом да невзадолге, сердешная, и преставилась». Ну а с папенькой моим, со слов Федотика, было так. Наш сосед, помещик Янов, пьяница и скандалист на всю губернию. А капитал у него отменный. Вот этот самый Янов, охотясь со своей псарней за зайцами, собственноручно выдрал нагайкой бедного помещика-однодворца за то, вишь, что тот не снял пред ним шапки. Мой отец этому злодейству очевидцем был, научил однодворца подать в суд, а сам пошел в свидетели. Любил отец правду, почасту встревал он за обиженных. Янова суд оправдал, все судьи были им подкуплены, а отца этот самый Янов с тех пор возненавидел и стал искать случая к его погублению. К примеру, обреет полголовы, словно каторжному, какому-либо из своей дворни и велит ему скрытно запереться в бане моего отца. На другой день, по поручению Янова, наедет к отцу полиция: обыск! Ага, укрывать беглых каторжников! Отца в суд. Присудят к отсидке либо к большому штрафу и на приметину возьмут. Так в моем отсутствии было с отцом трижды. Отца уже повезли в острог, да спасла его все та же Проскурякова, крестная моя: взяла его на поруки. А то как-то глубокой осенью приехал этот разбойник Янов со своей шайкой на двадцати подводах, приказал сорвать замок с житницы и весь хлеб, весь урожай, какой там был ссыпан в закрома, увез к себе. Этот разбой происходил днем на глазах у всех. Несчастный родитель мой, когда ему об том сказали, весь затрясся, схватил ружье и в одном халате, по морозу, побежал к своей житнице, да вгорячах и ахнул из ружья в кучу насильников. Кого-то ранил. «Бей его!» – закричал Янов. И отца стали бить. А сердце у него было слабое, не выдержало... не перенесло стыда и боли... отстукалось!..
– Ну, а земля-то за тобой осталась? – спросил Пугачев. Он сидел насупясь и шумно отдувался, густые усы его шевелились.
– Нет! Какая там земля... – ответил загрустивший от воспоминаний Горбатов. – Отец мой разорился с судами, имение было заложено, и, как не оставалось ни одного наследника, да к тому и я пропал без вести, пошло имение с молотка, было куплено тем же Яновым. Наша деревенька небольшая, шестьдесят дворов; крестьяне работящие, не пьющие, жили безбедно, имели побочный заработок – мастерили колеса для телег. Отца они уважали, и отец заботился о них. Еще при мне деревня сгорела дотла, отец заложил имение и выстроил им избы. А треклятый Янов начал с того, что всех мужиков насильно переселил в дальнюю новгородскую губернию на плохую неродимую землю. Такое варварство взъярило наших крестьян, несколько семей в бега ударились. Оставил новый барин при доме только нашего старика Федотика.
Он примолк.
– Знаешь что, ваше благородие, – сказал Пугачев. – Ужо-ка я казачишек спосылаю за этим змеем, пущай сыщут да привезут его ко мне, я из него окрошку сделаю!
– Оного помещика уже нет на свете – убит крестьянами, – отозвался Горбатов, – а наше бывшее поместье в третьих руках... Э, да что там! – прервал он себя и махнул рукою.
– Так, так... Ну, друг, теперь ты для меня как облупленное яичко! Верю тебе крепко, – оживленно сказал Пугачев и, помолчав, с некоторой опаской в голосе добавил: – Вот ты и за государя меня признаешь... – А подметив смущение офицера, торопливо продолжал: – Глянь-ка, глянь, ваше благородие, зорюшка-то полыхает!
Офицер вскинул голову. Солнце село, волшебная тропинка на воде исчезла. Зато половина небосвода расцветилась оранжевым цветом, густым у западного горизонта, постепенно гаснущим к зениту. Слюдовая гладь воды между пугачевской лодкой и закатом, отражая нежное сияние небес, зарделась ровным блеском. Все пространство от земли до неба, от края и до края, наполнилось сумеречной волнующей печалью. Это – последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный далью благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с лугов.
И тут ближе, из-за самой реки, взнялась и поплыла бурлацкая песня:
Матушка Волга, широка и долга,
Ты нас укачала, ты нас уваляла...
Эх, нашей-то силушки,
Нашей силушки не стало!
С надрывом, с жалобным стоном песня то настигала затаившихся в лодке людей, то вдруг куда-то удалялась от них, словно приманивая к себе, в заволжские леса и нивы.
Горбатов чутко внимал самобытной песне, созерцая погасавшую красоту заката. По-иному переживал пышное угасание этого вечера Пугачев. Уж не казанские ли пожары полыхают над Волгой, не заревом ли от них охватило полнеба? А вот два огненных, невеликих, в шапку, облачка. Уж не дым ли от выстрелов Михельсоновых пушек? А это беспрестанное кряканье селезня в камышах – не звуки ли медной трубы горниста Ермилки?
Житель привольного Дона, Пугачев любил природу и понимал в ней толк... Но нынче вся душа его потревожена, приплюснута бедами, раздернута, и не до любованья ему закатом... Снова запахло будто бы удушливым порохом, в уши ломятся отзвуки грохота пушек, ржания коней, стона раненых, а в глаза наплывают призраки: пламя пожарищ, клубы пыли и дыма, блеск сабель, – и бегут, бегут, подобно отарам овец, преследуемых волками, безоружные его скопища... Нет, не до небесных закатов Емельяну Иванычу. А тут еще, как надоедливый комар, зудит и зудит досадливая мысль о соседе Горбатова – помещике Янове: подох, скот, а то вот как бы отыгрался на нем Емельян Иваныч... Впрочем, не в Янове-помещике дело! Всех их, злодеев, не перевешаешь, не угомонишь... Тут, гляди, как бы самому целым остаться... Вон ведь Михельсонишка-то чего натворил!







