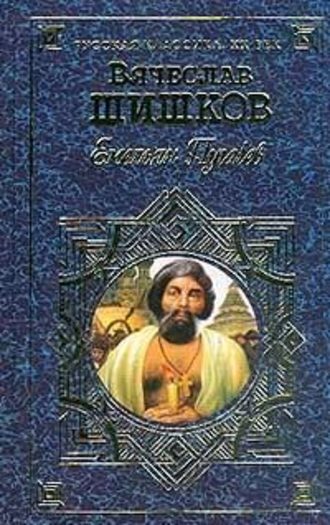
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
– Кто же их вешал-то? Пугачевцы? – спросил Рунич.
– Окститесь, барин, – приостановив лошадей и обернувшись к Руничу, с укоризной в лице и в голосе сказал пожилой ямщик. – Пугачевцев-то, кои с батюшкой, в энтих самых местах ныне и помину нет. Да и задавленники-то эти – наш брат, мужик! То, сказывают, «спедитор» какой-то приезжал, офицерик молодой, тутошних мест урожденец, при нем шестеро гренадеров конных. Вот он... и казнил!
Рунич подернул плечами, его в дрожь ударило, он вынул тетрадь и записал:
«Не видав никогда до сего времени страшной сей казни, по законам злого человеческого разума выдуманной, вострепетало во мне сердце и в сильное глубокое погрузило меня уныние»[69].
Не доезжая верст пятидесяти до Сызрани, Рунич неожиданно встретил в одном из селений своего гренадера Кузнецова.
– Ты как тут? – с удивлением спросил его Рунич.
Гренадер ответил:
– Господин капитан Галахов и вся его команда вот уже четвертый день в здешнем селе квартирует.
И в это время, улыбаясь во все лицо, подходит к остановившейся бричке сам капитан Галахов.
– Ну, кричите «ура», – молвил он. – Пугачев пойман! Но... без участия нашего Остафия Трифонова.
Рунич соскочил на землю и, забыв субординацию, бросился на шею к Галахову.
– А я уже распорядился послать поручика Дитриха следом за Остафием Трифоновым, чтобы возвратить его. Посему и здесь сижу да вас поджидаю, – сказал Галахов. – Не далее как с час тому проскакал здесь курьер князя Голицына к главнокомандующему в Пензу с известием о поимке Пугачева.
– Кто поймал? Уж не Суворов ли?
– Доподлинно не знаю... Но, по слухам, предан самозванец своими же, близкими ему атаманами. Его связали и привезли в Яицкий городок.
Вскорости известие целиком подтвердилось: Пугачев был предан атаманами Твороговым, Чумаковым, Федульевым и другими.
Получив извещение о случившемся, Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к Яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачевым. «Суворов взял Пугачева под свое ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Яике, и, приказав заготовить кибитку открытую, которую прозвали простолюдинцы клеткою, отправился с ним в Симбирск к графу Панину, куда прибыл граф вечером, в один день с генералом Суворовым»[70].
4
Поручик Дитрих, человек молодой и весьма исполнительный, поскакал следом за Остафием Трифоновым, чрез Сызрань, затем по симбирской дороге, по направлению к Казани.
Все дороги, столбовой большак и прилегающие к нему проселки за какие-нибудь три-четыре дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани, и в сторону Симбирска сотни, тысячи крестьян на подводах или пешеходью. Крестьяне молодые, старые и подростки-парни. Вид у всех изнуренный, головы понуры, глаза погасли, словно взоры их уперлись в непроницаемый мрак. Нередко попадались партии, человек по пятьдесят, нанизанных на одну веревку, они шли по обочине дороги в одну линию, гуськом. Их конвоировал солдат с ружьем. Иногда встречалась толпа человек в двести-триста, с каждой стороны по солдату. Передний, размахивая штыком, кричал встречным проезжающим:
– Сворачи-ва-а-а-й!
На многочисленных телегах, долгушах, бричках, двуколках, таратайках, запряженных худоребрыми клячонками, под охраной солдат или деревенских старост с блях ами, сидели в несчастных позах мужики, бабы и парни, хмурые, угрюмые, с обветренными исхудалыми лицами, с покрасневшими от слез глазами. Впрочем, взоры иных сверкали огнем непримиримым. А иные даже ухмылялись про себя загадочно, будто говорили: «Ладно, ваш верх, наша маковка!»
Это тысячи крестьян-вольнолюбов, схваченных в армии Емельяна Пугачева, движутся под воинской охраной в Казань да в Симбирск, на суд Секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства.
Небывалое движение можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю – от Уральских гор, от вольного Яика, от берегов моря Каспийского вплоть до Петербурга. Толпы, толпы, одиночки, курьеры, всадники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки, барабаны, именитые вельможи в сверкающих лакировкой каретах с золотыми гербами, и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывают на двух столбах перекладины, с плеч головы летят.
И где-то в курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня:
Плетка взвизгнула,
Кровь пробрызнула.
Но еще долгое время и во многих глухих местах потрясенной России будет гулять-разгуливать мстительный пламень неунимающейся вольницы.
Поручик Дитрих догнал Остафия Трифонова, не доезжая до Казани ста верст. Узнав о поимке Пугачева, ловкий притворщик всплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул:
– Дивны дела твои, Господи! Ну, слава Богу, что злодей в руках. А кем пойман и выдан, это все едино...
Дитрих и Долгополов с тремя есаулами донцов, которых он взял с собой, повернули обратно. Дорогою Дитрих раздумывал: «Зачем Остафию Трифонову занадобилось ехать к Казани? Ведь прямой путь ему был к Яицкому городку или к Узеням, куда устремлялся Пугачев». Но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дитрих постеснялся.
Решили ночевать в большом селе, не доезжая пятидесяти верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц, ночи держались холодные, но есаулы все-таки пошли спать на сеновал. Поручик приказал им смотреть за лошадьми, чтоб завтра, рано поутру, выехать с ночлега.
Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторная и чистая. Попросили хозяйку сварить курицу. За ужином велись беседы. Плечистый старик-хозяин говорил:
– А мужики нашего селенья все, почитай, дома оставались, не преклонялись к Пугачеву-то... Нас так и прозвали «останцы».
Долгополов был весел, разговорчив, он забавлял молодого Дитриха разными побасенками. Отходя на покой, он сказал офицеру:
– Раз злодей схвачен, нам великого резону нет, чтобы спешить... Можно и подоле поспать... Чегой-то зуб у меня разболелся... Охти мне...
– Нет, уж давайте пораньше, Остафий Трифоныч, – нерешительно сказал Дитрих. – Я и казакам так велел.
– Ну, как знаете, – с раздражением ответил Долгополов. – Кабы не зуб, так я бы...
На другой день, проснувшись довольно рано, еще до свету, поручик Дитрих с удовольствием заметил, что Остафий Трифонов, видимо, пробудился раньше его: место на двух стоявших впритык сундуках, где он лежал, было прибрано.
Дитрих ощупью пошарил трут, сверкач, огниво, закурил трубку. Стало рассветать. Пришла хозяйка, развела на шестке таганок, принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу.
– А где же мой сотоварищ? – спросил Дитрих бабу.
– Да, поди, во дворе... Где боле-та...
Дитрих оделся, вышел во двор. Два есаула седлали лошадей.
– А где наш казак, Остафий Трифоныч? – спросил их офицер.
– Мы, ваше благородие, его не видали.
Подошел третий есаул. Он, оказывается, тоже не видал Остафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старосте за лошадьми, чтоб пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с тройкой. Затем вошел в избу, стал бриться. Прошло полчаса. Дитрих успел позавтракать. Остафий не являлся. «Что такое?.. Уж не ушел ли он со своим зубом к какому знахарю либо к зубодеру?» – с нарастающей тревогой в сердце подумал поручик. Возвратились есаулы, сказали:
– Обошли мы, ваше благородие, все избы подчистую. Точные приметы его сказывали. Повсюду нам отвечали, что, мол, ни ночью, ни поутру к ним такой казак не захаживал.
Дитрих сразу изменился в лице, выбежал во двор, строжайше приказал сельскому старосте собрать тотчас всех людей и немедля приступить к обыску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков. А сам с одним есаулом поскакал верхом по Казанскому тракту. И по всем селениям, чрез которые проезжал, приказывал он местным сотским и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака.
– Ежели найдете живого или мертвого, берегите его у себя, я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит...
Дитрих с есаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан Долгополов. Но и здесь беглеца не оказалось. Дитрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и, поручив следить за этим делом есаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении беглец обнаружен не был: как в воду канул. Поручик впал в отчаяние: кончилась его служебная карьера, за упущение столь загадочного лица да к тому же с огромной суммой денег шутить не станут, чего доброго, разжалуют в солдаты...
От сугубого отчаяния и скорби в его крови «сделалось страшное распаление», он велел как можно поспешнее везти себя в Симбирск и в дороге умер. Ходили слухи, что несчастный офицер принял будто бы яду.
Тем временем Долгополов успел пробраться на Волгу, договориться с бурлаками за десять рублей тянуть его на попутной посудине до Нижнего Новгорода. И вот он восседает на небольшой барже, нагруженной низовыми арбузами, яблоками, медом, воском и прочими товарами.
Слава те, Христу, кончено опасное лицедейство, он больше не яицкий казак, не пугачевец, он снова купец второй гильдии града Ржева-Володимирова, у него за рукой воеводы и должный паспорт есть. «Да им век не сыскать меня! Там был яицкий казак Трифонов, ныне купец Долгополов. Ужо-ужо обличье себе переменю: парик добуду да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Поди узнай тогда. Родная жена трекнется».
Да, все бы хорошо, вот только жаль, что товары-то не его, не Долгополова. Распрекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина – половину за наличные, на другую половину – вексель, затем в Нижнем Новгороде раскинуть палатку да и продавать сии блага земные с большой корыстью. А там, умножив и паки преумножив свои достатки, удариться в керженские потаенные леса – до них от Нижнего рукой подать – к своей братии и сестрам по старозаветной вере, всечестным скрытникам. С деньгами-то можно и хатку себе выстроить, и «малину-ягоду» завести – какую-нито черноокую скитницу, дабы споручней было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано: «Убо согрешишь, покаешься». А приятней было бы сказать: «Мотри, покаешься, ежели не согрешишь...»
«Ой, согрешу, ой, согрешу», – раздумывает, разжигается в греховных помыслах Долгополов, жмурясь, как кот на сливки, на пригожую молодайку в кумачах, что возле крутится: то кисленького кваску подаст, то сладкой бражки, то моченых антоновских яблочков. Он давно забыл богоданную свою жену, кругленькую Домну Федуловну, что ждет не дождется во Ржеве-городе неверного своего супруга. «Ой, согрешу, ой, согрешу», – бормочет Долгополов и, спустившись вниз, в жилой закуток, наскоро обнимает молодайку, сует ей двадцать две копейки серебром.
А Волга течет себе широкая да вольная. Много в жизни своей она слыхала, много видела, помнит, как первый человек окунулся в ее воды. С тех пор пролетали над ней века, подобно быстрокрылым птицам, и тысячелетия двигались неспешной ступью, как мерные шаги нагруженного верблюда. А она все та же, и то же над ней небо, лишь несколько изменилось ее течение, и прозрачная кровь в ней поусохла, да размножился по ее берегам человек. Научился сей двуногий ловить в ее глубинах рыбу, выдумал огонь, и зачастую несла Волга воды свои чрез сплошной пламень горевших по ее берегам вековых лесов. Стал человек складывать песни, но в песнях тех не было и тени веселья, были тоскливы, походили песни на стон: должно быть, тяжело жилось человеку. Разве что разбойничьи стружки взрежут грудью волжские волны, и зазвучит, зазвучит с них, разнесется по зеленым просторам лихая песня с присвистом, с гиканьем: «Сарынь на кичку!»
Да еще помнит Волга: в тысяча семьсот шестьдесят каком-то человечьем году проплывала в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. С разукрашенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрице и свите ее было весело, а людям, стоявшим по берегам и швырявшим вверх шапки, было грустно: веселый караван, как сказочное привидение, уплывал из простора в простор, вот он замкнулся в розоватых безбрежных туманах, больше никогда не вернется обратно. И была вокруг все та же угрюмая, вся в тоске, вся в жалобе, песня.
Вот она и сейчас надрывно звучит над песками, над зеркальною гладью реки:
Ма-туш-ка Во-о-о-лга,
Ши-ро-ка и до-о-о-лга,
Ты нас ука-ча-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-ала!
Это бурлаки, внатуг налегая грудью на лямки, совершают последнюю в этом году путину, тянут встречь воды баржу с арбузами, а на арбузах – плутец Долгополов.
Бурлаки идут, идут... Лохматые нечесаные головы опущены, рыжие, черные и пегие с проседью бороды всклокочены, мускулы во всем теле напряжены до отказа – теченье воды убыстрилось. Кто в новых лаптях, кто в ошметках, а беглый монах – босиком. Холщовые, в три ряда, лямки за лето пропитались потом и грязью, как ворванью. Погода холодная, но людям жарко: поросшие шерстью груди открыты. Идут в ногу, мерно покачиваясь. И в такт шагам чуть покачиваются повисшие руки. Обходят большой, версты за три, приплесок, идут трудно, песок сыпуч, упор ногам слаб, скорей бы на луговину. Их – восьмеро крепостных крестьян пошли от барина на оброк, а девятый – беглый монах. Он голосом груб, глаза у него запьянцовские. Он заводит, все подхватывают:
Ты нас ука-ча-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-а-ала,
На-а-шей-то силушки,
На-а-шей силушки не ста-а-ло...
Ноет песня, ноет сердце, скулит душа... Эх, лучше бы гулять не по Волге-матке, а по степям да раздольям с воинством мужицкого батюшки-царя, мирского радетеля. Он ладный укорот давал немилостивым барам, да лихим воеводам, да судьям-грабителям... Где-то он, свет наш, жив ли, здоров ли? Сказывают, быдто схватили его, отца нашего, генералы царские...
Плывет песня, плывут думы, течет похолодевшая вода. Мужицкий сытный праздничек Покров позади остался, стало холодно, по утрам закрайки из стеклянного ледку, а вчерась снежок порхал. Ну, да уж не столь далеко и до Нижнего...
А вот и Нижний Новгород. Долгополов снял картуз, истово покрестился на соборы. В дороге ему удалось оплести нехитрого хозяина, теперь арбузы и весь товар совместно с посудиной – его, Остафья Долгополова.
Он расчелся с бурлаками по-хорошему, лишь малость кое-кого объегорил, нанял сподручного, разбил на отведенном месте торговую палатку и на другой день, в воскресенье, открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело. Необозримое Заволжье с обмелевшей Окой, с посадами, белыми церквами и голубоватым лесом, уходило на край земли, к далеким горизонтам.
Над похолодевшей водой, плавно стремившейся к востоку, кой-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью пролетали белые чайки. По берегам, возле Нижнего, и там, в заречной дали, грудились баркасы, огромные баржи, каюки и прочие посудины. На них копошились человечки с шестами, арканами, снастями, торопились ставить караваны судов на зимовку. Всюду разносились деловые выкрики, команды, ругань, песня, тягучая «Дубинушка». Взад-вперед сновали челны да лодки.
Народу на базар подвалило много. Арбузы шли ходко, всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано Долгополовым больше тысячи арбузов и двести пудов антоновки... Да как еще продано-то!.. С изрядным барышом.
– Эй, калашник! Эй, сбитеньщик! Давай сюда! – звал-кричал проголодавшийся купец и, обратясь к подручному: – А ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжьей селянки принесешь да поджаристых мясных расстегайчиков парочку.
Подходили, подъезжали покупатели, конные и пешие. Товар убывал, деньги прибывали. Вот подъехали двое конников: полицейский чин с бляхой на картузе, а другой – какая-то приказная строка. Слезли с лошадей, подошли к палатке.
– Пожалуйста, господа покупатели! – сняв картуз, поклонился Долгополов. – Не арбузы, а сахар! Господин воевода сразу сто штук купил, а господин губернатор – генерал Ступишин – двести пятьдесят...
– Ладно, – сказал приказный и наморщил приплюснутый с бородавкой нос. – Мы у всех документы проверяем. А ты новый. Ну-тка, покажи паспорт.
– С полным нашим удовольствием-с... Вот-с паспорт, а вот...
– Ты кто таков, откудова?
– А я – ржевский купец Остафий Трифоныч Долгополов, со многими купеческими фирмами дела веду.
– Значит, ты Долгополов? – спросил легким голоском приказный, утыкая с бородавкой нос в пропотевший паспорт.
– Истина ваша, – Долгополов.
– Из Ржева-Володимирова?
– Из богоспасаемого града Ржева-Володимирова...
– Ну, так вот мы тебя-то и ищем, – легким голоском продолжал приказный и, обратясь к полицейскому: – Пантюхин, хватай его, вяжи.
Глаза Долгополова закатились под лоб, верхняя губа сама собой задергалась, весь затрепетал он.
Со всего берега сбегался на происшествие народ.
А разгадка такова. В личном докладе главнокомандующему Панину о побеге «яицкого казака» майор Рунич между прочим выразил некую свою догадку, однако не придавая ей особого значения: догадка и догадка.
– Как-то в пути я обратил внимание, – говорил Рунич, – что казак крестится двуперстием. Я спросил его, не старозаветной ли он веры? «А как же! Ведь у меня во Ржеве... – Он вдруг замялся, потом поправился: – Ведь у меня в Яицком городке даже домовая часовня есть...»
Граф Панин нашел эту обмолвку казака весьма существенной, и во Ржев тотчас поскакал курьер. При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец Остафий Трифонов Долгополов, человечишка плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам да с тех пор, вот уже полтора года, и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое.
Курьер возвратился. Панин выпустил и повсеместно разослал строгий приказ о задержании преступника. Впоследствии Панин говорил Руничу:
– Вот видишь, Павлуша... сказано: «Слово – не воробей, выпустишь – не поймаешь». А вот мы зато по одному выпущенному слову не только воробья, а целого стервятника поймали[71].
В ноябре Рунич был командирован в Петербург. А оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу Румянцеву в Могилев, что на Днестре.
Отправляя его в путь, граф Григорий Александрович Потемкин, передав Руничу три пакета, сказал:
– Два от государыни, один от меня лично. Государыне угодно, чтоб ты наедине объяснил Петру Александровичу со всею подробностью все происшествие пугачевского возмущения. – И, прощаясь, промолвил: – Тебя там многие и о многом будут расспрашивать, ты говори: «Все наше, и рыло в крови».
В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошелся с молодым офицером весьма любезно.
– Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом, – сказал он, – ибо мы вот уже два месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом. Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать? – спросил фельдмаршал, просмотрев бумагу Потемкина.
– Да, ваше сиятельство.
Румянцев пригласил за собою Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате. Такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями, фельдмаршал после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал. Его лицо, вместо обычно цветущего, было болезненное, желтое.
– Я от своей хворобы еще не совсем оправился, – проговорил он, садясь в кресло.
Рунич чинил фельдмаршалу обстоятельный доклад о пугачевском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачева в Москву.
Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым, фельдмаршал улыбнулся.
– Поверите ли вы мне, что я сему негодяю прорекал, что будет повешен?
Услышав эти слова, Рунич пришел в замешательство. Фельдмаршал сказал:
– Не удивляйтесь. Помню, очень давно, лет тому с двадцать пять, как не боле, наш Воронежский полк квартировал во Ржеве-Володимирове. Я тогда молодым офицером был и снимал комнату у Трифона Долгополова, купца. Он в достатке жил, и мне было у него тепло. И вот, помню, этот самый Осташка, парень лет шестнадцати-семнадцати, такой ухорез был, такая бестия, что страсть!.. Всякие городские сплетни, все новости, даже что у нас в полку делалось, он, арнаут, вперед всех узнавал. Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу: «Ой, береги ты своего Осташку, по его затейливому уму, смотри, попадет он на виселицу». А отец с матерью, глядя на своего недоросля, только веселились да радовались.
Румянцев подошел к столику, отхлебнул настоя лихорадочной корки «хина-де-хина» и сказал, указывая на разложенные на столе снадобья:
– Вот видите, сколько мне всякой дряни наши «людоморы» насовали: тут и базиликанская мазь, и мушки гишпанские, и перувианская корка. Пичкают всякой дрянью, а толку нет... Ну, так вот. Дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого ракалью в Петербурге-то не могли раскусить, до императрицы допустили... Ведь он был в Питере винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. Это случилось не более как лет семь тому, – я слышал, живя в Глухове, быв правителем Малороссии... Вот прохиндей, вот так прохиндей!!
...Сей разговор происходил 10 января 1775 года, в день казни в Москве Емельяна Пугачева.







