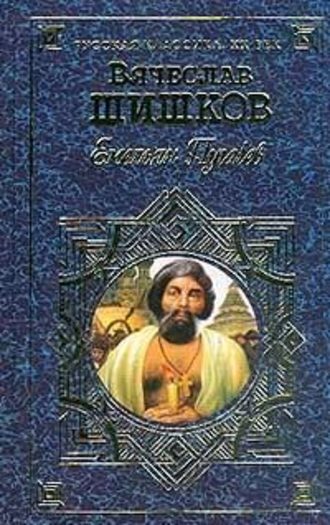
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
3
Три последние сотни яицких казаков двинулись в бой. Впереди, выхватив саблю, – сам Пугачев; возле него серое знамя с восьмиконечным белым крестом. Знамя, как легкое облако, гонимое вихрем битвы, проплывало над полем; под знаменем, подобно вспугнутому орлу, носился на сером скакуне Пугачев. Рядом с ним, не отставая от него, – атаман Овчинников, позади – двадцать всадников-богатырей, личная охрана государя, или, как их называл Пугачев, «черные гусары». Среди них огромный бородатый старик – Пустобаев.
Емельян Иваныч, всюду выкрикивая слова воодушевления, видел, что армия его, невзирая на всю свою отвагу, отходит к стенам крепости. Он знал, что многие из его воинства имели против вражеских ружей – топоры, против пистолетов и сабель – кулаки да палки. А когда враг докатится до крепости на пушечный выстрел, у него, Пугачева, пожалуй, не будет ни пороху, ни ядер.
Меж высоко вскинутыми бровями Емельяна Иваныча врубилась складка, и мучительно сжимается, не переставая ноет сердце.
Все притомились – люди и лошади, пугачевцы и голицынцы; притомилось, устало и солнце; закрывшись тучей, оно склонялось к горизонту.
Ведущий наступление генерал Мансуров предпринял коварный шаг: два эскадрона он послал на илецкую дорогу, двум сотням чугуевских казаков и двум эскадронам бахмутских гусар приказал занять большой оренбургский тракт, дабы отрезать пугачевцам отступление. В напутствие своему отряду генерал Мансуров сказал:
– Ежели вам этот маневр удастся, Пугачеву вживе не уйти от нас.
Гусары и чугуевцы начали не спеша огибать городок и крепость, но глубокие сугробы препятствовали их действиям.
Овчинников, заметив это движение врага, тревожно сказал Пугачеву:
– Видишь, батюшка?
– Вижу, – ответил Пугачев и тяжко, рывком, вздохнул. – Что делать, Афанасьич?
– Нам воевать, а тебе скрываться, батюшка! А то не дай Боже как бы в лапы тебе к ним не угодить. Я навстречь им кину сотенки полторы яицких да толпишку башкирскую, пускай задержат ворога на часок. А покамест дорога свободна, батюшка...
– Как можно, Афанасьич, – насупясь, прервал его Пугачев. – На то нет моего согласия, чтобы спокинуть армию...
– Не перечь, твое величество! – взбросив голову, уже сердито проговорил Овчинников. – Не перечь! Худого советовать не стану.
Пугачев ударил себя в грудь:
– Да лучше я лютую смерть приму, чем народ спокину!
– Брось, батюшка! Беги, пока не поздно!
– Сам беги!
– Нас-то таких много, а ты – царь! Пожалей себя и нас.
– Себя мне не жалко!
– Дело пожалей.
От сильного душевного смятения в лице Емельяна Иваныча подергивались мускулы и непроизвольно взмигивал правый глаз.
Умысел генерала Мансурова подметили и многие из пугачевцев. По два, по три, а то и в одиночку они скакали на конях, бежали пешими с разных мест к государеву знамени.
– Батюшка, втикай! – задышливо кричали люди, указывая на пробиравшихся к дорогам мансуровских всадников. – Глянь, дорога-то! Уходи, отец наш!
И вот толпа набежавших людей окружила Пугачева.
– Скрывайся, батюшка! Сохраняй себя, государь великий!
И к Овчинникову:
– Уйми, атаман, дьяволов-то, не лезли бы на дороги!
– А нешто не видите? – И атаман Овчинников махнул с коня рукой в сторону спешившего напересек мансуровцам отряда яицких казаков и башкирцев. Впереди скакал на рыжей лошади атаман Арапов.
– Детушки! – во всю грудь взголосил Пугачев. – У меня умысел был положен: либо побить всех изменников, либо с народом смерть принять.
– Ой, што ты, што ты! Тебе ли погибать?! – закричали в народе. – Не сироти нас.
Пугачев опустил голову.
– Ин будь по-вашему, – проговорил он глухо. – Поспешайте же и вы всяк в свое место!
Когда народ отхлынул, Пугачев обратился к Овчинникову:
– Прощай, Афанасьич! И вот что: коль скоро Катькины войска будут наступать с горячностью, доразу и ты втикай... всем гамузом. Да в крепость запирайтесь, там и стойте до последа!..
Они обнялись и под несмолкаемые шумы сражения расцеловались.
Битва шла теперь все более убыстряющимся потоком. Овчинников предвидел скорую развязку. Он приказал распахнуть крепостные ворота, и ближайшие к валу пугачевцы уже начали втягиваться в крепость, другие же отхлынули к городским постройкам.
...По дороге к Оренбургу скакали во весь опор всадники. С Пугачевым ехали: Почиталин, Коновалов, шурин Пугачева – Кузнецов, ослабевший в бою старик Витошнов, Пустобаев, Ермилка и незаметно примазавшийся Григорий Бородин. Вслед им мчалась полусотня чугуевцев, гикая и стреляя. Одна пуля на излете угодила в плечо Пугачеву, но под его чекменем надет железный башкирский панцирь. Бородач Пустобаев, видя, что Пугачев схватился за плечо, зычно крикнул ему:
– Батюшка, скачи! А мы чуток отстанем да острастку ворогу дадим.
Пугачев ударил коня плетью, а сопровождавшие его приостановились и, укрывшись за деревьями, приготовились к защите. Но притомившаяся на измученных лошадях погоня преследование прекратила. Чугуевцы повернули назад, а пятеро из них, подняв ружья кверху и звонко голося, устремились к выехавшим на дорогу пугачевцам.
– Не стреляйте! – голосили они. – Мы с поклоном к государю.
И всей гурьбой, радостные, поскакали вслед за Пугачевым.
А когда начало темнеть и утомленные, проголодавшиеся путники принуждены были позаботиться о пристанище, Коновалов сказал:
– Эвот в той рощице, недалечко от трахту, умет[33] есть. А содерживает его оброчный крестьянин, старик Фома.
Иван Почиталин тотчас поскакал в умет для наведения там порядка. Остальные, чтоб дать коням роздых, поехали шагом.
Емельян Иваныч со всеми ласково беседовал. Только на Григория Бородина – ни малейшего внимания. Впрочем, ему соблазнительно было спросить казака: «Пошто, мол, ты, этакий детина, не остался в крепости?» Но он воздержался от вопроса, опасаясь, что Гришуха, подобно Митьке Лысову, чего доброго, внатыр пойдет да скажет: «А ты, мол, сам пошто из крепости-то сбежал?» И еще у Пугачева был соблазн: послать своего шурина Егора Кузнецова в Яицкий городок за голубкой осиротевшей, за великой государыней Устиньей. «Нет, не под стать мне оные непотребные думки, да еще в этакое время», – упрекнул себя Емельян Иваныч.
Между тем правительственные войска, окружив крепость, лезли на обледенелый вал со всех сторон. Вдоль вала шла резня. Солнце давно село, наступили сумерки, а крепость еще держалась. Гренадеры и владимирцы ворвались в крепость первыми. Кавалерия, преследуя отступавших, проникла к Татищеву тремя въездами. Большая часть пугачевцев, после сильной перепалки, успела из крепости вырваться. Отступая, они вели упорный бой на илецкой дороге, противу команды Юрия Бибикова. Те, что остались в Татищевой крепости, защищались от ворвавшихся голицынцев с отчаянным ожесточением.
Войска Голицына преследовали отступавших. Атаман Овчинников с частью своих сил ушел в Илецкий городок, остальная толпа побежала бездорожной степью в сторону Переволоцкой крепости. Потери пугачевцев были очень велики. В плен попало около трехсот яицких и илецких казаков и более двух тысяч плохо обученных военному делу крестьян, башкир, татар, калмыков.
Потери правительственных войск тоже были значительны: три офицера и сто тридцать восемь солдат убито, девятнадцать офицеров и четыреста семнадцать солдат тяжело ранено.
Вконец истоптанное поле битвы было пусто. Лишь играли на нем две прибежавшие из Татищевой сытые собаки. Одна, черная, с торчащими ушами, схватила валявшуюся шапку и помчалась прочь, все время косясь через плечо – гонится ли за ней лохматый, рыжий, хвост кренделем, приятель. Тот догнал, на бегу вцепился в ту же шапку, и вот оба бегут рядом, как в дышлах кони. Враз бросили поноску – человеческая голова лежит! Наскоро полизали запекшуюся кровь на разрубленной шее, лизнули в нос, в бороду, в полузакрытые глаза. И снова – обе к шапке. Схватили, и каждая тянет шапку в свою сторону, упруго приседая на задние лапы, улыбчиво поглядывая друг дружке в зеленоватые глаза и незлобно урча.
Когда же спустилась сутемень, из рощи, из перелесков прокрались на место побоища хозяйственные мужички, весь день махавшие топорами и вилами на этом поле. Этакий изъян учинился им!.. Андрон топор потерял да самодельный нож, Ванюха – железный штырь с набалдашником да кожаные голицы, Вавила – топор да шапку, Митрий – новый кушак с кистями.
В небе каленые звезды крепли, всходила луна. Вправо темнела крепость. Из-за вала маячили отблески огней. Доносились к мужикам отдельные выкрики, звяк котлов. Вот ударил, рассыпался мелкой дробью барабан, затем ненадолго – тишина, и, нарушая ее, полилось во все стороны тысячегрудое пение вечерней молитвы: войска Голицына напились, наелись, готовились ко сну.
Крестьяне, их десятка два, ползали по снегу, выискивали нужное: топоры, шапки, рукавицы, пистолеты, ружья.
– В домашности все сгодится... Аркан? Давай аркан... Седла-то, седла с уздечками снимай с палых лошадей. Седла да ружья с пистолями царю-батюшке пойдут. Поди, сыщем его, надежу-государя...
В иных местах крестьяне, кряхтя и корячась на снегу, проворно переобувались: подобранные добротные валенки надевали на свои помороженные, в лаптишках, ноги.
– Ну, мужики, возище добра-то!.. А как дотащим?.. Мотри, пымают – головы ссекут!..
– Ни хрена не пымают!.. Дрыхнут! И солдатня, и начальники. Притомились все...
– Глянь! На коне кто-то бежит. Втикай, робя! – И крестьяне стадом бросились к оврагу.
– Стой, стой!.. – кричал, настигая их, всадник. – Не страшитесь, православные, это я, Максим!.. Ужли не признали?.. Я – Максим Обабкин!..
– Макся, ты?
– А кто же? – прохрипел всадник. – Ну, робя, молись Богу, Господь-батюшка нам милости послал! Полдюжины коней из крепости в рощу прибежали, там сено в стогах. Лошади-то, должно, еще днем сено-то заприметили, как бой был... У лошадей-то, чуешь, память дюжее, чем у кошек... Во!
Шестеро крестьян, прытко взлягивая, побежали к роще.
...На следующий день Голицын распорядился отслужить панихиду на могилах коменданта Елагина, его жены и бригадира Билова. В их память прогремел пушечный салют.
В числе четырех приговоренных к казни пугачевцев был повешен и старый дядька Шванвича – солдат-гренадер Фаддей Киселев. Он сам вызвался следовать из Берды за «батюшкой» в Татищевскую крепость и там нашел себе могилу.
К генерал-аншефу Бибикову и в Петербург поскакали курьеры с донесением князя Голицына о полной победе над Пугачевым.
4
На умете, куда подъехали путники, оказалось немало нагруженных скарбом подвод да с десяток верховых коней. Седла сложены в кучу, покрыты дерюгой. С полсотни было людей – пожилых и молодежи. Все они из дальних деревень устремлялись к Берде, к «батюшке».
Когда узналось, что сам батюшка приближается, народ всколыхнулся:
– Государь!
А вот и он сам. Крестьяне опустились на колени, вышел с непокрытой головой и старик Фома, хозяин умета, с ним трое бородачей – его сыны.
– Встаньте, детушки! – сказал Пугачев утомленным голосом. – Кто такие? И куда правите путь?
– К тебе, отец наш, к тебе, надежа-государь!.. – загалдели, подымаясь, крестьяне.
– Спасибо, детушки! Я в людях немалую нуждицу имею. Вот генералы царицыны наседают на меня. Крушат мою силу-то. Чаю, и посейчас под Татищевой бой идет. А я за подкреплением в Берду спешу.
– Не тужи, батюшка, не печалуйся, осударь великой, – заговорили в толпе крестьян. – Нашей мужицкой силушки будет при тебе, свет наш, сколь хошь.
– Благодарствую... Не ради себя, ради вас, мир людской, радею, – растроганно сказал Пугачев. – Ну, здорово, дедушка Фома! – обратился он к кивавшему лысой головой хозяину умета. – Вот приехали погостевать к тебе. Дай, стар человек, приют нам.
– Батюшка, отец наш! – закричал и от прилива чувств скосоротился старик. – Все для вашей милости и для слуг твоих сготовлено...
Уж из трубы дым валил, в печке потрескивали поленья, две хозяйки стряпали в обширной избе ужин.
– Ты, как поснедаешь, твое величество, – обращаясь к Пугачеву, сказал пожилой вожак артели, – ложись с Богом на спокой. А уж мы твою милость постережем. Животы положим за тебя. Уж ты поверь, с тем шли. Мы, ведаешь, из лесов сами-то, звероловы, ружьишки с собой прихватили, вот и две собачонки-медвежатницы. Эй, Андрюха! – закричал он, оглядывая сквозь густые сумерки толпу крестьян. – Отбери-ка поскореича с десяток наших, кои подюжее, да айда за мной к околице. Ребята! Оружайся! Бекеты выставим, всю ночь караул держать будем. Да парочку вершних коней, еще Волчка с Шариком. В случае чего – примчим, шум подымем!.. Сами не дозрим – псы учухают.
– Где, старинушка, ногу-то потерял? – спросил Пугачев ядреного, брюхатенького, на деревянной ноге деда.
– В прусскую кампанию, ваше величество! Бывший лизаветинский солдат.
– Под Кенигсбергом был?
– Бог сподобил, ваше величество! А при корпусе графа Румянцева, как брали крепость Кольберг, ноженька моя обманула меня, похарчилась, ядром сразило...
– Так неужели и ты ко мне против супостатов собрался?
– Этак, этак, ваше величество!.. Да ведь на коне-то я управный. Из ружья могу, а нет – так и пикой чекалдыхну!
– Ведь он, батюшка, паронщик, пароны снимает, – заголосили обступившие царя крестьяне.
– Какой такой паронщик? Не слыхивал, – сказал Пугачев.
– Да я, ваше величество, кровь останавливаю да от ран лечу, стреляных да рубленых. Сего ради зовусь – паронщик. И заговаривать могу. От пули, от картечи, от ядра...
– А пошто же себя не заговорил? – улыбнулся Пугачев.
– Да, чуешь, заговор-то спознал я опосля ноги поврежденья, ваше величество...
– Ну, послужи, послужи мне, старина!
Когда Емельян Иваныч направился к избе, его бережно подхватили под руки.
– Люб ты нам, надежа! – закричали мужики срывающимися голосами. – Простой ты, ваше величество, свой! – шумели они, гурьбой провожая батюшку до дверей.
Во дворе зажгли костры. Приготовились караул держать всю ночь.
Емельян Иваныч долго не мог после ужина уснуть. На него, как пуганые птицы на приманку, спускались сны и тотчас отлетали, опять опускались и отлетали вновь. В его взбудораженном мозгу одна за другой возникали только что пережитые сцены боя. В полубредовом состоянии он вдруг встряхивался, кричал: «Детушки, грудью, грудью!» – и приходил в сознание. Его сердце переполнялось кровью, в ушах гремели раскаты пушечной пальбы, перед закрытыми глазами скакали всадники, бежали, валились люди... Так неужто же всему конец?
Непереносимая тоска опрокинулась на него, он застонал, поднялся с кровати и, выставив вперед руки, пошагал через тьму к слабо освещенному извне окну. Сквозь наполовину промерзшее стекло заглянул во двор. Два костра, возле них крестьяне: сидят, балакают, попыхивают трубками. «Караулят меня, государя», – подумал Емельян Иваныч и вдруг почувствовал, что тяжесть сваливается с его сердца.
– Нет, врешь! Погодите-ка, Голицыны-Рукавицыны... Мы еще побарахтаемся! – произнес он вслух и широко заулыбался.
Вот этого главного, этого основного у Емельяна Пугачева – «побарахтаемся!» – недооценили ни правящий Петербург, ни сам Бибиков. «Точно жернов с сердца свалился», – писал он жене в день получения известия о победе под Татищевой. А князю Волконскому, в Москву, генерал-аншеф писал: «Теперь я почти могу ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо только одно главное затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою».
В свою очередь князь Волконский спешил поздравить Екатерину: «Я обрадован, что злодей Пугачев с его воровскою толпой князем П. М. Голицыным совершенно разбит и что оно, внутреннее беспокойство, которое столь много ваше милосердное матерно сердце трогало, ко концу почти пришло, приношу всенижайшее и всеусерднейшее поздравление».
Радостное известие это Екатерина прочла рано утром, еще в папильотках, чепце и пеньюаре.
– Браво, брависсимо! – воскликнула она. – Стало быть, инсуррекции конец! C'est fini!..
На имя Екатерины тотчас посыпались поздравления, и она сама спешила поделиться этой радостной вестью со своими близкими. В одном из своих писем она говорила, что после дела под Татищевой «гордящиеся сим разбоем ненавистники наши поубавят свое ликование». В адрес таких «ненавистников» в коллегии иностранных дел уже сочинялась графом Никитой Паниным для гамбургских газет особая статья о победе под Оренбургом. Послы и посланники европейских держав спешили известить свои правительства. Так, сэр Роберт Гуннинг писал 8 апреля графу Суффольку: «Вчера от генерала Бибикова приехал курьер и привез весьма приятное известие об окончательном подавлении мятежа, вследствие совершенной победы, рассеявшей все мятежное войско».
Однако ближайшие события показали, что взбаламученное народное море еще долго будет шуметь и волноваться.
Глава IX
Оборона Уфы. «Чиновная ярыжка». Берда встревожена. Хлопуша идет за кандалами
1
Говорят, сердце сердцу весть подает. А вот сердце Устиньи не почуяло, что с ее венчанным супругом приключилась сущая беда. Она все еще томилась новизной своего необычного положения, наслаждалась сытой жизнью и тем непривычным вниманием, которым была окружена. Но все же продолжала скорбеть и тосковать, как тоскует вольная птица, посаженная в золотую клетку. Где ты, красная девичья воля, где душевный покой, где ты, юная казачка Устя, песенница и первая плясунья.
Просыпается она поздно, и белоснежная наволочка на ее подушке почасту мокра от слез. Одеваться помогают ей «фрейлины», обращаются к ней: «ваше величество». Такое титулование ей было сначала смешно – она снисходительно улыбалась; затем вызывало раздражение; теперь она стала привыкать, как привыкает человек к обидной кличке.
Сегодня одно платье, а завтра другое; сегодня – утренний чай с малиновым вареньем и жаренными в масле пышками, завтра – с янтарным медом и пирожками с осетриной, рисом, яйцами. Щеки Устиньи начали круглеть, движения отяжелели, молодое тело расслабилось в непривычной, вынужденной лености.
Ее отец Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов – «стражи ближние ее здоровья» – жили в том же доме, внизу. Там же помещался и гусляр-слепец Дерябин. Поднимались они наверх только по зову, и к обеду Устинья их не приглашала. С нею обедали лишь «фрейлины» и главная распорядительница, Аксинья Толкачиха. Обеды были обильные, с вином и сладостями. Внизу тоже кормились неплохо: баба Толкачиха, заботясь о своем муженьке Михайле, тащила туда жареным и пареным. Денис Пьянов со слепым Дерябиным всегда были под хмельком.
Степенный Петр Кузнецов тосковал по дочери, он иногда заходил к ней без приглашенья и не знал, как вести себя с «великой государыней». Ежели был у нее народ, она отзывала отца в спальню, кидалась ему на шею, жарко выдыхала: «Батюшка, родимый батюшка» – и тихо плакала. Он всячески старался подбодрить ее, успокоить; неискренние, не от сердца, а от фальши, ронял ненужные ей слова: «Это Господь вознес тебя на такую высь... Шутка ли – царица!» Она выслушивала отца молча, сквозь слезы смотрела на него скорбными глазами, говорила: «Да ведь ежели это счастье, то и ему, батюшка, конец виден... Чует сердце-то...» – «Ништо, дитятко, ништо, – утешал ее отец, и глаза его тоже увлажнялись. – Молись Богу, пуще молись, вот и во счастье будешь. Да ведь о твоем здравии царском и по церквам попы богомолебствуют. Поди, скучаешь о государе-то своем?» – «Скучаю», – помолчав и повертывая голову к окну, раздумчиво отвечала Устинья. Отец, пристально посмотрев на нее, вздыхал и говорил: «Вишь, в какой холе содерживает государыню свою... Эвот платище-то какое!» – «Это называется – фижмы: китовый ус подоткнут с испода-то, – вишь, как топорщится». – «Богатства у тебя много, семь сундуков у нас внизу». – «Так ведь они запечатаны, государь не приказывал трогать». – «Часто ли пишешь государю-то?» – «Часто. Ведь я у дьячка Парамоныча училась грамоте-то, сам знаешь. Хошь и коряво, а выходит. И оставлены мне батюшкой формы, как подписываться: „царица и государыня Устинья“. Старик опять крадучись вздыхал, смотрел на дочь с великим сожалением, затем осенял себя крестом и, улыбаясь, говорил: „Взыскал нас своей милостью Господь праведный“.
Каждое утро приходит к Устинье атаман Каргин, чтоб рапортовать государыне о состоянии постов и вообще о разных «казенных» делах-делишках. Иногда он или его помощники спрашивают ее приказаний. Она машет на них рукой, говорит:
– Уж это как хотите, так и делайте. Коли сами не умеете, шлите гонца к государю, он вас поправит.
Она сидит, они стоят навытяжку.
По воскресеньям и в другие праздничные дни приходит к ней на поклон с поздравлением все начальство. Благочестивый атаман Каргин, кланяясь, кладет возле нее на стол просвирку:
– За драгоценное ваше оздравие подавал я, твое величество, – говорит он, снова отвешивая поклоны.
Кивком головы она благодарит его и приказывает Толкачихе поднести гостям по стакану вина. Они выпивают, кланяются и уходят.
Когда она появляется с Толкачихой и фрейлинами на улице, дежурный есаул выкрикивает честь – приветствия. Государыня милостиво раскланивается с бравыми молодцами и садится в сани, чтоб из улицы в улицу проехать по городку.
Грачи прилетели. Солнышко. Весна идет. Радоваться бы! Но у государыни Устиньи голова огрузла от дум. Едет она из улицы в улицу, отвечает встречным на поклоны. «Эх, Даши нет, прокатилась бы с нею, умным словечком перемолвилась бы, – думает она. – Несчастная Даша... Государь сказывал мне, что Николаева твоего убили. Нет, ты счастливая, ты найдешь себе по душе другого. А вот я – как птица в клетке. Придет кот, взломает клетку и... прощай жизнь! Может, Симонов, может, Рейнсдорп или другой какой... Да закогтят они и государя моего...»
– Поворачивай лошадок, Васенька, довольно, накаталась!
Иногда по ее зову собираются к ней девушки поиграть, повеселиться. Они одеты в лучшие наряды. Устинья надевает аметистовые бусы, жемчужные серьги, дорогие кольца. Самоцветы искрятся переливными огоньками, как под морозною луною снег. Девушки ведут себя стеснительно, жеманно. Говорят вполголоса иль шепчутся, а сами не спускают умильно улыбчивых, но завидущих глаз с этой Устиньи Кузнечихи, что вознеслась над ними, что увешала себя разноцветными каменьями да расфуфырилась, как пава!
Но вот подают вина, подают сладости. Девушки пьют, языки их развязываются, ноги просятся в пляс. Призывают слепца-гусляра, зачинается веселье. И чем больше выпито вина, тем угарней становится пирушка. А когда в теплых сенцах кукарекают третьи петухи, все пьяным-пьяно. Пьяна и государыня. Возле нее сгрудились подгулявшие казачки. Одни стараются обнять ее за шею, ластятся к ней, как котята к кошке, другие ползают в ногах, целуют колени, третьи норовят ехидно ущипнуть ее, якобы щупая добротность платья. И все наперебой уже не «ваше величество», а:
– Устя! Слышь, Устинья!.. Подруженька наша... Высоко залетела ты!
Устинья, опираясь о ручки кресла, вдруг вскакивает, прикусывает побелевшие губы, с силой топает золотою туфелькою в пол и, сверкая обозленными глазами, кричит:
– Подите прочь! Вон! Все вон!
Становится тихо и безлюдно, лишь свечи горят да, капелька по капельке, булькает из рукомойника вода в лохань. Одинокая Устинья срывает с себя дорогие бусы, валится возле стола на колени, взбрасывает локти на столешницу, стискивает ладонями голову и разражается жалобным плачем.
Толкачиха выглядывает из-за двери и страшится войти, чтоб ее утешить.







