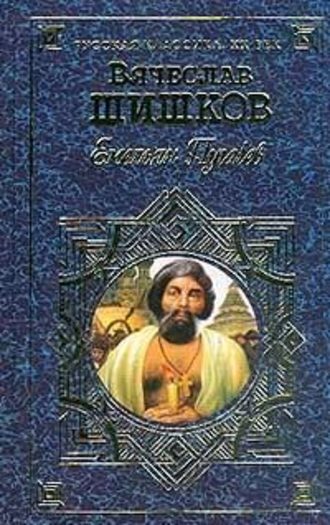
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
Глава II
Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полудержавный властелин
1
Узнав, что Пугачев оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды к крепости Ново-Сергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками слободы: Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался.
Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачева.
– Нет, други мои, – сказал он, – этим местом нам не пройтись, видно, и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.
Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убойные: то раздрябшие сугробы, то по колено коням грязь. Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачева были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполусерьез-вполушутку:
– Если нам в здешнем краю не удастся, пойдем, детушки, прямо в Питенбург. Чаю, наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там...
Атаманы упорно молчали. Их дюже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армией ночевали на хуторе проводника казака Репина.
Снег быстро таял. Всю ночь с крыш дружная капель била. По оврагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.
Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами.
– Теперича мы, Петр Федорыч, словно бы в шашки с Голицыным играем, – через силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате за столом, ели кашу. – Как бы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер Голицын-то...
– Не моги ты, Григорьич, об этом и думать, – угрюмо возразил Пугачев. – Лучше прикинем-ка, детушки, куды теперь пойдем.
– Пойдем в Каргалу, Сакмару ды на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев городок[38], там добудем провианта, – отвечали ближние.
– Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? – усомнился Пугачев.
– Конешно дело, долго там сидеть несподручно будет, – отвечали атаманы.
– Я бы вас на Кубань провел, – задумчиво сказал Пугачев, – да теперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти, врагом заняты, в степу еще снега, да и провианту маловато у нас... Пожалуй, и не пройдешь таперь...
Никто не знал, куда идти, как от беды спасаться. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен наособицу, он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни ее брата джигита Али, ни Шванвича... Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу?
Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева чрез переводчика Идорку:
– Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?
– А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо еще куда подале... Пробудем там до весны, а коль скоро дождемся хорошего времени, поведу я свое воинство на Воскресенские Твердышева заводы.
Кинзя вдумчивыми глазами воззрился в похудевшее лицо Пугачева и бодрым голосом сказал:
– Ну, ежели вы на заводы придете, в нашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.
– Благодарствую, Кинзя Арсланыч, спасибочко тебе!.. Верный ты, – растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.
Он тотчас приказал Падурову и Почиталину написать воззвание к башкирскому народу. И письмо князю Голицыну.
– Пускай князь пораздумает, с кем воюет, супротив кого идет, – приподнято говорил Пугачев, силясь произвести впечатление на ближних. – Да не забудьте, господа писаря, напомнить ему, что, мол, отцы и деды его верой и правдой служили моим приснопамятным предкам.
Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой, да Горбатов офицер с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?»
26 марта Пугачев с войском был в Каргале, он занял ее без боя, так как Рейнсдорп и не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атаману Мусу Улеева и всех каргалинских старшин насмерть переколоть, дома их сжечь.
Две красавицы татарки – Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачева помиловать их мужей – сотника и атамана. Но Емельян Иванович в раздражении сказал им:
– Ваши мужья – не люди, а собаки! Они, изменники, наипервейшего слугу моего погубили – Хлопушу.
Учиня быструю расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было 300 человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощекий Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.
В тот же день Пугачев занял Сакмарский городок, а так как провианту в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось чего ни то там сыщешь».
Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:
– Когда ты свою Стешу отправлял домой, не заприметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?
– Нет, Тимофей Иваныч... За суетой и ни к чему мне было... Не до баб теперь.
Творогов быстро налетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл провианта, но, приметя, что к слободе подступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьма на своих конях. Невзирая на весенние, радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем и тоской в глазах ехала к своему Падуру.
– А где Шванвич? – спросил Творогов.
– Мы искали его, нету, – ответил Али и переглянулся с сестрой.
Губернатор Рейнсдорп, чтоб как-нибудь оправдать свое ротозейство, в донесенье по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было произведено «злодеями» под прикрытием густейшего тумана: «Внезапну подкрались и ударили». Но член-корреспондент Академии наук Рычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал: «Могло статься, что в оной слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было».
Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам наступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему, Мансурову, на Яик.
Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианта и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.
Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвоном, пушечной пальбой и радостными криками обывателей.
Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачева.
Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады. Коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знал, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам. После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как все гости, князю Голицыну был представлен в виде курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со «злодеями», о поездке к Пугачеву и страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости немало смеялись.
– А господин Пугачев-то, смотрите-ка, остроумец изрядный, – говорил князь и обратясь к купчику: – Так кто же вы теперь, Полуехтов или Полуухов?
– Ухи целы, ваше сиятельство... Стало, я, как и допрежь, Полуехтов, – захлебываясь, бормотал купчик.
– Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! – восторгался Рейнсдорп. – С одной крюшка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!
Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил ее на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:
– Носи с честью, молодой человек, такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.
Первого апреля, в два часа утра, Голицын двинулся из Берды. Приближаясь к Каргале, князь узнал, что ему навстречу выступили из Сакмарского городка Пугачев с двумя третями своего войска.
Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборожденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилеями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления. Пугачев приготовился к защите своей сильной позиции и на «самонужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.
Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели пугачевские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила пугачевцев бросить свои позиции и начать отступление. Они отступили на три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.
Голицын, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских испытанных и приноровившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного, хорошо вооруженного врага с внутренним шатанием.
И действительно, после нескольких удачных выстрелов голицынских пушек среди пугачевцев возникло замешательство.
Пугачев скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня:
– Грудью, детушки! Не трусь! Стой на месте!.. – но в его голосе уже не слышалось разжигающего задора.
Суетились в своих частях и Падуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев.
«Ну до чего жаль, что нет Овчинникова», – скучал сердцем Пугачев.
Сердце Фатьмы было тоже неспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Ивановича Падурова. Ей чудится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова... Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под мерлушковую шапку, и помутившиеся, словно пьяные, глаза? Скверно на душе у Фатьмы.
За Емельяном Пугачевым скачет Ермилка, у него в поводу – три заводных коня «на всякий случай для батюшки, он – Бог с ним – хоть и не толст, да дюже грузен – как из железа сбит, под ним любой конь заживо зашатается».
Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицынская картечь как градом стегает по пугачевцам. Вот засвистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь то там кидается врассыпную, но, воодушевляемая личной отвагой Пугачева и полковника Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собой. Оренбургские и яицкие казаки спешились. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».
Стремясь отрезать отступление противника, голицынские гусары спешат охватить фланги пугачевцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Ее конь храпит и кружится. Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где пестреет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.
– Казаки! Вперед! Не робей! – размахивая саблей, командует с коня Падуров.
Казаки выхватывают сабли, берут на изготовку пики, кричат воинственно «ги-ги-ги!». Но под ударами вражеской картечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтоб не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вперед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый, с желтым иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым громоздится на коне тучный мулла с белой чалмой на голове.
– Глянь, Падур! – прокричал испуганно Али. – Мулла с купцом... Ой, алла-алла, они Фатьму ищут...
– Не государя ли?
– Нет, Фатьму!.. Давно ее ищут... Худой дела... – И Али, взмахнув локтями, поскакал.
Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голицынцы. И непонятно было, где свои, где чужие, – все смешалось.
Еще немного, и под жестким натиском голицынцев, под грохот их пушек пугачевское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку.
Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачев скакал среди отступающих и в гневе голосил:
– Гей, гей! Гуртуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Кроши их!..
Отделясь от толпы, он поскакал с Ермилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтобы ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.
Гусарский офицер-рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачева, заорал своим:
– Лови Пугачева! Кто словит – десять тысяч!
И вот изюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали напересек Пугачеву.
– Государь! Эвот государь! – вырвавшись из перелеска с горстью храбрецов-казаков, пронзительно закричала Фатьма. – Спасай бачку-государя!..
И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы ее плескались по спине, в сильной руке сабля.
А позади нее, догоняя сестру, спешил молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на притоптанное место. Али бьет его плетью, надрывается в крике:
– Фатьма, назад!.. Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов... – Но, смертельно сраженный пулей, он, круто качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает.
Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрякнув, рассек ретивого офицера пополам и, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику.
Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, похрапывая, взвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Иванович успел скрыться из виду.
Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется – одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.
Падуров вдруг усмотрел свою татарку.
– Фатьма! Фатьма! – во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.
За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать ее коня в глубокую снежную застругу.
Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительной белой чалмы.
– На по-о-омощь! – кричит обезумевший Падуров. – Братья казаки, на помощь!
Но казаков нет вблизи, – спасаясь от гибели, они прянули в лес.
И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова.
– Алла! Алла! – визгливо вопил старик, настигая Фатьму.
Коня татарки загнали по грудь в сугроб. Из ее рук гусары выбили саблю.
– Падур! Падур! – кричит Фатьма.
Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит ее с коня. С гортанными криками, подобными клекоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.
И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подгоняя ударами плеток; он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами.
Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей.
– Сто-сто-стой! – неистово завопил подскакавший мулла. – Ля илля! Именем Мухамеда, стой!
В пухлой руке муллы – грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возводит налитые кровью глаза к небу и сиплым голосом бросает Фатьме: – Проклятая! Закон Аллаха повергла!.. Так умри же, дочь шайтана! – и, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы.
Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, пала.
Изо рта ее хлынула кровь. Мулла весь дрожит, затем начинает громко икать, двойной подбородок его, обтянутый лоснящейся кожей, колышется.
– Руби!
Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрыты.
Все кончено. Цвела жизнь, и не стало жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за других, идет мимо смерти – в память народную.
Голова воткнута на копье и вознесена над землей. Иссиня-черные косы повисли, как ветки плакучей ивы. Указывая на мертвую голову, мулла поучающе молвит:
– Великий Аллах и Мухамед, пророк его, дали мне мощь сразить цвет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме... Проклятье человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших!.. Ля илля!..
Он заунывно поет из Корана, к его голосу хором пристают татары.
2
Тем временем отступавшие пугачевские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно: изюмские гусары и чугуевцы с двух сторон налетели на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы, солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падях, по дну которых стремились потоки вешней воды, была гибельна для отступающих.
Преследуемые, утратив в конце концов всякий порядок, бежали пешими и скакали на конях, не помня себя. В узком междугорье они стеснялись так густо, что давили друг на друга. Лишь отдельные кучки удальцов с последней яростью продолжали обороняться, но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался – бежал в городок прятаться в подпольях, в банях, на чердаках.
Емельян Иванович скакал на свежем коне к Пречистенской крепости. Пугачевцы были разбиты и рассеяны.
Сакмарский городок оцепили воинские части Голицына. Производились повальные обыски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников.
Связанного Падурова с арканом на шее вели через опустевшее поле. У него темнело в глазах, мутились мысли, звучал в ушах беспрерывный, пронзающий душу голос татарки: «Падур! Падур!..»
Возле него стонут, ползут, кой-как движутся раненые, он шагает словно в бреду через трупы своих и врагов, и все вокруг него захлестнуло дымкой.
Вдруг он видит – лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов – руки раскинуты, глаза в небо, безмолвствует.
– Андрей Иваныч! Витошнов! – вскричал Падуров и приостановился. – Господа гусары, дозвольте... Он нашей Военной коллегии главный судья. Может, старичок жив еще.
– Иди! Иди!.. Жив, так приколем... – закричали гусары, и один даже слегка стегнул Падурова плетью.
В станичной избе, куда ввели Тимофея Падурова, сидели на скамье связанные: близкий друг Пугачева – Максим Григорьич Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин и главный писарь Военной коллегии Максим Горшков. Они сидели понурые, сгорбленные, с низко опущенными головами. Холеная, обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня Почиталин, уставившись в пол, часто взмигивал, утирал глаза рукавом изодранного в свалке чекменя.
Падуров взглянул на товарищей, остолбенел, покачнулся. Измученным голосом сказал:
– Братья казаки, старик Витошнов убит, Фатьма убита... Жив ли батюшка?
Ему никто не ответил. Кровь разом отхлынула от его мозга, задрожало, остановилось сердце, он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол.
С толпой в пятьсот человек[39] Емельян Пугачев, как гласят показания сообщников его, бежал «не кормя во всю прыть до Тимошевой слободы. По приезду в ту слободу, только что накормили лошадей, то поскакали опять и, приехав в село Ташлу, ночевали».
Избежав прямой опасности, Емельян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли. Он недосчитывался многих соратников своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знает о судьбе друга своего Шигаева, Вани Почиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витошнова.
Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть – во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»
Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиби-Нос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи.
Но вот наконец-то они напали на его след. Вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, едва державшийся на ногах от пережитого им в скитаниях голода, холода и треволнений, входит к Пугачеву в дом.
– А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? – вскакивает Пугачев, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. – Ну, как да что?
Братски поздоровавшись с Пугачевым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.
Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил ее веревками к заводному коню, чтобы не упала, и примчал вместе с попом-расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачеву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!
Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся, в свою очередь, рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода.
– Как видишь, я всех растерял своих, один остался... Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка полководец, да Ненила генеральша. Да еще, кажется, поп Иван. Вот и все свитские мои... – пробовал шутить Пугачев, но это ему на сей раз не удавалось. – А знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим Павлом Носовым, бомбардиром? Убит, поди?
– Нет, государь, не убит...
– Ранен, что ли?
– Ни то, ни другое...
– Так что же с ним?
– Повесился, государь. Перешиби-Нос видел это...
– Ой ты!.. – выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца.
Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все еще те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насквозь прозябшим хриплым голосом заговорил:
– Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкие, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить... Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь-поглядь – направо пушка стволиной над обрывом свесилась, на пушке – на стволине, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах... Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут... Я кричу во всю глотку: «Дедушка-дедушка!.. Что ты надумал... Побежим!» А он: «Батюшку побереги!..» – да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти, беда!.. А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах... Я на коня, да и укатил. А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз. ...Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... это, как его... – вдруг осекся Варсонофий. – Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знавал.
Пугачев слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:
– Превечный спокой его головушке... Верный был.
Емельян Иванович еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отсморкнулся на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.
– Благодарствую, – каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:
– Скажи-ка отцу Ивану, чтобы помянул старика Носова... Павла Носова. Да и других прочих, которых... Э-эх! – отмахнулся он рукой, ссутулился и повернул голову вниз и вправо, как будто силясь что-то рассмотреть в темном углу избы. Затем тихо проговорил:
– В Яицком городке слепой старик такой есть, Дерябин прозвищем, он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина, – и Пугачев, приподняв руку, посверкал кольцом. – Ну так вот старик пел: «По боярам панихиду ворон каркает...» Страшусь, как бы не по боярам, а по нам по всем ворон не скаркал панихиду-то... Мы здесь люди свои, да прямо говорю, без обиняков, в открытую... Истомилось сердце-то мое... Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши...
Горбатов, видя расстроенные чувства Пугачева, воскликнул:
– Не унывайте, государь! После ненастья будет и солнышко.
Эти идущие от сердца слова снова озарили озябшую душу Пугачева.
– А я, ведаешь, и не унываю, – вскинув голову, ответил он. – В военном деле, ваше благородие, удача переменчива: сегодня он меня за бороду, а завтра я ему ногой на брюхо и кровь сосать. Еще мы, ведаешь, этим Рукавицыным-Голицыным пятки-то к затылку подведем. Кабы я тогда поболе народу из Берды захватил, под Татищевым-то мы смяли бы князя. Поди, сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились.
Пугачев то подбоченивался, то пристукивал ладонью по столешнице.
– А скажите-ка, ваше благородие, где Шваныч? – вдруг обратился он к Горбатову.
– Не ведаю, государь, – ответил тот. – Только знаю, что в Татищевой его не было.
– Хм, – сказал Пугачев и призадумался.
Как раз в это время в Оренбурге снимали с Михаила Шванвича второй допрос. Между прочим он показывал: «А как Пугачев по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько возов, неизвестно – с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставив в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали? А как отвечал: „Почти все“, то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки, человек восемь, которых спросил я: „Куда вы едете?“ А как они отвечали, что „гонят нас насильно за Пугачевым“, на то я им сказал: „Лучше поедемте не за Пугачевым, а в Оренбург“, почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом, и передан офицеру».
В этом показании, ради облегчения своей участи, Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так. Когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать: следовать ли безоглядно за самозванцем или, спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все пугачевские из Берды уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы, и ясность мысли затмевалась. О, если бы был с ним Падуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев Фаддей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете, но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный, хехекающий голос: «Здесь, здесь, берите его, я видел...» Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет.
– Хе-хе-хе... С праздничком, ваше благородие! – с подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь, барашком проблеял в лицо Шванвичу «чиновная ярыжка».
Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный, он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова, обращенные к пропойце чиновнику:
– Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одураченному мужичью и внушай сим скотам бессмысленным, чтоб шли в Оренбург с повинной.







